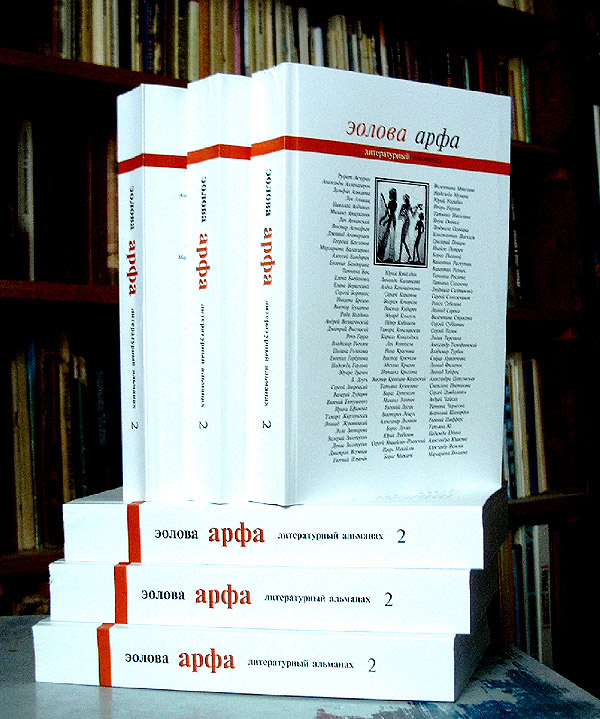
ЭОЛОВА АРФА
Литературный альманах «Эолова арфа»
Выпуск 2
Издание Нины Красновой
Москва
2009
- - - - - - - - - - - На 1-й внутренней
обложке альманаха высказывания Гоголя о
языке некоторых поэтов
Н.
В. Гоголю – 200 лет!
__________________________________________________________________
Николай
Гоголь
О
языке и слоге некоторых поэтов
...поэты
берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это –
огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши
сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в
какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие
оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык
наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический, бронзовый
стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот
густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий,
праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света;
этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного
ущелья; этот легкий, воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук
эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского,
проникнутый подчас едкою, щемящею русскою грустью – все они, точно разнозвонные
колокола или бесчисленные клавиши великолепного органа, разнесли благозвучие по
русской земле.
1845. В чем же
наконец существо русской поэзии
и в чем ее
особенности.
При
имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. (...) В нем,
как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка.
Он более всех, он далее всех раздвинул его границы и более показал все его
пространство. (...)
1832. Несколько слов
о Пушкине.
Никто
из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выражения, как Пушкин, так не
смотрел... за самим собою, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь
приторности...
...поэзия
была для него святыня, – точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и
неприбранный...
1845. В чем же
наконец существо русской поэзии
и в чем ее
особенности.
-
- - - - - - - - - Титульный лист 1-я
стр. - - - - - - - - - - - - - - - - -
ЭОЛОВА
АРФА
литературный
альманах
выпуск
2
Издание
Нины
Красновой
Москва
2009
-
- - - - - - - - - - - Конец 1-й титульной стр. начало 2-й стр. - - - - - - - -
- - - - - - -
ББК
84 Р7
Э
69
Главный
редактор Нина Краснова
Э
69 Эолова арфа
Эолова арфа: Литературный альманах Выпуск 2
/ Главный редактор Нина Краснова. - М., 2009. - 672 с.
Во
втором номере альманаха "Эолова арфа" читатели найдут новый рассказ
Ю. Кувалдина, и повесть Е. Лесина, и мемуары Н. Красновой о Короле пародии А.
Иванове, и новые стихи поэтов-шестидесятников - А. Вознесенского, К. Ковальджи,
Т. Кузовлевой, А. Тимофеевского, Т. Жирмунской, Е. Евтушенко, а также стихи
поэтов "потерянного" поколения, семи-восьмидесятников - С. Каратова,
Э. Грачева и др., и поэтов-девяностодесятников - В. Дударева, Б. Лукина, К.
Паскаля и др., и поэтов более молодого
поколения. И очерки Л. Жуховицкого и Л. Аннинского, и затрагивающие больную
национальную проблему очерки В. Кузнецова-Казанского, и статью Л. Звонаревой и
болгарского литературоведа И. Петрова о теме женщины, любви и семьи в поэзии Ю.
Кузнецова, и эссе Е. Богдановой о канадском пианисте Г. Гульде (в первом номере
была напечатано одно блистательное эссе о нем, а теперь - второе, такое же
блистательное), и письма Т. Бек поэтессе Т. Черыговой. Не может не привлечь к
себе внимания читателей эссе С. Михайлина-Плавского “Моё открытие чёрного
квадрата”, и не увлечь глубокая проза В. Кеворкова. И рассказы Э. Клыгуля, Н.
Горловой, А. Логинова и ироническая сценка И. Михайлова "Юбилей", и
отрывок из фантазийного романа Л. Осокиной "Козел отпущения". И
польский юмор - рассказ и миниатюры Я. Осенки в переводе А. Шамардина, и
"китайские сокровища мудрых мыслей" в его же переводе.
Среди
авторов альманаха - не только москвичи, но и авторы из разных регионов и
городов России, члены литературного объединения "Радуга" Рузского
района Московской области, поэты Урала, Уфы, Нижнего Новгорода, Белгорода,
Рязани. Земляки С. Есенина идут в альманахе самой большой группой, широким
фронтом, во главе со своими лидерами, А. Бандориным, Л. Салтыковой, В.
Крючковым, С. Дворецким, поэтом-бардом М. Крыловым... Они выносят на суд
читателей и свои стихи, и свою прозу.
А
из стран Ближнего Зарубежья, бывших республик СССР, в альманахе - выступает со
своими стихами современный классик Туркмении поэт А. Алланазаров... а
знаменитая личность Еревана, литературовед М. Амирханян предлагает читателям
отрывок из своей книги "Россия и Армения", о культурных связях
русских и армян, который напечатан в разделе "Дни Русского Слова в
Армении". А профессор-славист Р. Герра из Дальнего Зарубежья, из Франции,
пишет о поэте Г. Певцове, предваряя подборку стихов этого современного
литературного потомка поэтов Серебряного века и переводчика французской поэзии.
Есть
в альманахе раздел памяти Р. Казаковой, с воспоминаниями о ней С. Телюка и З.
Алькаевой и с их стихами, посвященными ей. Есть разделы, посвященные 95-летию
патриарха поэзии В. Бокова и 85-летию Вл. Солоухина, которого в 1997 году
отпевали в Храме Христа Спасителя. Кроме того в альманахе есть большой раздел,
посвященный 45-летию Театра на Таганке: интервью с театраловедом,
искусствоведом П. Кобликовым, раритетным зрителем Таганки с 1966 года, "букеты"
стихов от Т. Николиной для Ю. Любимова, В. Золотухина, для всей Таганки, стихи
молодых артистов этого Театра - Д. Высоцкого, С. Цимбаленко, Р. Акчурина, тут
же и 30 писем из архива В. Золотухина, "летописца" и "домового
Таганки", от писателей В. Астафьева, Ю. Нагибина, В. Распутина, Б.
Полевого, от артиста Л. Филатова, от композитора С. Сапожникова.
А
открывается альманах повестью дагестанского художника Д. Агамирзаева, живущего
и работающего в Москве, "Мешочек из белой бязи для карамели с абрикосовой начинкой",
или "Карамельки", с предисловием В. Золотухина.
ISBN 5-85676-125-1
ББК 84 Р7
-
- - - - - - - - - Конец 2-й стр. начало 3-й - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
О
2-м НОМЕРЕ АЛЬМАНАХЕ «ЭОЛОВА АРФА»
«Эолова
арфа», оправдывая поговорку «свЯто место пусто не бывает» и возникнув на
«свЯтом месте» рухнувших «Истоков», с 1-го же своего номера, обрела своих
читателей и почитателей в литературных кругах и обратила на себя
благослоклонное внимание прессы и даже вошла в число «пяти лучших книг недели»
по рейтингу «Независимой газеты» НГ Ex Libris,
чему авторы и создатели этого альманаха могут только радоваться. И сразу же со
всех уголков Москвы и России, из провинциальных медвежьих углов, и из Ближнего
и Дальнего Зарубежья в альманах устремились неостановимые потоки (толпы)
служителей Аполлона, пишущих кто стихи, кто прозу, кто и то, и сё, в общем –
кто что, и желающих выступить со своими произведениями на страничных площадках
«Эоловой арфы» и прозвенеть и прогреметь в литературном пространстве на всю
Ивановскую и на всю Тверскую-Ямскую. И таким образом количество авторов 2-го
номера, при том, что у нас не было задачи специально увеличивать это
количество, а даже было намерение слегка подсократить его, выросло с 52-х до
105-ти... О ужас! Что из этого получилось, смотрите сами, любезные читатели.
Получилась литературная эклектика, этакая мешанина, среди которой каждый из
вас, мы надеемся, найдет что-нибудь такое, что ему особенно понравится и
придется по душе.
Приятных
вам впечатлений! Как можно больше эстетического, интеллектуального и морального
удовольствия! И «чувств добрых»!
И
спасибо живым классикам нашего времени, которые согласились участвовать в новом
номере нового альманаха и разрешили нам опубликовать у себя их материалы, для
поднятия престижа и литературного уровня «Эоловой арфы»!
Нина
Краснова,
издатель,
составитель и главный редактор
альманаха
«Эолова арфа»
4
августа 2009 г.,
Москва
-
- - - - - - - - - - - - - Конец 3-й стр. начало 4-й - - - - - - - - - - - - -
-
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
АВТОРОВ
АЛЬМАНАХА «ЭОЛОВА АРФА»
АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
АВТОРОВ
АЛЬМАНАХА "ЭОЛОВА АРФА"
Руфат
Акчурин - 188
Агагельды
Алланазаров - 339
Зульфия
Алькаева - 206
Лев
Альшиц - 141
Николай
Алёшкин - 312
Михаил
Амирханян - 345
Лев
Аннинский - 292
Виктор
Астафьев - 133
Джавид
Агамирзаев - 19, 25
Георгий
Бакланов - 135, 136
Маргарита
Балакирева - 317
Алексей
Бандорин - 515
Евгения
Бандорина - 520
Татьяна
Бек - 320
Елена
Богданова - 458
Елена
Борискина - 523
Сергей
Бортник - 145
Никита
Брехов - 513
Виктор
Булатов - 526
Рада
Владова - 496
Андрей
Вознесенский - 234
Дмитрий
Высоцкий - 183
Ренэ
Герра - 450
Владимир
Гоголев - 138
Полина
Голикова - 316
Евгения
Горбунова - 500
Надежда
Горлова - 357
Эдуард
Грачев - 215, 333
В.
Дгусь - 137
Сергей
Дворецкий - 528
Валерий
Дударев - 281
Евгений
Евтушенко - 268
Ирина
Ефимова - 367
Тамара
Жирмунская - 261
Леонид Жуховицкий - 217
Лола
Звонарева - 488
Валерий
Золотухин - 13, 16, 121, 341
Денис
Золотухин - 122
Дмитрий
Игумнов - 464
Евгений
Ильичёв - 373
Юрий
Кувалдин - 298, 382, 583
Зинаида
Калинкова - 534
Алёна
Канощенкова - 314
Сергей
Каратов - 328
Ваграм
Кеворков - 382, 399
Виктор
Кибирев - 535
Эдуард
Клыгуль - 374
Пётр
Кобликов - 194
Тамара
Ковалевская - 536
Кирилл
Ковальджи - 239, 342
Лев
Котюков - 340
Нина
Краснова - 14, 93, 149, 231, 271, 273, 298, 342, 569, 611
Виктор
Крючков - 539
Михаил
Крылов - 542
Наталья
Крымова - 144
Виктор
Кузнецов-Казанский - 224
Татьяна
Кузовлева - 247
Борис
Кутенков - 310
Михаил
Лаптев - 336
Евгений
Лесин - 583
Виктория
Лещук - 501
Александр
Логинов - 423
Борис
Лукин - 283
Юрий
Любимов - 143
Сергей
Михайлин-Плавский - 199
Игорь
Михайлов - 348
Борис
Можаев - 134
Валентина
Моисеева - 546
Надежда
Мухина - 360
Юрий
Нагибин - 135
Игорь
Нерлин - 470
Татьяна
Николина - 164
Януш
Осенка - 604, 606
Людмила
Осокина - 476, 479
Константин
Паскаль - 286
Григорий
Певцов - 450
Ивайло
Петров - 488
Борис
Полевой - 130
Валентин
Распутин - 130, 131, 132, 133
Валентин
Резник - 136
Татьяна
Рослова - 547
Татьяна
Саганова - 307
Людмила
Салтыкова - 550
Сергей
Сапожников - 146
Раиса
Соболева - 555
Леонид
Сорока - 339
Валентина
Строгова - 558
Сергей
Субботин - 312
Сергей
Телюк - 180, 205
Лидия
Терехина - 560
Александр
Тимофеевский - 256
Владимир
Турбин - 140
София
Урманчеева - 512
Леонид
Филатов - 124, 126, 129
Леонид
Хейфец - 143
Александра
Цапковская - 309
Светлана
Цветикова - 565
Сергей
Цимбаленко - 184
Андрей
Чайкин - 308
Татьяна
Черыгова - 323
Анатолий
Шамардин - 341, 604, 606, 608
Евгений
Шифферс - 140
Татьяна
Ю. - 143
Надежда
Юдина - 566
Александра
Юшкова - 511
Александр
Яковлев - 352
Маргарита
Яньшина - 483
-
- - - - - - - - - - - - - Новая страница - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
СОДЕРЖАНИЕ:
СОДЕРЖАНИЕ
Нина
Краснова. О 2-м выпуске альманаха "Эолова арфа"
......................................... 3
Алфавитный
указатель авторов "Эоловой арфы".
........................................................ 4
День
Петра и Февронии.
Письмо
Валерия Золотухина Нине Красновой
(о
стихотворении Нины Красновой "Петр и Феврония"),
19
июля 2009 г.
.............................................................................................................
13
Нина
Краснова. "Петр и Феврония". Стихи ..............................................................
13
"Первый
памятник русским святым Петру и Февронии". Информация ................ 14
Проза
художника. Повесть.
Валерий
Золотухин. "Кисть и перо Джавида Агамирзаева".
Предисловие
к повести Джавида Агамирзаева "Мешочек из белой бязи
для
карамели с абрикосовой начинкой" (или: "Карамельки")
.................................. 16
Джавид
Агамирзаев. "Авторское слово"
....................................................................... 19
Джавид
Агамирзаев. "Мешочек из белой бязи для карамели
с
абрикосовой начинкой" (или: "Карамельки"). Повесть
........................................... 25
Нина
Краснова. "О "Карамельках" художника Джавида". Послесловие
к
повести Джавида Агамирзаева "Мешочек из белой бязи для карамели
с
абрикосовой начинкой"
..............................................................................................
93
Письма.
Из архива Валерия Золотухина.
Письмо
Валерия Золотухина Нине Красновой, 21 марта 2009 г. .............................
121
1. Валерий Золотухин - Сергею Золотухину, 17
января 2001 г. ............................ 121
2. Денис Золотухин - Валерию Золотухину, февраль
- март 2009 г. .................... 122
3. Леонид Филатов - Валерию Золотухину, 8
февраля 1982 г. .............................. 124
4. Леонид Филатов - Валерию Золотухину, апрель
1986 г. ................................... 124
5. Леонид Филатов - Валерию Золотухину, апрель
1986 г. ................................... 126
6. Леонид Филатов - Валерию Золотухину (до 1986
г.) .......................................... 129
7. Борис Полевой - Валерию Золотухину, 15 июня
1973 г. .................................. 130
8. Валентин Распутин - Валерию Золотухину, 6
января 1978 г. ........................... 130
9. Валентин Распутин - Валерию Золотухину, 11
января 1982 г. ......................... 131
10.
Валентин Распутин - Валерию Золотухину, 9 января 1986 г.
........................... 131
11.
Валентин Распутин - Валерию Золотухину, 6 декабря 1987 г.
......................... 132
12.
Валентин Распутин - Валерию Золотухину, 3 мая 1990 г.
................................ 133
13.
Виктор Астафьев - Валерию Золотухину, 24 марта 1986 г. ...............................
133
14.
Борис Можаев - Валерию Золотухину, 10 июня 1987 г.
................................... 134
15.
Юрий Нагибин - Валерию Золотухину
............................................................... 135
16.
Георгий Бакланов - Валерию Золотухину, 15 июня 1986 г.
............................. 135
17.
Георгий Бакланов - Валерию Золотухину, 15 мая 1987 г.
................................ 136
18.
Валентин Резник - Валерию Золотухину, 16 февраля 1986 г.
.......................... 136
19.
Валентин Резник - Валерию Золотухину, 23 января 1993 г.
............................ 136
20.
В. Дгусь - Валерию Золотухину, 19 апреля 1977 г.
............................................. 137
21.
Владимир Гоголев - Валерию Золотухину, 20 апреля 1979 г. ...........................
138
22.
Владимир Турбин - Валерию Золотухину, 15 декабря 1980 г.
.......................... 140
23.
Евгений Шифферс - Валерию Золотухину, 10 декабря 1987 г.
........................ 140
24.
Лев Альшиц - Валерию Золотухину, 1990 г. .......................................................
141
25.
Юрий Любимов - Валерию Золотухину, 7 апреля 1992 г.
................................ 143
26.
Леонид Хейфец - Валерию Золотухину, 4 сентября 1992 г.
............................. 143
27.
Татьяна Ю. "Форум" - Валерию Золотухину, 5 октября 2004 г.
....................... 143
28.
Наталья Крымова - Валерию Золотухину
........................................................... 144
29.
Сергей Бортник - Валерию Золотухину, 29 марта 2000 г.
................................ 145
30.
Сергей Сапожников - Валерию Золотухину, 2007 г.
......................................... 146
Комментарии
к письмам из архива Валерия Золотухина.
Нина
Краснова. Комментарии к письмам из архива Валерия Золотухина ........... 149
К
45-летию Театра на Таганке.
Татьяна
Николина. "Букеты от зрительницы Таганки". Книга в альманахе.
Стихи,
посвящённые Таганке, Юрию Любимову, Каталин Любимовой,
Валерию
Золотухину
...................................................................................................
164
Сергей
Телюк. "Ага! Так "вот в чем собака порылась"!". История
о
переименовании улицы Шверника в улицу Владимира Высоцкого ...................
180
В
пространстве Таганки. Поэты Таганской сцены:
Дмитрий
Высоцкий. Стихи (публикацию подготовил Петр Кобликов) ................ 183
Сергей
Цимбаленко. Стихи (публикацию подготовил Петр Кобликов) ...............
184
Руфат
Акчурин. Стихи (публикацию подготовил Петр Кобликов) .......................
188
В
пространстве Таганки. Пётр Корбликов:
Пётр
Кобликов. "Свечи Таганки". Интервью с Петром Кобликовым
................... 194
Сергей
Михайлин-Плавский. "Моё открытие “Чёрного квадрата””
....................... 199
Памяти
Риммы Казаковой. Воспоминания. Стихи.
Сергей
Телюк. "Давайте дружить!". Мини-эссе и стихи
.......................................... 205
Зульфия
Алькаева. "Пусть пережитое нахлынет...". Эссе и стихи
........................... 206
Эдуард
Грачев. "Римма - Нина" (двойной портрет). Этюд
...................................... 215
Проза.
Леонид
Жуховицкий. "Плачу долги". Рассказ, "Самый красивый
чиновник".
Очерк
............................................................................................................................
217
Виктор
Кузнецов-Казанский. "Трое из семейства Утиных", "Нас не любят.
А
кто мы?". Очерки
......................................................................................................
224
Эссе.
Нина
Краснова. "Из проходной завода "Серп и молот". (Глава
администрации
Президента
России Сергей Александрович Филатов). Эссе ....................................
231
Поэзия
шестидесятников.
Андрей
Вознесенский. Отрывки из поэмы "Последние семь слов Христа".
Новые
стихи .................................................................................................................
234
Кирилл
Ковальджи. Стихи из студенческих тетрадей
.............................................. 239
Татьяна
Кузовлева. "Час жаворонка". Стихи
............................................................. 247
Александр
Тимофеевский. “Прощанье с морем”. Стихи
......................................... 256
Тамара
Жирмунская. Стихи из Мюнхена
.................................................................. 261
Евгений
Евтушенко. Стихи из новой книги "Моя футболиада"
............................. 268
Юбилей.
К 85-летию Владимира Солоухина.
Нина
Краснова. "Солоухинские чтения в Олепине". Из Живого Журнала
Нины
Красновой 2009 г.
.............................................................................................
271
Юбилей.
Виктору Бокову - 95 лет!
Нина
Краснова. "Виктор Боков - поэт-долгожитель"
.............................................. 273
Нина
Краснова. "Нина Краснова в гостях у Бокова в Переделкине",
"Новые
стихи, которые Боков сочинили в 94 года". Из Живого
Журнала
Нины Красновой 2009 г.
.............................................................................
276
Поэзия
девяностодесятников.
Валерий
Дударев. Стихи ..............................................................................................
281
Борис
Лукин. Стихи
....................................................................................................
283
Константин
Паскаль. Стихи .......................................................................................
286
Критика.
Письмо
Льва Аннинского Нине Красновой, 2009
.................................................... 292
Лев
Аннинский. "Бездна звезд". Статья о барде Михаиле
Щербакове.................... 292
Проза.
Юрий
Кувалдин. "Белые розы". Рассказ
.................................................................... 298
Поэзия
нового поколения.
Татьяна
Саганова. Стихи (публикацию подготовил Петр Кобликов) ..................... 307
Андрей
Чайкин. Стихи (публикацию подготовил Петр Кобликов) ........................
308
Александра
Цапковская. Стихи (публикацию подготовил Петр Кобликов) .......... 309
Борис
Кутенков. Стихи
...............................................................................................
310
Литобъединение
"Радуга". Рузский район Московской области.
Николай
Алёшкин. "Радуга" Рузского района". Предисловие к подобрке
стихов и прозы членов литобъединения "Радуга"
.................................................................... 312
Сергей
Субботин. Стихи
..............................................................................................312
Алёна
Канощенкова. Проза и стихи
..........................................................................
314
Полина
Голикова. Проза и стихи ...............................................................................
316
Маргарита
Балакирева. Проза и стихи
...................................................................... 317
Письма.
Татьяна
Бек - Татьяне Черыговой, 18 марта 1988, 6 мая 1988
................................ 320
Поэзия.
Верлибры и белые стихи.
Татьяна
Черыгова. Стихи
............................................................................................
323
Поэзия.
Сергей Каратов. Стихи .................................................................................
328
Поэзия
семи-восьмидесятников. Эдуард Грачев
Эдуард
Грачев. Стихи
..................................................................................................
333
Поэзия
Урала.
Михаил
Лаптев. Стихи (публикацию подготовил Сергей Каратов) ........................
336
Поэзия
стран Ближнего Зарубежья.
Агагельды
Алланазаров. Стихи. Переводы с туркменского - Леонид Сорока,
Лев
Котюков (публикацию подготовил Сергей Каратов) ........................................
339
Дни
Русского Слова в Армении.
Валерий
Золотухин. "Сувенир из Армении".
............................................................. 341
Анатолий
Шамардин. "Я люблю песню "Ты красавица"
......................................... 341
Кирилл
Ковальджи. "Я связан с Арменией своими корнями..."
............................. 342
Нина
Краснова. “Несколько слов об Армении
и
о моей первой поездке туда"
....................................................................................
342
Михаил
Амирханян. Из книги "Россия и Армения" (отрывок)
.............................. 345
Проза.
Рассказы.
Игорь
Михайлов. Рассказ. "Юбилей" (сценка)
......................................................... 348
Александр
Яковлев. Рассказы. "Такая рассудительная девочка",
"Жареные
ананасы"
.....................................................................................................
352
Надежда
Горлова. Мини-рассказы. "Мама тракториста", "Могилы",
"Плашка",
"Плохая литература" ..................................................................................
357
Надежда
Мухина. Рассказ. "Сиреневый двор" (новелла)
......................................... 360
Ирина
Ефимова. Рассказы. "Бабки, где вы?", "Я это твердо знаю..."
.................... 367
Евгений
Ильичёв. "Дикое. Звериное". Этюд о бабочках (публикацию
подготовил
Петр Кобликов)
.......................................................................................
373
Проза,
поэзия.
Нина
Краснова. "Об Эдуарде Клыгуле". Предисловие
к
публикации Эдуарда Клыгуля
.................................................................................
374
Эдуард
Клыгуль. "Белый хлеб, "Цветы", "Ступени",
"Дворовая собака".
Рассказы.
Стихи
...........................................................................................................
374
Проза.
Рассказы.
Ваграм
Кеворков. "Операция "Эльбрус". Рассказ
.................................................... 382
"Соста".
Рассказ
...........................................................................................................
399
Проза.
Рассказ
Александр
Логинов. "Первое задание". Рассказ
....................................................... 423
Поэзия.
Григорий Певцов.
Ренэ
Герра. "Прошлое страстно глядится в грядущее...". О стихах
Григория
Певцова
........................................................................................................
450
Григорий
Певцов. Стихи .............................................................................................
450
Музыка.
Елена
Богданова. "Еще раз о Глене Гульде". Эссе
................................................... 458
Либретто.
Дмитрий
Игумнов. Либретто двух балетов - "Синильга" и "Фарида"
.................... 464
Проза.
Игорь
Нерлин. "Тема: Он и Она". Рассказы
.............................................................. 470
Людмила
Осокина. "И какой же чёрт не любит быстрой езды?..". Отрывок
из
романа "Козёл отпущения" .....................................................................................
476
Интервью.
Людмила
Осокина. "Тайны креста". Интервью с Людмилой Осокиной.
................ 479
Поэзия.
Маргарита
Яньшина. Стихи
........................................................................................
483
Критика.
Лола
Звонарева, Ивайло Петров. "Женщина, любовь, семья
в
лирике Юрия Кузнецова". Статья
........................................................................... 488
Поэзия.
Рада
Владова. Стихи
....................................................................................................
496
Евгения
Горбунова (Нижегородская обл.). Стихи (публикацию
подготовили
Алексей Бандорин и Людмила Салтыкова) .........................................
500
Виктория
Лещук (г. Белгород). Книга в альманхе. Стихи (публикацию
подготовили
Алексей Бандорин и Людмила Салтыкова) .........................................
501
Творчество
школьников Уфы и Рязани.
(Публицацию
стихов этой рубрики подготовили Алексей Бандорин
и
Людмила Салтыкова)
Александра
Юшкова (г. Уфа). Стихи
......................................................................... 511
София
Урманчеева (г. Уфа). Стихи ...........................................................................
512
Никита
Брехов (г. Рязань) Стихи.
.............................................................................
513
Поэзия
и проза поэтов Рязани.
(Публикацию
рязанских авторов подготовили Алексей Бандорин
и
Людмила Салтыкова)
Алексей
Бандорин. Стихи
...........................................................................................
515
Евгения
Бандорина. Стихи
.........................................................................................
520
Елена
Борискина. Стихи
.............................................................................................
523
Виктор
Булатов. Стихи
................................................................................................
526
Сергей
Дворецкий. Стихи
...........................................................................................
528
Зинаида
Калинкова. Стихи
.........................................................................................
534
Виктор
Кибирев. Стихи
..............................................................................................
535
Тамара
Ковалевская. Стихи
........................................................................................
536
Виктор
Крючков. Стихи ..............................................................................................
539
Михаил
Крылов. "От кого чего ждать?". Рассказы "Вершины",
"Притча",
"Депутат"
(экспериментальная проза) ........................................................................
542
Валентина
Моисеева. Стихи
.......................................................................................
546
Татьяна
Рослова. Стихи
..............................................................................................
547
Людмила
Салтыкова. Стихи
.......................................................................................
550
Раиса
Соболева. Стихи
................................................................................................
555
Валентина
Строгова. Стихи
........................................................................................
558
Лидия
Терехина. "Ночной пришелец". Рассказ
....................................................... 560
Светлана
Цветикова. Стихи ........................................................................................
565
Надежда
Юдина. Стихи
...............................................................................................
566
Мемуары.
Нина
Краснова. "Король пародии Александр Иванов". Эссе
................................. 569
Проза.
Повесть.
Евгений
Лесин. "Где мы, капитан-2?". Повесть
........................................................ 583
Проза.
Польский юмор. Януш Осенка.
Януш
Осенка. "Ветеран". Рассказ (перевод с немецкого
Анатолия
Шамардина)
................................................................................................
604
Януш
Осенка. "Культурные заметки", "Краткие новеллы".
Анекдотические
миниатюры (перевод с немецкого
Анатолия
Шамардина)
................................................................................................
606
Китайские
сокровища мудрых мыслей.
Из
книги "Китайские сокровища мудрых мыслей трех тысячелетий".
Афоризмы,
речения (перевод с немецкого
Анатолия
Шамардина)
................................................................................................
608
Литературные
вечера.
Презентация
1-го выпуска альманаха "Эолова арфа" в ЦДЛ 9 февраля 2009 г.
Стенограмму
подготовила поэтесса Нина Краснова
................................................ 611
Пресса
об альманахе "Эолова арфа".
Статьи,
информации об "Эоловой арфе",
напечатанные
в "Независимой газете", "Литературной газете",
в
газете "Слово", в Интернете .....................................................................................
661
Информационная
поддержка “Эоловой арфы”
........................................................ 668
Благодарность
“Эоловой арфы”
писателю
Юрию Кувалдину и художнику Александру Трифонову ......................... 669
Реклама.
Библиотечка
поэзии СП Москвы
...............................................................................
670
На
первой и последней обложках альманаха (на внутренних сторонах) помещены
высказывания Н. В. Гоголя о литературе. Под рубрикой "Н. В. Гоголю - 200
лет!".
-
- - - - - - - - - - - - 1-я страница
альманаха после «Содержания» - - - - - -
Письмо-автограф
Валерия Золотухина Нине Красновой, 19 июля 2009 г.
(На
первой полосе газеты «Слово» за 3 – 16 июля 2009 г., № 24 – 25,
с
публикацией там стихотворения Нины Красновой «Петр и Феврония»,
которое
поэтесса написала по просьбе Валерия Золотухина,
т.
е. как бы по его «гос. заказу»,
к
празднествам в честь русских святых Петра и Февронии)
Нина!
Пушкин
(своё стихотворение) «Клеветникам»
написал
по просьбе царя Николая!
Ты
по просьбе царя Креонта (которого Валерий Золотухин играет в спектакле «Медея»
на Таганке. – Ред.) написала «Петра и Февронию».
И
я с этим стихотворением прокатился, считай, по всей России!
Целую
руки твои и преклоняюсь.
Храни
тебя Бог!
В.
Золотухин
19.07.09
Нина
Краснова
ПЁТР
И ФЕВРОНИЯ
Валерию Золотухину
(по его гос. заказу)
Петру
и Февронии песню споёмте хвалебную
За
праздничным общим столом из напитков, из яств.
Феврония-дева
своею закваскою хлебною
Петра
исцелила от струпьев проказы и язв.
Премудрая
дева, с корнями рязанскими травница,
Лечила
его и своею любовью притом
(В
избушке лесной находилась Февронии «здравница»),
Потом
обвенчались Феврония с князем Петром.
И,
блáгословлённые в церкви святыми иконами,
Но
кое-кому из бояр не придясь ко двору,
Они
– по преданию – жили святыми законами
И
Господу Богу служили, а значит - добру.
И
их имена на скрижалях истории вырезал
Господь,
проведя по линейке железный резец,
И
тем отношение к этим героям и выразил,
Явившим
для нас христианской любви образец.
За
пологом времени многими не различимые,
Святые
супруги, в посконных рубахах до пят,
Во
веки веков неразлучные, неразлучимые
В
двухспальной гробнице смиренно покоятся, спят.
Над
ними летают не чёрные стаи воронии,
А
белые ангелы с блеском небесным в очах.
Поклонимся
двум чудотворцам – Петру и Февронии!
Восславим
земную любовь и семейный очаг!
18
– 21 июня 2009 г.,
Москва
-
- - - - - - - - - - Конец 1-й стр. начало 2-й - - - - - - - - - - - - - - - -
Из
прессы
ПЕРВЫЙ
ПАМЯТНИК РУССКИМ СВЯТЫМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ
Общественная
организация «В кругу семьи» (художественный руководитель Валерий Золотухин) по
благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла проводит в
рамках своей программы Всероссийскую акцию по установлению скульптурных
композиций святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским в семи
муниципальных образованиях с 28 июня по 8 июля 2009 года. Первый памятник
русским чудотворцам открыт в Архангельске 28 июня. «Хотелось бы, чтобы такие
композиции появились во многих городах России от «А» до Я» (от Архангельска до
Ярославля), - говорит художественный руководитель программы «В кругу семьи»
Валерий Золотухин. – Работу над этим проектом мы начали давно, пять лет назад,
награждая бронзовыми статуэтками Петра и Февронии призёров кинофестивалей,
которые мы проводили в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». И вот
первый замечательный результат. По соседству с новым храмом Успения Пресвятой
Богородицы открыт памятник Петру и Февронии работы скульптора Константина
Чернявского. Место выбрано церковной и светской общественностью как нельзя
лучше. Это великое событие в духовной жизни нашего народа. Еще до открытия
памятника к нему шли молодожёны за благословением на семейную жизнь, возлагали
цветы, возжигали свечи».
На
открытии памятника Петру и Февронии народный артист России Валерий Золотухин
читал стихи Нины Красновой, которые она написала специально для этого по его
просьбе.
Газета
«Слово», № 24 – 25 (644 – 645), 3 – 16 июля 2009 г.
«Независимая
газета», Ex Libris, 10 июля 2009 г.
P. S.
От редакции альманаха «Эолова арфа»
С
28 июня по 8 июля 2009 года в десяти городах России, в Архангельске,
Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи, Ульяновске, Тольятти,
Санкт-Петербурге, Ярославле и Москве, состоялись торжественные акции – закладка
первого камня и установка скульптурных композиций «Святые благоверные Петр и
Феврония Муромские». Эти акции проходили в рамках Общенациональной программы «В
кругу семьи», им была посвящена
пресс-конференция в РИА «Новости» 25 июня. Как сообщил президент программы
«В кругу семьи» Александр Ковтунец, установке памятников сопутствовал
уникальный воздушный крестный ход – всероссийский авиа-перелет (авиа-марафон) с
мощами святых Петра и Февронии Муромских, в котором приняли участие
государственные деятели, губернаторы областей, мэры городов, правящие архиереи
епархий РПЦ (Российской православной церкви) и популярные артисты. Валерий
Золотухин во всех городах читал стихотворение Нины Красновой «Пётр и Феврония»,
а в Сочи его прочитала артистка Ирина Алферова.
-
Это стихотворение везде проходило с фурором, пользовалось у всех невероятным
успехом и воспринималось и принималось всеми очень хорошо!.. - сказал Валерий
Золотухин. - Когда я стал читать его в городе Тольятти, малые ребятишки,
которые до этого бегали по площади среди взрослых и шумели, тут же приумолкли и
слушали меня, раскрыв рты. Одно дело, если бы я говорил (да еще читал по
бумажке) речь о Петре и Февронии, о которых, кстати сказать, у нас в России
мало кто знает, кто они такие, эти герои древнерусской повести, наши русские
Ромео и Джульетта, которые стали образцами христианского супружества, любви и
верности и в честь которых уже второй год празднуется и каждый год будет
праздноваться 8 июля День Петра и Февронии, а другое дело – когда я читаю такое
возвышенное, чýдное стихотворение о них, которое сразу поднимает души
людей и от которого статус праздника сразу становится более высоким...
-
- - - - - - - - - - Конец 2-й стр. после «Содержания» начало 3-й - - - - - - -
-
Валерий
Золотухин. Предисловие к повести Джавида Агамирзаева
__________________________________________________________________
КИСТЬ
И ПЕРО ДЖАВИДА АГАМИРЗАЕВА
Джавид
мне свою повесть принёс – я её ещё не читал,
но
слова там хорошие, выражения...
Завидую
и радуюсь, если он назло врагам
обретёт
известность вдруг, и прорвётся,
и
я буду гордиться им и докажу слабоумным своим соседям,
что
такое «Маки» Джавида, которые они мазнёй считают
и
выбросить на помойку хотели (картину «Маки». – Ред.)...
Валерий ЗОЛОТУХИН. 9
февраля 1977 г.
Книга-дневник «На
развалинах личной жизни», с. 89 -90
(Нижний Новгород,
ФГУИПП «Нижполиграф», 2005)
В
то утро я, как всегда, помолился, сделал зарядку, и, когда встал на голову на
семь минут, я вспомнил, что Джавид сейчас делает примерно то же самое. Наливает
из-под крана ведро холодной воды и в любую погоду выходит на улицу, раздевается
и выливает эту воду на себя. Так встречать рабочий день мы, не сговариваясь,
стали почти пятьдесят лет назад. Нам предстояло покорить Москву, мальчикам из
провинции: одному, то есть Джавиду, – из села Кабир, с Кавказа, другому, то
есть мне, – из села Быстрый Исток, с Алтая. И здоровье нам, мы уже тогда
понимали, в этом долгом пути и упорном труде пригодится. Поэтому мы вот такую
зарядку и освоили.
Я
поступил в ГИТИС на отделение оперетты, он тогда уже учился в художественном
училище при школе-студии МХАТа и одновременно работал сторожем в учебном театре
при ГИТИСе, где меня и увидел в дипломном спектакле старшекурсников. Я бегал
там в массовке и что-то несусветное кричал: «Пошли, отметим успех в мансарде
художника Рауля!». Когда я первый раз увидел картины Джавида, я сказал ему: «У
тебя глубинный талант, парень!»
Москва
закаляла нас, заставляла нас относиться к себе и к ней серьёзно. «В здоровом
теле здоровый дух» – это не только шутка: путь к славе долог и тернист, и
болеть некогда. «Нежась на мягкой перине, славы себе никогда не добудешь»: это
слова Данте. И этих перин Джавид избежал не только потому, что помнил слова
Данте, но и потому, что не на что было эти перины покупать: на краски и холсты
не хватало часто. И он, гордый сын своего Кавказа, смиряя голову свою и сердце,
приходил ко мне: «Валера, выручи, не на хлеб дай, на краски». И я выручал, и не
жалею об этом.
Я
смотрю на его картину «Русская кукла с букетом» и плачу. Душа моя оживляется, и
успокаивается сердце. И я вспоминаю Достоевского: «Мир спасёт красота».
В
жизни у меня было два друга: Высоцкий и Джавид. Одного уже давно нет. А Джавид
– рядом. Хотя, нет: рядом почти никогда он не был... В Москве где-то. Или в
Дагестане, в театре спектакль оформляет. Приедет – привезёт обязательно вина,
цветов и винограда. Морочить голову встречей не станет, оставит дары на
проходной, на вахте Таганки: место встречи вот уже сорок четыре года из сорока
пяти изменить нельзя.
Стоя
на голове в то утро 15 декабря 2006 года, я вспомнил, что когда-то, ещё
студентом, написал о Джавиде маленькую заметку в «Дагестанскую правду» и
получил за Джавида первый в своей жизни гонорар – пять рублей. Этого хватило на
пышный пир: мне – на водку, ему – на закуску. Он и тогда не пил, глоток
шампанского была его норма.
Лет
25 тому назад, а то и больше, Джавид стеснительно показал мне свою отпечатанную
на машинке повесть «Карамельки», а точнее – «Мешочек из белой бязи для карамели
с абрикосовой начинкой». Я прочитал ее и увидел, что у Джавида «глубинный
талант» не только в живописи, но и в прозе. Его проза похожа на его картины,
она так оригинальна, что ее не с чем сравнить. В ней много чистых и ярких
красок в разных сочетаниях и много тонких энергий, которые воздействуют на твою подкорку и волнуют твою
душу и вызывают в ней какие-то такие ассоциации и какие-то такие ощущения,
которые нельзя сформулировать словами, в ней есть некоторая недоговоренность,
которая всегда лучше переговоренности, в ней есть своя тайнопись, свои шифры,
которые трудно бывает расшифровать, но я расшифровываю их.
Это
повесть о детстве и юности Джавида, о его пути в большое искусство, о первых
отрезках этого пути, который тянется из его детства, из лезгинского села Кабир,
из детдома, где Джавид рос сиротой и где он уже со школьной скамьи рисовал
картины, лебедей в пруду, букеты цветов, красавиц с большими грудями, и
удивлялся, почему другие, его ровесники, его одноклассники, не умеют и не любят
рисовать?
Повесть
вся состоит из фрагментов, из разрозненных картин детства и юности, из которых
складывается общая панорама его жизни, с дагестанскими пейзажами, такими, как
на его картинах «Талги», «Дом с кипарисами», «Дом с садом», «Улица в селении»,
«Малая родина», и с московскими пейзажами, с «огнями большого города», и с
портретами родственников Джавида, его брата, его теть, его одноклассников, его
коллег-художников, и его русской школьной учительницы с золотыми волосами и с
голубыми глазами, которая одобряла и поддерживала в нем мечту стать художникам,
в отличие от тех, кто не понимал его. В некоторых портретах людей сквозит юмор
автора, в том числе и в «автопортрете»: «Я человек серьёзный, подтверждением
чего является моя седая борода». Бороды у него сейчас нет, но она была у него
когда-то, как и длинные густые волосы, которых у него сейчас тоже нет, и
которые он в 60-х годах носил с хипповской «пощёчиной общественному вкусу», как
все независимые художники 60-х годов.
На
живопись Джавида оказали влияние Бенуа, Сарьян, Матисс, Дерен, Сезанн, а на его
прозу оказали влияние античные авторы, которых он все время штудирует и
цитирует, философы Диоген, Платон, Сенека и свои же кавказские мудрецы. Ей
свойственна афористичность, немногословность, а кроме того - игра слов, как
игра красок, которые придают словам очень тонкие оттенки и какие-то новые
смыслы, которых нет в самих словах.
«Было
ли у меня что-нибудь, кроме счастья быть творцом?», – спрашивает сам себя
художник. И сам себе же отвечает: не было. Потому что для него все счастье его
жизни – в искусстве, которым он занимается всю свою жизнь, будь то кисть или
перо. «Я меньше всего думал об успехе, об автографах и прочих ярлычках
тщеславия и других человеческих слабостях», – пишет Джавид.
Джавид
неординарен в своей прозе так же, как в живописи. Он неординарен даже в том,
что начинает свою повесть с конца, так как не уверен, что она будет интересна
читателю: «Я... начну свою повесть с конца, ибо редкий читатель доходит до
последней страницы неизвестного автора». Но мне очень интересна проза Джавида,
от первой до последней страницы и от последней до первой. И я думаю, что она
будет интересна не только мне.
В
июле 2007 года в Махачкале состоялась персональная выставка Джавида, на которую
подбил его я. У него до этого было много выставок и в Москве, в разных
галереях, «На Каширке», «На Песчаной» и т. д., и в Париже, и везде они имели
успех, а в Махачкале не было ни одной. Я сказал ему: «Надо обязательно сделать
ее и в Махачкале, чтобы твои земляки знали тебя, знали художника Джавида,
который живет в Москве и прославляет там свой Дагестан на всю Москву и на весь
подлунный мир». И Джавид послушался меня и поехал в Махачкалу с группой друзей,
а я не смог, потому что сломал, «поранил ногу», как «верный конь» Расула
Гамзатова. Я знаю, что выставка Джавида в Дагестане имела успех. И о ней писала
и «Дагестанская правда», и «Лезги газет», и «Молодежь Дагестана», и «МК в
Дагестане», и «Новое дело» и т. д., а по телевидению прошли фильмы о ней. И я
думаю, что и повесть Джавида будет иметь успех и в Москве, и на его родине, и
не только там, и что она будет интересна людям так же, как и его живопись. И я
рад предложить повесть Джавида, этого мастера кисти и мастера пера, читателям,
угостить их всех «Карамельками» художника Джавида.
Валерий
ЗОЛОТУХИН,
народный
артист России,
член
Союза писателей Москвы
28
декабря
Москва
Проза
художника. Джавид Агамирзаев. Авторское слово
__________________________________________________________________
Джавид
Агамирзаев
Джавид
Агамирзаев родился в 1937 году в Дагестане, в лезгинском селе Кабир. Рано стал
сиротой, рос в детдоме. После школы уехал в Москву. Окончил там Московское
художественно-театральное училище, рисовальные классы при МГХИ им. В. И.
Сурикова, школу-студию при МХАТе. Участник московских, республиканских,
всесоюзных, зональных и зарубежных выставок. Оформил около двадцати спектаклей.
Член Союза художников и Союза театральных деятелей. Лауреат Государственной
премии республики Дагестан. Живет в Москве.
Работы
Джавида хранятся в частных коллекциях Москвы, Франции, Японии, Германии, США,
Австрии, Югославии, Словакии, в Дагестанском музее изобразительных искусств им.
П. С. Гамзатовой.
В
2009 году репродукции картин Джавида вошли в альбом участников Первого
Международного Салона Искусств «Путь единства» в ЦДХ, посвященный 285-летию
Российской Академии художеств.
Повесть
«Мешочек из белой бязи для карамели с абрикосовой начинкой» («Карамельки»),
предлагаемая читателям «Эоловой арфы», написана Джавидом много лет назад, в
1975 – 1976 годах, в Москве и Дербенте, но она не только не теряет своей
ценности, а, наоборот, с годами приобретает ещё большую ценность как
литературное произведение и как художественный документ ушедшей советской эпохи
30 – 70-х годов ХХ века, ставший уже историческим.
АВТОРСКОЕ
СЛОВО
Сменить
кисть на перо меня заставило одно сердитое письмо далёкого от искусства,
близкого мне человека. Оно больно задело меня. Я обиделся. Художник – ранимое
создание. Это как роза: небольшой мороз – и завял цветок нежный.
В
детстве во мне жил не только маленький мальчик, ученик первого класса, но и
будущий большой художник. Меня больше интересовало рисование, чем писание букв:
где интерес (к чему-то), там внимание, где внимание, там память.
Я
убегал со скучных уроков, чтобы играть с муравьями. Пока муравей не укусит мне
палец, я не сдувал со своей ладони этого маленького зверя. В этом была вся моя
игра – игра в боль.
Правы
были древние греки, когда называли художника «искателем боли».
Целыми
днями я стою за мольбертом. Для моего приятеля это ничего не значит. При
коротких встречах со мной он спрашивал об одном и том же: стал ли я художником
по воле Бога, или для этого у меня были причины другого порядка. Например,
смерть возлюбленной, любовь к своему народу, на худой конец – к славе. Наконец,
мне всё это надоело, и я громко заявил ему: «Художник – служитель Истины!»
Приятель страшно обиделся на меня и, как Понтий Пилат, гневно спросил: «Что
есть Истина?»
С
того злополучного дня я больше не видел его. А его сын, который занимался у
меня рисованием, перестал ходить ко мне на уроки.
Вскоре
я стал забывать о них. За мольбертом я забываю всё на свете.
Для
меня каждый день – лучший, ибо сегодня ко мне непременно прилетит Синяя Птица.
Поэтому
зимой и летом я оставляю форточку открытой на Небо.
В
один из таких дней я обнаружил в своём почтовом ящике письмо. Кто же меня вдруг
вспомнил? Я живу один, наедине с Богом! Родителей потерял давно, ещё в
младенческом возрасте. Родственников у меня – во множественном числе... Нужен
ли им я, художник, удел которого пожизненное безденежье.
Своих
богемных друзей я тоже давно потерял. Ненавижу безделье, пустые телефонные
разговоры: «Жизнь – это театр, жизнь – это игра...»
Библейские
изречения с моих уст, слова об искусстве нагоняли на них смертельную скуку.
Может
быть, на минуточку (ко мне в мое отсутствие) заезжал Валера Золотухин? Вряд ли.
Мы часто видимся в Театре, Театре на Таганке.
Грех
мне жаловаться на судьбу, раз Бог послал мне такого друга: «Не стоит жить тому,
у кого нет ни одного истинного друга». Один Валера приветствует и одобряет мои
действия за мольбертом:
–
Держись, старик! Не теряй юмора. Всё суета сует и всяческая суета.
–
Как отблагодарить тебя, (за) твою доброту? – спрашиваю я стеснительно своего
знаменитого друга.
–
Сочтёмся славой, – говорит Валера, улыбаясь своей красивой, теперь всему миру известной
улыбкой. – Мы с тобой люди горные... Кто же прославит свой далёкий горный край,
как не мы, артист и художник!
Письмо
было от обиженного «Пилата», моего приятеля. Вот что он писал:
«Я
математик, привык к доказательствам. Я ничего не понимаю в Вашем искусстве.
Выбор профессии моего сына глубоко волнует и печалит меня. Признаться, больше
пугает, чем огорчает... Хотя Вы похвалили некоторые его рисунки, я это принял
как дань уважения нашей давней дружбе с Вами, и никак не более... Ваша книга
(если бы Вы написали ее) помогла бы разобраться (мне) во многих вещах...
Мне
достаточны (были бы) хотя бы Ваши записи... Вы умеете интересно рассказывать. Я
заметил это, когда Вы рисовали красками натюрморт с цветком на моём зимнем
окне. Меня тогда поразила Ваша образная речь. Тогда я и попросил Вас написать
книгу о себе. Но Вы наотрез отказались, сказав: «Литература – нечто
противоположное живописи... Это как забраться в чужой сад за яблоками в осеннюю
пору... Неминуем удар по носу или выстрел одноногого колхозного сторожа в
спину... Бывший фронтовик стреляет без промаха».
Мне
не нужна литературная ценность Вашей книги... Но Ваша помогла бы мне
разобраться во многих вопросах искусства, понять, например, чем продиктован
нелепый выбор моего сына стать художником в наш век технического прогресса...
С
прошлым временем навсегда умер Романтизм, а вместе с ним и культ Красоты. Я не
вижу особой разницы между художником и преступником. Оба одинаково преступают
границы дозволенного. Один посягает на законы, оберегающие общество, другой –
на законы нравственные...
Считайте
меня кем угодно: никчёмным человеком, обывателем, отпетым негодяем... Называйте
так, как Вам заблагорассудится. В данном случае, речь идёт не обо мне...
Я
насладился жизнью предостаточно... Я не хочу, не хотел бы, чтобы мой сын стал
отщепенцем. Лучше мне умереть, чем быть свидетелем его падения... Я ни во что
не ставлю «Джоконду» и «Сикстинскую Мадонну» - эти «тиранические ценности». Мне
(для меня) бесценен любой труд живого человека, который способен спасти моего
сына, моего Игорька. Я знаю, уверен, Вам удастся это сделать, потому что Вы –
осколок прошлого, чудом живущий в наше время. Ваша любовь к искусству
неподдельна... Время не властно над Вами. В Вас, как мне показалось при нашей
последней встрече, протекают все времена, все века, ибо Вы безразличны к суете
современного человека. Меня подкупает в Вас Ваше безвременное состояние... Я не
философ... Мне трудно выразить в словах то, что я чувствую, что испытываю при
наших встречах... Может быть, Ваша безмятежность исходит от йоговских
упражнений? Не думаю, не уверен. Не думаю так потому, что йога стала нынче
модой. Трудно одним своим увлечением вести за собой людей, но ещё трудней
заставить любить себя. Вас или любят, или ненавидят. Я же ненавижу и люблю Вас
одновременно, так как в Ваших руках жизнь моего ребёнка... Мне достаточны хотя
бы Ваши заметки... Заплачу любую цену за Ваш труд, только помогите...»
Дорогой
Николай Николаевич! Никогда не думал, что Вы, любитель женщин, цветов, вина,
вдруг можете ненавидеть человека лишь за то, что Ваш сын захотел стать
художником. Я понимаю, у Вас сын один, и Вы дрожите за него... Вас напугала моя
бедность. Но ведь среди художников есть и преуспевающие, кому позавидовал бы
любой президент.
Да,
я всегда нуждаюсь (в чем-то). Ну что из этого? Зато я свободен. У меня нет
предрассудков на титулы, на ордена. Признанье – одна из форм подкупа: «Ордена
дают за покорность».
У
Вас есть всё, что хотели в жизни, но нет главного – Любви. То, что Вы называете
любовью, не что иное, как коровья привязанность к своему телёнку. На Востоке
принято говорить: «Один сын – не сын, два сына – половинка сына, три сына –
сын». Лучше не говорите мне о Вашем сыне. Это не аргумент, чтобы ненавидеть всё
человечество лишь за то, что оно любит Леонардо да Винчи, Рафаэля и т. д.
Да,
я Вам ненавистен. Это мне известно давно, но я никогда не думал, что Ваша
ненависть стала вдвое, в десять, сотни раз больше, когда Вы обнаружили, что
Ваше чадо выбрало не тот путь, не Вами запрограммированный жизненный идеал, а
избрало дорогу безвестного бродяги.
Дети
в большинстве случаев не разделяют взгляды своих отцов. Это Вам не в новость, а
Ваш сын в лишний раз подтверждает эту горькую истину.
Вы
требуете от меня сладкие пилюли, чтобы сохранить любовь к сыну (Бог с ним, с
человечеством, оно проживёт и без наших рукоплесканий).
Я
плохой моралист, не пример для подражания, а из Ваших слов даже вредитель...
Однако,
мой друг, Вы – человек трусливый... Побоялись написать от руки. Понимаю...
Буквы выдали бы состояние Вашей бедной души...
Да,
так и быть. Будет ли это книга или короткие заметки, предугадать мне трудно.
Для меня творчество – это непредвиденное, а удача - плод радости... Не надо мне
Ваших денег. Я с радостью поделюсь чем богат, и, если мой труд чем-то Вам
поможет, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Но если в моём сочинении Вы
найдёте лишь обиду, не бросайте его в огонь... Право же, мой друг, не стоит
расстраиваться, натравлять себя против всех, если приятелем Вашим оказался
человек искусства, и Вашему сыну ударила в голову «нелепая» мысль – стать
художником...
Начну
издалека, с далёкого детства... Писал я – сколько себя помню. В младших классах
придумывал письма к старшему брату, чтобы читать их своей
слепой
сестре. В девятом классе сочинял любовные записки своей однокласснице. После
школы написал даже повесть, целую книгу! Мне нужны были деньги на дорогу, на
билет, на поезд до Москвы... Я слышал, что их платят автору, если напечатают
его книгу. Ничего из этого не вышло...
Дяде
с орденами на груди не понравилась моя книга, рассердила моя первая любовь:
–
Вместо благодарности Сталину, партии, народу!.. Молоко ещё на губах, а он
изъясняется в любви... И кому? Какой-то двоечнице с парты... И где, вы
думаете?.. В колхозном саду... Жаль, что у меня нет руки... А то бы я разорвал
писанину этого молокососа обеими руками... А ещё комсомолец!.. Змею пригрели за
пазухой... Обломать бы ноги этому писаке и руки... Все лезут в писатели! А
пахать кому в колхозе?!
Пропала
моя книга, а вместе с ней и охота писать чернилами что-нибудь.
Одноклассница
предала мою любовь, вышла замуж за сына Кардхана, заведующего магазином, где
продавались мои любимые конфеты – карамель с абрикосовой начинкой.
Пришлось
мне вернуться к своим Красавицам, Оленям, Цветам, Розам, Красным и Белым!
Они
никогда не предавали, всегда ждали меня. Даже деньги собрали на дальнюю дорогу.
На билет, на поезд до самой Москвы, до столицы нашей Родины! От радости я даже
запел тогда: «Широка страна моя Родная...»
Эта
песня лилась на наши бритые головы каждый день с чёрной тарелки репродуктора,
что висел на гвозде на белой известковой стене. Затем горн, утренняя зарядка,
завтрак, школа, уроки... Такова была детская наша жизнь в ту пору... Вся страна
жила в таком суровом ритме. Хорошо или плохо – мы не знали. Нужно было
восстанавливать жизнь, разрушенную войной. Нужна была сосредоточенность во
всём: проживать каждое мгновение... Иначе – болезнь, смерть. Умирали тогда
товарищи прямо на моих глазах. Тиф и малярия никого не щадили, смерть косила
всех подряд; а лекарств – раз-два и обчёлся: марганцовка и горькая жёлтая
таблетка; вместо зубной пасты – вонючая пена хозяйственного мыла... Вспоминать
даже тошно...
Вас
пугает вовсе не выбор сына стать художником, а нечто обывательское – общественное
положение. Без власти и денег, по Вашим понятиям, человек – ничто, жертва,
жертвенное животное.
Конечно,
художник не всегда занимает ведущую роль в обществе: «Талант превыше
общественной значимости».
Несомненно
другое: в ремесле живописи нет ничего постыдного; оно не порок, не унижение...
Нельзя считать его и болезнью...
Вы
спрашиваете меня, как участкового врача, можно ли Вашему сыну лечиться,
устранить его недуг – Любовь! Любовь к искусству! Крайне прискорбно мне слышать
это от Вас... Вы рассматриваете искусство как болезнь. В какой-то степени, это
правда. Ради искусства Ван Гог отрезал себе ухо. Я согласен был на
большее
– на кастрацию. Остановил меня знакомый хирург, сказал: «Художник должен быть
полноценным мужчиной...»
Вам
нужны некие доказательства, потому что Вы математик, учёный человек.
Божественный
зачаток творчества был со дня Первого человека: «Взял Адам два камня, высекая
из них огонь, произнёс: «Благословен творящий светильники огненные!»
Ах,
да! Вы неверующий человек. Продолжу в научном порядке: стадо отвергает новое,
непривычное: «Отдельный индивид чувствует себя незавершшённым, если он один.
Уже страх маленького ребёнка есть проявление стадного инстинкта...» Это из
Фрейда. И ещё: «Мне кажется, прежняя история развития имеет то же самое
объяснение, что и история животного, и то, что можно наблюдать у ограниченного
количества человеческих индивидов как неутомимый порыв к дальнейшему
совершенствованию, без труда объясняется как следствие вытеснения первичных
позывов, на котором построены наибольшие ценности человеческой культуры...
Инстинкт совершенствования не что иное, как попытка бегства от удовлетворения
первичного позыва...»
То,
что пишет Фрейд, Вам покажется кощунством. Но это правда, доказанная его
научной и практической деятельностью.
Ваш
маленький Эдип, Игорь, нарочно сделал свой «нелепый» выбор, пожелал стать
художником, чтобы противоречить авторитету в Вашем лице...
Я
не пугаю Вас «десятью египетскими карами». То, что пишу, - правда, потому что
сам испытал всё.
За
моё рисование ещё в детские годы родная тётя загоняла меня в Ад, в Котёл, в
Кипящую Чёрную Смолу. В художественном училище сокурсники каркали мне вслед:
«Будешь великим художником, если останешься без штанов». В метро (когда я сидел
и рисовал там, делал в блокноте наброски простым карандашом) я мог услышать за
моей спиной истерические вопли в мой адрес: «Расстрельные списки составляешь?..
Гад! Повесить бы всех дармоедов!»
«Заблудшую
овцу» никто не любит (все должны быть в стаде, она всех пугает): «Мы знаем одну
жизнь, одно направление в жизни, где много корма, где много трав... Куда она
(заблудшая овца) ушла? Может быть, есть другая жизнь??? Вдруг права эта
Заблудшая Душа?»
Отсюда
и страх, а страх есть зло.
«А
вдруг прав этот Художник, наш тихий сосед, этот маленький, худой, тщедушный
человек, неведомо откуда взявшийся в столице?.. Ничего у него нет, живёт он «на
птичьих правах», а ходит свободный, как Бог. И имя его какое-то загадочное: не
то «Неустрашимый», не то «Неистребимый», а он оказался Непобедимый!
По
утрам прямо на нас вытряхивает свои одеяла, свои дурные сны... Прямо перед
нами, под нашим носом, обливается холодной водой на снегу... Что ему наши
провокации, насмешки, злые шутки!
Он
победил не только всех нас и себя, но и свои хвори, болезни, бедность, старость».
Искусство
требует прежде Любви, только потом – жертвы. Любовь не требует доказательств.
Она или есть, или Её нет. Лучшим доказательством является моя жизнь, о чём
рассказываю в своей книге.
Теперь
слово за Вами, добрый читатель, ибо: «Слава слагается из суждений многих, а
признание - одних только добрых».
Джавид
Агамирзаев
2008
Проза.
Повесть. Джавид. «Мешочек из белой бязи для карамели с абриковосой начинкой»
__________________________________________________________________
Джавид
Агамирзаев
МЕШОЧЕК ИЗ БЕЛОЙ БЯЗИ
ДЛЯ КАРАМЕЛИ
С
АБРИКОСОВОЙ НАЧИНКОЙ
Ночь
после обрезания. Сладкий сон. Утро. Ко мне подлизывается тетя Мержан, старая
колдунья.
Вчера
свистульку дала, а потом кровь…
Начни
я свою повесть таким образом, я рассказал бы красивую сказку, неправду о себе.
Правда
о себе на самом деле начинается с этого события, но не совсем так, как об этом
пишу вначале. Все начинается так, но не дойдет до конца; все будет так, но не
дойдет до крови. Это могло произойти – «по завету предков», по шариату;
пролилась бы моя кровь, родись я не у
брата тети Мержан. Но не отозвался на зов предков ее брат, мой отец, не
послушал свою сестру – прислужницу Аллаха, а услышал крик мой, зов мой – крик
новорожденного, зов нового времени.
Но
до этого события далеко. Я прошу читателя повременить с тем далеким прошлым,
младенчеством моим, детством. О нем всегда говорится вначале – у всех вначале
бывает детство.
Я
же начну свою повесть с конца, ибо редкий читатель доходит до последней
страницы неизвестного автора.
Начну
с «сырого» факта, с недавней встречи. Расскажу о своих буднях, об одном из
обычных дней, какие бывают у всех. Расскажу о споре, о ссоре. Это будет история
появления этих страниц и предисловие к моей повести.
А
как хочется начать со слов: «Я и она. Родник. Кувшин и вода…ибо на самом-то
деле все начинается с любви; любовь тот родник, не испив из которого, не
узнаешь тайны тайн – жизни.
Но
мне придется начать со спора, с недавнего разговора о давней ненависти, с
«ножа». Мой гость, мой брат пристал с ножом к горлу – требует написать книгу об
отце.
Вас
не приглашаю на суд в свидетели, в суд – спор между братьями. Кто не спорит,
кто в семье не ссорится? Не всегда примиряются, оставаясь родными. Находят
врагов, не найдя истины. Это вы знаете. Но знает ли каждый из нас, кто прав, а
кто неправ? Каждый убежден, что прав он и никогда – противник.
I
Я
спросил его:
–
А ты не боишься?
–
Кого мне бояться, в Бога я не верю, а людей – чего их бояться?
–
Меня – сказал я. – Ведь я напишу все, весь наш разговор слово в слово, от слова
до слова…
–
И напиши… Будет очень даже хорошо… А потом… что я сказал такого, чтобы
стыдиться мне людей? Что тут плохого, если я прошу написать книгу об отце…
Разве он не заслужил?
–
А наша вражда, двадцатилетняя война? Об этом ты забыл?
–
Пиши все, как есть. От этого мои седины белее не станут.
–
И о ссоре писать с родной сестрой, о том, как ты вначале даришь, а потом тянешь
назад, – об этом тоже писать?
–
Это про корову, что ли? Никудышная хозяйка наша сестра… Лишь бы не ей… кому
угодно… лишь бы не сестре…
–
За что ты так не любишь Пери, нашу единственную сестру?
–
Сожгла бумаги отца, документы отца… Бросила в печь, в огонь… Какова? Хороша
сестрица, ничего не скажешь?
–
Откуда тебе известно?
–
Сам видел.
–
Ложь. Было бы это правдой, отнял бы бумаги у нее, ты же намного старше, старше
нас всех, самый старший из нас.
–
Я потом догадался.
–
Не верю.
–
Не веришь, потому что она всегда защищала твои чудачества…
–
Учиться по-твоему глупость?
–
Смотря на кого учиться… Я не хочу, я не хотел, чтобы мой брат развлекал
кого-то, обезьянничал перед кем-то…
–
А-а! Вот почему ты дал мне затрещину перед дальней дорогой! Нечего сказать,
хорошее напутствие, добрые пожелания родного брата… И в машину не посадил по
той же причине? Ты же ехал до Белиджи?
–
Я не помню.
–
Зато я помню все… Знаешь, как было тяжело в дороге с тяжелым чемоданом в руках,
с картинами… Даже яблоки оставил в машине… А кто мне купил билет до Москвы?
Думаешь, сам достал? Спасибо Имираслану, он пожалел. Спросил о тебе. Я
покраснел, вспомнил твою оплеуху, но тот ничего не заметил, потому что лица на
мне не было – все было черным-черно, ведь ехал я на открытой машине в кузове, и
дорожная пыль, мелкая как мука на мельничных жерновах, оседала на моей
белоснежной рубашке, на моей чисто вымытой шее, на моих блестящих черных
кудрях. Даже вспоминать страшно сейчас… Всю дорогу дрожал, боялся, что не
пустят меня такого грязного, как черта черного, в Москву… Билет достал в общий
вагон. Двое суток не сомкнул глаз. Народу было, как на нашем воскресном базаре.
Половина вагона солдаты. Один из них всю дорогу жалел меня, все время уступал
свое место, поднимал на третью полку. Оттуда я чуть не свалился. И не потому,
что спал крепким сном: там была такая жара… Я был, как барашек на вертеле над
огнем… Больше не стал туда подниматься: боялся потерять сознание и снова
упасть…
–
Интересно ты рассказываешь… Вот и пиши, как помнишь, как рассказываешь.
–
Смеешься? И теперь издеваешься?
–
Ударил я тогда не только из-за твоей учебы на художника…
–
А за что еще?
–
Хотел, чтобы ты пошел по стопам отца…
–
Почему же не ты? Тем более отца ты помнишь лучше нас…
–
Я пас овец, когда ты учился в школе; жить у родственников матери – незавидная
доля… Я бежал от них к чужим, на чужбину.
–
Ты не любил нашу маму?
–
Маму я любил, но не любил в ней мотовства, бестолковые дела ее.
–
Везде ищешь порок, всех критикуешь, все у тебя плохие… Я – шут, сестра –
злодейка, Идрис – лодырь…
–
Идриса ты не считай, не брат он нам больше.
–
Почему же его так?
–
Какой он нам брат, когда не помнит родной язык, обычаи, родство… Застрял где-то
в Донбассе, где дышать нечем… Не может в Махачкале работать?
–
Что говорить об этом сейчас… Жизнь разбросала нас, как семена, и попали мы в
разные поля: кто в хорошую почву, кто в плохую, теперь мы выросли и нет среди
нас тех, с теми грехами, какие ты ищешь в нас; не черним мы благородное имя
отца… И не важно, имеем мы титулы, будут они у нас, или не будет их вовсе…
–
Не крути мне мозги… говори толком о своем деле, чем ты занят целыми днями?
–
Чем может заниматься художник кроме своих картин?
–
Я вижу не картины, а форменное безобразие… Где ты видел лошадей на деревьях?
–
Видел и ты, но не обратил внимания… Я показывал тебе, когда шли мимо старого цирка…
Коней ты мог бы увидеть даже на крыше, если бы послушал меня, поверил моим
словам… Помнишь, мы шли тогда у Большого театра?
–
Я не сумасшедший… Коней на крышах видит только помешанный; а потом… когда я иду
по улице, не глазею по сторонам, а смотрю себе под ноги, не то сломаешь шею
здесь, в Москве, в этом каменном мешке…
–
Как ты можешь говорить такое, ведь ты в столице впервые!
–
Смотрел ее тысячу раз… Насмотрелся уже…
–
Во сне или по открыткам?
–
Подумаешь важность… Что на снимках видеть, что – так: все – одно.
–
А еще судишь о картинах, об искусстве…
–
Разве я не прав? В картинах должно что-то происходить, художник должен
рассказывать о больших событиях, о важных делах… А ты рисуешь какие-то дома,
цветы-татарники да сумасшедших лошадей и коров.
–
Я пишу то, что мне дорого, мною любимо…
–
Коров да лошадей, которые пасутся на деревьях?
–
Когда любишь, все видится иначе.
–
Лечиться тебе надо, а не о любви говорить… Женись, и все пройдет.
–
Я давно женат…
–
Где же, она, твоя жена, если это правда.
–
Ты видел ее не раз и не два.
–
Где я мог видеть твою жену, сам подумай, что ты все выдумываешь…
–
Знаешь ее по открыткам, по фильмам…
–
Знаменитость такая! А скрывал зачем? Боялся, что обругаю за женитьбу на
актрисе, на русской… Как ее зовут, как ее имя?
–
Не могу назвать тебе ее имени…
–
Почему же? Что за чудак, не хочет назвать имя своей жены…
–
Боюсь, что мы поругаемся опять.
–
Я так и знал… Прав был Маил… Не потому ли ты не пустил в дом, поступил с ним не
по-кавказски… Он же нам родня… Пусть она у тебя сама королева, но я не стал бы
жить с беззубой женщиной, со старой женой!
–
Он сказал тебе так?
–
И я так думаю.
–
Поразительно… И сестра говорила мне что-то в этом роде; и тебе успел насочинять
этот спекулянт… Когда же он приезжал в Москву?
–
В Москву не знаю, но в Россию он приезжает каждый год, каждую зиму.
–
Яблоками торговать?
–
Почему только яблоками? Продает он и груши, и сливы, и помидоры… Что тут
плохого?
–
О другом он не говорил, этот тип, о том, как однажды я хотел плюнуть ему в лицо…
Помешала тогда наша сестра, сказала: «Он наш гость, пришел проведать тебя…» Это
было прошлым летом.
–
За что ты его так? Он ли виноват, что у тебя некрасивая жена.
–
Нет у меня никакой жены…
–
Вот тебе раз… Успел уже разойтись? Я этому очень рад…
–
Жены у меня не было никогда. Я говорил о Москве, говорил о ней образно, как о
любимой женщине.
–
Ну не сумасшедший ли? Голова идет кругом от твоих сумасбродных шуток… И сестра
не отстает, тоже выкидывает разные номера, говорит, будто соткала ковер с
портретом Ленина…
–
Она не солгала… Соткала, правда, не одна она, а в группе трех мастериц; я в
третьем классе учился тогда, хорошо помню то время…
–
Если она такая смелая, почему испортила ковер, соткала мне так плохо?
–
У тебя на все свои мерки… Хвалили ты хоть кого-нибудь в жизни?.. Вместо
благодарности, отнял у сестры то, что сам же ей подарил.
–
Заслужила, и отобрал… Корова моя… Не за ковер, а за другое наказал…
–
За мотоцикл, небось? Ты же племяннику его оставил.
–
Ничего я никому не отдавал… Поставил у них под навес, а они присвоили себе,
превратили в курятник…
–
Нечаянно курица села на машину, а ты поднял шум…
Хорош
братец, ничего не скажешь.
–
Людей не знаешь, совсем одичал в Москве… Тоже мне учитель!
–
Что ни говори, поступил ты гадко… Отнять у детей корову – это свинство.
–
Рассуждаешь, как покойная мать… Тоже раскидывала добро направо, налево.
–
Даже о матери ты помнишь плохое…
–
Разве нормальная мать поступает так: даром продала наш дом, продала за ветер…
–
Виновата была в наших бедах война, а не наша мать… Как у тебя язык
поворачивается говорить такое о родной матери!
–
Жил бы отец, не случилось бы ничего…
II
Брат
все еще говорит, возмущается, но я больше не слушаю, не слышу его: жестокие
слова обожгли меня, ранили мое сердце, исхлестали мою память; ожили вдруг
картины детства, вспомнились давно забытые рассказы тети Мержан и Пери, моей
сестры. Вспомнил я вдруг руки матери, они всегда пахли травами. Целыми днями мы
не видели маму: то она на поле с серпом, то на горных долинах с косой.
Возвращалась мама поздно вечером с огромной ношей на спине, с горными травами
для буйволицы и меня не забывала: приносила то птенчика из разрушенного кем-то
гнезда, то перо куропатки пестрой, то букетик маков алых.
Однажды
мама, придя усталая с работы, посадила меня на колени и прижала к своей груди,
к сердцу своему так близко, что я вспомнил наши куда-то ушедшие часы с боем, с
гирями и большим, как солнце, маятником, протянула мне горсть пшеничных зерен,
омытых слезами, и сказала: «хлеба созрели необычно рано…»
В
другой раз, придя с поля, мама мне дала вместе с цветами кусочек черствого
хлеба. «С работы сберегла», – сказала мама.
Я
посмел спросить тогда: «Почему так мало?»
–
Война, сыночек, война… На наши поля напала саранча Гитлера и погубила наши
хлеба, опустошила наши поля.
–
А что такое Гитлер?
–
Гитлер – это чудовище, злой дэв (джинн, Дэв), и наши мужчины пошли убивать его,
ушли очистить наши поля…
–
Когда же убьют его?
–
Очень скоро… Восемь голов он уже потерял, осталась только одна, самая большая… И
хлеба будет снова так много, сколько ты захочешь.
–
И булки будут?
–
И булки будут белые.
–
И калачи будут?
–
И калачи будут с румянцем.
–
И пряники будут мятные?
–
И пряники, и сласти будут всякие…
Точно
не помню, эти ли слова сказала моя мама, и в таком ли порядке говорила она, как
я написал здесь, но точно помню говорили мы о хлебе белом, о калачах румяных, о
пряниках мятных, потому что грыз я тогда засохший кусочек черного хлеба.
Трудно
вспомнить сейчас, из чего состоял этот новый сорт хлеба: то ли из опилок, то ли
из камня? Но зубы мои справлялись с ним так ловко, что он таял во рту, как
мороженое на летнем солнце.
Еще
я запомнил проклятие моей матери. Проклятие это не переводится на другие языки
мира, потому что названо оно именем людоеда, девятиглавого дэва из сказки моей
матери, из первой сказки моего детства; проклятие это не переводится на другие
языки, а имя «Гитлер» звучит на земле везде одинаково – звучит везде, как
проклятие.
И
сейчас я слышу тихий голос мамы, вижу ее руки, только лица не помню. Об этом я
очень жалею. Жалею особенно теперь, когда стал художником. Какой же я художник,
если не запомнил лицо родной матери?
Помню
руки. Ими мама часто закрывала свое лицо. Плакала она часто. Плакала из-за меня
или за детей нашего села, я не знаю.
Мама,
прости: я не запомнил твоего лица. Мог ли тогда догадаться, что не увижу тебя
больше, потеряю тебя так рано. Я думал, жил скорее инстинктом, чем умом: ума у
меня не было вовсе, потому что я думал так: мамы рождаются вместе с детьми и
умирают вместе с ними.
Еще
я думал, мама, что ты на свете самая молодая, а умирают не молодые мамы…
Ума
у меня нет и сейчас, ничего у меня нет, если запомнил тебя без лица. Помню
полумесяц твой зубчатый, косу помню стальную: на заре ты уходила с ней… Бусы
помню твои янтарные, серьги помню серебряные, кольцо помню золотое, а лица не
помню: был младенцем, художником-младенцем – засмотрелся на блеск мишуры, на
украшения…
И
теперь, когда мне говорят: «Ты родился художником», – я принимаю это как упрек, как пощечину – память моя обезличила
тебя, как Нику обезглавило время. Но ты жива во мне, мама, жива в моей любви к
травам, цветам, лесам, горам, небу, солнцу…
III
Вспомнил
шинель отца. Как-то раз вернулся наш отец с улицы весь в снегу, поднял меня на
руки и сказал: «Сынок, я поймал для тебя зайца». Помню, как вырвался тогда из
объятий отца и бросился к порогу: мне показалось, заяц остался за дверью и ждет
меня там, ждет не дождется своего нового хозяина. Но путь мне преградил сияющий
отец. Ему было весело, радостно, увидеть слезы любимого сына, обманутого сына,
сына с повышенной фантазией, а потому всегда плачущего сына.
В
другой раз, отец посадил меня на свои колени, погладил мои кудри и сказал:
«…Вырастешь, будешь большим человеком… Говорил это он к тому, что я всегда
играл с неотточенным карандашом, черной палочкой. Мне нравились золотые буквы,
как они играли на черном лавке; читать я тогда не умел, а то непременно
запомнил бы их, эти чудо-буквы.
Последний
раз я увидел своего отца, покрытого шинелью, в изголовье лежала папаха с красной
лентой. Я тогда крутил деревянную юлу вместе с другими мальчишками и не
понимал, почему столько народу собралось в нашем дворе, почему плачут женщины и
почему стоит в углу красное знамя с черной каймой.
А
старший брат помнит отца, но говорит о нем как о постороннем, вспоминает, как
чужой, как человек со стороны, знает его по чинам, по службе: первый коммунист
села, первый председатель первого колхоза, один из двадцатипятитысячников…
Единственную
сестру ругает, а за что? Что знает он о ее делах, планах; догадывается ли он о
наших с ней разговорах?
Каждое
лето, когда приезжаю к ней в гости, она спрашивает меня об одном и том же: «Ты
сделал мне его портрет?» Говорю ей: «Не портретист я, по фотографиям писать не
умею». Она обижается и говорит: «Ленивый – вот ты кто… Остальное – твои
выдумки… Как это так: жить в одном
городе и не находить времени для первейшего человека – уму непостижимо…».
Объясняю,
говорю ей, что у главы государства есть дела поважнее, а потом, зачем ему твои
подарки… Сестра сердится: «Ва, Аллах,… что значит «зачем»? Мир на земле,
вырастила девять детей… Что в том плохого, что хочу соткать ковер с портретом,
с голубем, с цветами; хочу соткать, как благодарность, как добрую память…»
Сестра
у меня неграмотная женщина и все делает по зову сердца, по велению души.
Знает
ли старший брат о великодушии сестры, знает ли о том, как она проливает слезы
каждый раз, когда он ругает ее будто злодейку, обвиняет ее во всех своих бедах.
Пери
говорит мне:
–
Ты самый младший, самый любимый мой брат, тебе лгать я не стану… Пусть отсохнет
мой язык, пусть умру на этом месте, клянусь своим любимым сыном, первым сыном,
не могла я сделать то, в чем упрекает меня старший брат… Не могла я бросить
документы отца в печь… Который раз слышу его злые слова… Не могла родная дочь,
любимая дочь (больше всех из нас отец любил меня) лишить доброго имени отца,
лишить его славы… Разве дело в каких-то бумагах? Отца помнят люди нашего села и
даже района; помнят хорошие и плохие. Спроси тетю Мержан, она расскажет много
славного про своего брата. Правда, она недолюбливала его за щедрость,
гостеприимство – дом наш всегда был полон гостей… Но ты не можешь знать об
этом, а старший брат, хотя и помнит, не любил ни отца, ни матери; не знает
даже, где они похоронены… Корову отобрал… каков мой стыд перед мужем, соседями, перед селом… Курица села на
мотоцикл, случайно снесла яйцо… И за это обозвать меня негодной хозяйкой,
плохой сестрой, ругать всякими словами при всех, при муже, при детях… В деревне
не как в городе, разве за всеми уследишь?.. Куры то наши, то чужие… Села-то
наша! Не в чулан же их запирать к его приезду? Тогда Бог знает что подумает,
скажет: скупая стала на старости лет, как тетя Мержан… Обидно, но обиднее всего
слышать упреки из-за отца…
IV
Я
снова обратился к моему гостю, к своему брату. Не хотелось мне возобновлять
беседу: не получалось беседы у нас. Был разговор, был спор, а затем молчание;
молчал, потому что боялся новой ссоры… Теперь она стала неизбежной: механизм,
сдерживающий меня, был нарушен, что-то медленно раскручивалось во мне: я встал,
отодвинул стул, а брат отодвинул нож со стола: он нашел что-то недоброе в моих
резких движениях и стал ждать драки; прокуренными, жирными от колбасы пальцами
он взял недопитый стакан с красным вином, решая что с ним делать: то ли выпить,
то ли выплеснуть содержимое мне в лицо; чувства мои были раскалены добела, а он
это видел: я мог ударить его и не стыжусь признаться в этом; вспомнил свое
прошлое, свои мальчишеские годы, детскую обиду; и ударил бы, если бы не сел
голубь на подоконник моего настежь открытого окна, голубь Пикассо. И осталась
во мне только горечь, жгучая, как кровь, липкая, как смола, горечь
перегоревшего гнева.
Брат
сидел под моим зорким взглядом напротив меня.
Я
все скажу ему сейчас, скажу, как есть, как было: скажу, о чем болела моя душа
все это время, все эти годы…
–
Раз так, раз ты такой хороший, послушай, что я скажу тебе сейчас…
–
Это вызов?
–
Да!
–
Договаривай, что медлишь, говори, кто я.
–
Убийца! Ты – убийца!
–
Совсем рехнулся… Кого же я убивал?!
–
Я все скажу, только не перебивай, обещай не перебивать… Она была хромой и
слепой и все ждала тебя, а ты не возвращался. Я придумывал письма о тебе и
читал их ей. Она верила, что слышит твои слова, тобой написанные слова. Весной
приносил ей фиалки, а летом – землянику. Однажды я вернулся из лесу со
множеством ягод; нарвал в этот день так много (правда, как всегда – ни много,
ни мало), но на этот раз сам не съел ни одной: все для нее сберег.
Пришел
домой, а ее нет. Нет и матраца, где она лежала. Подумал, что её увезли в
больницу; спросил Пери. «Похоронили», – только и сказала она. Земляника вся
просыпалась к моим босым ногам, и стало мне как-то нехорошо, будто вот-вот
начнется рвота. Весь вечер сидел я один. Даже в кино не ходил. Ребята звали –
«Про войну»… Нет, ты скажи, почему не приезжал к нам тогда, мы так ждали тебя –
но ни тебя, ни письма… Пери ездила в район, пыталась узнать твой адрес,
надеялась позвонить куда-нибудь, в какой-нибудь далекий город. Мы гадали, считали
дни; проходили годы, но тебя все не было. Ждали твой младший брат, две сестры,
а ты все не приезжал… Я так гордился тобой, даже на классной доске писал: «Мой
брат тракторист». От тети Мержан услышал, что кто-то из наших родственников
учится на тракториста. Это было в первом классе… Никогда я тебя не видел, не
знал, какое у тебя лицо, какого цвета твои глаза; представлял тебя высоким,
сильным. И «Солнце» на турнике делаешь красиво. Хотел научиться у тебя
кружиться на перекладине, как это делали наши ребята. Я даже по бревну не умел
ходить, умел только угрожать: «Приедет мой старший брат, посмотрим тогда, кто –
кого…» Мальчишки смеялись и говорили: «Нет у тебя никакого брата, детдомовский
враль…». Я убегал, плакал и писал тебе длинные-предлинные письма и всегда
начинал так: «Мой дорогой, мой самый любимый, самый сильный, мой самый добрый
брат…». Сам же на них отвечал и читал их слепой сестре. Она от радости плакала,
плакала и Пери: видела все, догадывалась, знала про мой обман, но не знала, как помочь, как вернуть нам без вести
пропавшего брата. Пери слушала мои басни, знала наперед мои выдумки, но
наказывать не смела, кусала до крови губы… От боли, от слез слепой сестры ей
хотелось кричать, но она сдерживалась, терпела; тогда мой голос дрожал, но с
улыбкой на губах, с горечью на языке продолжал я читать «твое письмо»: «Я в
Москве. Это очень далеко. Здесь очень холодно, а у нас тепло… Во сне вижу вас и
наше село… Скоро приеду с подарками. Инаде привезу белую косынку в синий
горошек, Пери привезу белые туфли на высоких каблуках, а Наби привезу карандаши
цветные…»
Так
мечтали мы все трое вслух, я, Пери и незрячая наша сестра Инада.
Я
часто менял предметы наших желаний: для себя просил морскую форму, а для сестер
– носки из капрона и гребешки для волос; не забывал просить и конфет – карамель
с абрикосовой начинкой; менял я также и города, откуда «получал» «твои» письма:
не мог же ты находиться все время в одном городе: называл Киев, Одессу, но
больше всего я читал «твои письма» из Москвы. В одном таком своем сочинении я
писал: «Здесь очень много людей и машин. В Москве есть и метро. Метро – это
город под землей, как бы ее вторая часть: возьми, к примеру, наше село: делится
ведь оно на две равные половинки: половинка на горе, половинка в ложбине. Так и
Москва: метро – это город под землей, где, как днем, много света; и людей, и
поездов много, и ездить можно – сколько хочешь, и все это за пять копеек,
катайся себе, сколько вздумается, хоть целый день!
Еще
в таких письмах я читал о Красной площади, о Мавзолее Ленина, о московской
зиме, о лыжах.
В
такие минуты Инада приподнималась с постели, садилась на подушку, как на трон,
и не дышала: она слушала тебя. Пери удивлялась, откуда я все это знаю, не
верила, что бывают такие города на свете, повторяла слова тети Мержан: «Под
землей бывают ад да иблисы, пекло да кости». Никто из нашего селения не бывал в
столице, и в народе говорили: «Счастливец тот, кто увидел Москву»…
V
Однажды
произошло чудо: я получил посылку, настоящую.
Вызвали
меня в сельский совет – я как раз в школу собирался; иду, думаю: «…Туда обычно
вызывают людей постарше и по делу… меня-то зачем? Кому я там нужен? Сам
председатель зовет, великан с орденом на груди…»
Поднимаюсь
по тропинке вверх, в гору (контора стояла высоко, напротив мечети, в ее тени),
поднимаюсь все выше, а голова моя опускается все ниже, клонится к земле, как у
вола под каменной тяжестью ярма; иду и припоминаю свои грехи»… Пожара в селе не
было давно, да и со спичками не хожу, как Рагим, курильщик и забияка… Если
билеты подделал когда-то и с друзьями ходил в кино, за это давно получил свое:
угодил тогда в руки самого Айни, нашего «завклуба»; схватил он мои уши и стал
крутить их так и сяк: решил вить из них хорошие веревки… Терпел, терпел я эту
его странную игру, и, когда стало совсем невтерпеж, невмоготу, заорал. Тот
обрадовался, будто достиг своей желанной цели, и радостно воскликнул: «Теперь в
самый раз… Уши – как у настоящего ослика… И никакой ты не художник…». За давний
тот урок благодарен я ему по сей день: понял, подрисовывать билеты в кино и
списывать с чужих тетрадей – одно и то же; с тех пор начал ценить по-особенному
свои уши. Они стали служить мне, как барометр, как часы: по ним стал проверять
свои дела; уши, эти «органы памяти», как их называли древние, и теперь служат
мне караульными, оберегают меня от лени и других вредных привычек… У зайцев,
собак, чуть ли не у всех животных, уши играют ту же роль – роль дозорных,
потому-то и не ленивы животные…
–
А у осла?
–
Настраивающие тебя на веселый лад ослиные уши тоже стоят на страже, спрашивают:
«Бежать или стоять на месте?», спасают длинноухого от слепней и палки хозяина.
Что
касается кражи колосьев, на то была своя причина: повадился я ходить на обед к
могильщикам. Теперешний наш дом стоял напротив кладбища, прямо за нашим
порогом; сразу же за нашей калиткой рос целый лес надгробных памятников. И это
было очень хорошо. Я не шучу: соседство с покойниками имело определенное
преимущество, не думай, что я собирался лечь в могилу… Хотя ямы рыли совсем
рядом, почти возле нашего крыльца (я слышал лязг лопат), умереть я никак не
собирался. Знал, что могилы роют другим, и могильщики не смели копать мне яму,
не имели право, потому что я жил, хотел жить, хотел выжить. Понял тогда:
умереть мне никак нельзя, не хотел давать лишней работы полуживым старикам; их
лопаты и они сами отупели от сырой земли. Умирали тогда много, по несколько
человек в день: женщины, старики, дети. Я видел все это и сказал себе: «Надо
жить». «А как?» Как выжить? Как остаться в живых, когда я остался на попечении
двух полуголодных, двух беспомощных сестер; дом для сирот тогда еще не был
открыт: ждали, наверно, когда нас наберется побольше…
Обычно,
как только прекращался стук лопат о камни, я выходил за калитку, отправлялся к
свежей могиле, к старым могильщикам. Не считай, что я ходил попрошайничать – я
просто хотел есть. Могильщики приносили с собой на обед вареные яйца и хлеб из
серой муки. Они ели, разбивая скорлупу о свежий надгробный камень. Один из старцев,
как обычно, отрезал для меня кусочек серой лепешки, но проглотить на этот раз я
его не мог, хотя жевал долго, как старый верблюд; кусок встал поперек горла,
когда увидел я полумертвые глаза моего благодетеля.
С
этого дня и дал себе слово не ходить больше на могилы к старикам – совестно
было брать последний кусок у несчастных; тогда я решил красть колхозную
пшеницу, в ту же ночь пошел на свой новый промысел. Но не долго ходил: поймали
меня тут же, в первую же ночь, и притом с поличным, с молочной пшеницей, с молочными колосьями;
схватили меня, но наказали другого. Я же удрал, вырвался из клещей, из рук
Навруза, бригадира колхоза… Прибежал к себе и, как ни в чем не бывало, лег
спать, и как убитый заснул; спал бы себе допоздна, но разбудили меня чьи-то крики:
«Не я, не я…» Узнал голос Загира, ненавистного мне мальчика, с соседнего двора,
и возликовал: «Так тебе и надо, задира и драчун… Будешь теперь знать, как
приставать к маленьким…»
С
такими мыслями, с тяжелой головой, с нечистой совестью, я, незаметно для себя,
оказался вдруг в дверях чисто убранной просторной комнаты. Увидел стены,
расписанные под «дуб», сверху улыбался Калинин, и навстречу мне весело шагнул
Самед, протянул ко мне свои огромные руки и говорит: «Танцуй». Сам смеется,
хлопает в ладоши, а на груди у него танцует золотая медаль. Я оробел, хочу
уйти, но он удерживает меня и настаивает на своем: «Танцуй», – и все, мол. Я
подумал, что здесь отбирают танцоров, готовятся к празднику, к маю; хочу сразу
отказаться, потому что в сто раз лучше меня танцуют мои друзья Саид и Осман, но
боюсь огорчить такого большого, такого веселого человек, говорю председателю
сельсовета: «Я плохо танцую». «Не
важно», – отвечает дядя Самед. Я совсем застеснялся, потому что набежали
отовсюду мужчины и женщины, даже уборщица старая Тевриз оказалась тут, вместо
того, чтобы быть в мечети. «Мечеть» мы называем по привычке, по старой памяти;
клуб и ковровая артель расположились нынче там.
Поднимаю
обе руки, как бы говоря «сдаюсь», закрываю оба глаза, встаю на цыпочки, в
исходную позицию «Лезгинки», но вместо барабана и зурны слышу смех: почему-то
засмеялись все вдруг. Может быть, с меня упали шаровары (резинка ослабла в них
давно) или превратился я в надгробный камень? Ничего не помню сейчас. Очнулся,
открываю глаза и вижу прямо перед собой ящик с пятью сургучными печатями, вижу
настоящую посылку с адресом на мое имя.
Радость!
Открываю рот, хочу сказать что-то – и не могу. С горлом что-то произошло, я
потерял голос; а отовсюду сыплются вопросы: откуда? От кого? Я едва дышу, хриплю, как простуженная овца;
лицо горит, как после хорошей порции крапивы. Убегаю вниз по горе, мчусь к
сестре, мчусь на крыльях ласточки, превращаюсь сам в эту весеннюю птицу, хочу
обрадовать свою сестру.
Пери
не обрадовалась, заплакала и сказала: «Поздно-то как… Не дождалась наша Инада…»
В комнате сразу потемнело, померкло за окном яркое апрельское солнце, и мне
расхотелось прикасаться к запоздалому подарку, забыл бы его совсем, если бы не
тетя, наша тетя Мержан: вездесущая старуха оказалась тут как тут, подле нас,
подле нашей посылки, конфисковала ее, отобрала для своего сундука и сказала:
«Соберешь всех… Откроем потом, у меня». Унесла старая наш подарок…
Мы
едва поспевали за помолодевшей старухой, за маленьким ящиком с пятью сургучными
печатями.
Когда
вскрыли ящик, увидели дары: два гребня – один черный, другой белый с надписями – именами сестер. Мы заплакали, я
и моя сестра Пери; вместо подарков мы получили подзатыльники от тети Мержан:
«Плачете, как маленькие», – но, должно быть, тут же вспомнила она, когда
увидела нас плачущими, что перед ней все-таки дети, и дала нам по горсточке
конфет-карамелек. Потом мне протянула ремень, но сразу отняла, вместо него я
получил кепку. Не успел примерить, как тетя схватила ее с головы, сказала:
«Наденешь, когда подрастешь», – и спрятала и ремень, и кепку; Пери дала ленту
голубую и гребень белый, но сестра не захотела, сказала: «Уже большая…» Тогда
гребень и ленту она протянула своей дочери Адиде. Та прочла на гребешке «Инада»
и отдала его матери, она обругала ее, потому что не умела читать, и тоже
засунула в сундук…
VI
Потом
приехал ты, совсем не тот, кого мы ждали; приехал кто-то другой, совсем чужой.
Слишком долго пришлось нам тебя ждать, так долго, что даже имя твое успели
забыть… Я был не тот маленький школьник, учился уже в восьмом классе. Турник
мне больше был не нужен: я научил уважать себя за другое…
–
Как это произошло? Мальчик из соседнего класса как-то принес в школу рисунок –
спичку, нарисованную, «как живую». Это вызвало у всех удивление, как удачный
трюк уличного фокусника, а у меня негодование. Тоже мне художник! Я покажу этим
остолопам настоящую картину – с этой мыслью побежал к нашей кладовщице Кевсер.
Попросил у нее что-нибудь из списанного
белья и тут же понес их к своей драгоценной тете. Она не торопясь, с тщанием
старушки начала сшивать два куска материи в одно целое. Я торопил ее как мог,
но она нарочно тянула, приговаривая под свой крючковатый нос прибаутки: «…У
осла от нетерпения уши выросли длинными…» При чем тут осел?.. И не в заговоре
ли она с выскочкой Азадом?
Я
дал слово перед всем классом – закончить большую картину (не спичку
какую-нибудь) в три дня. Если не успею, ребята сочтут меня хвастунишкой,
поднимут на смех перед всей школой, назовут задавакой, как назвал я сам своего
соперника.
Что
нашли мальчишки в «Спичке» Азада? Он мне родственник? Ну и что? Пусть не
важничает, пусть не думает, что он один на свете умеет держать карандаш… А его
«спичке» – место в школьной уборной…
Я
помчался в лес. Не думай, что побежал туда скрываться от позора или чтобы меня
волки сожрали. Никого я не боялся в тот день. Достать в селении подходящий для
подрамника материал не так-то просто. Да и не дал бы мне дядя Абас ничего: и не
потому, что я спорил с его сыном по части искусства (Азад, как ты помнишь, его
чадо); не стал бы он портить свои доски на мое баловство. Теперь ты понял,
почему я отправился в такой поздний час в темный лес? Я успел даже натянуть
«Холст» на пахнущий орешником «подрамник».
Все
было готово к бою, но впереди была долгая ночь: как длинна она, когда ждешь
боя! Всю ночь не сомкнул глаз. Кроме нетерпения в ожидании утра был еще и
страх: боялся, как бы кто-нибудь из моих врагов – друзей Азада, не разорвал мое
полотно, мое белое «поле битвы».
Поднялся
чуть свет, до горна. Сделал еще одну проклейку под грунт. По этой части и по
всем подобным вопросам в предстоящей войне консультантом я выбрал Джафара,
нашего старшего пионервожатого. Вначале он с удовольствием покровительствовал
мне, ни на шаг не отходил от меня, давал советы (маслом я писал впервые).
Да,
ему нравилась новая роль, роль первого учителя будущего художника. Однако
вскоре Джафара как подменили – он ходил как безумный. Думаешь, от радости?
Ничуть не бывало. Скорее всего, с горя, от позора. Настоящее безумие началось у
него в день коронации победителя (верх над противником одержал я). Смотреть мою
картину собралось чуть ли не все село. Но домик, где я работал, был слишком
мал, тесен для такого количества паломников (писал я в бане детского дома).
Желающих видеть мою первую картину было так много, что пришлось пропускать их
по очереди, и поэтому паломничество продолжалось несколько дней. Все в один
голос признали лучшим «мастером по красавицам» меня.
Для
этого дня звание «лучшего мастера» принадлежало Джафару, и, как думали,
пожизненно. Теперь тебе понятна причина его умопомрачения. В тот злополучный
день он потерял лучшую из своих ролей – и доходную: заказы теперь шли
исключительно мне. Сельчане по-прежнему любили своего Джафара, но уже только
как лучшего артиста; как и прежде, ходили на спектакли с его участием, обожали
его в роли визиря в сельской постановке «Периханум». А я и не подозревал о его
зависти и ничего не понял, когда он однажды сказал: «Кого пригрел за пазухой»…
Понял его по-своему, ответил: «Яйца». Я возвращался от очередной заказчицы с
кульком яиц за пазухой – задатком за будущую картину. Встретил меня Джафар
возле кладбища и на мое приветствие буркнул: «Змею пригрел…»
За
картины платили мне не деньгами. Брал я разные сладости: халву, конфеты,
пирожки; но стеснялся, когда мне давали носки, носовые платки и другие вещи;
стыдился, когда называли меня художником, краснел, если хвалили за «красавиц»:
чувствовал, что искусство находится за пределами того, что я умею, что я делаю.
Джафар
знал мою слабость. Я страстно любил театр, искусство лицедейства; домогался
главных ролей, предпочитал играть любовников (хотел быть красивым). Джафар
всячески поощрял мою спесь, хотя видел, что не гожусь я на эти роли; совершенно
не понимая, что должен делать влюбленный в жизни, я отлично понимал, что на
сцене он должен быть красавцем. Поэтому не жалел акварели для своих губ, глаз,
бровей и щек.
Мой
бывший учитель живописи награждал меня лучшими ролями неспроста, желал моего
провала, домогался моего позора; в знаменитой «Периханум» я играл роль
несчастного красавца, бедного юноши, влюбленного в богатую красавицу, и с
треском провалился: я забыл все свои куплеты. Мог ли я вспомнить что-нибудь,
когда моя Асият (она играла Периханум) пела кому-то другому, кому-то из
сидевших в зале. Я искал глазами во всех рядах того, кому были предназначены
слова любви моей любимой.
Тот
провал ничему меня не научил: в пьесе «Мост дружбы» я снова репетировал роль
любовника. Партнером-отцом моей возлюбленной по сцене был сам Джафар. О
содержании пьесы ничего не помню: запомнил бы, если бы не тот конфуз на
премьере спектакля: Джафар ударил меня по спине палкой не бутафорской, а
настоящей, ударил нарочно или по ошибке, затрудняюсь сказать сейчас, но ударил
он тогда мастерски; трудно было в то время определить, поднял ли Джафар руку на
молодого мастера из-за мести; ведь дело происходило на сцене. Но ударил он
блестяще, превосходно выражая отцовский (читай свой) гнев, перешедший в
актерский – в вдохновение.
Зал
неистовствовал. Зрители, мои сельчане, будто взбесились; топали ногами, свистели,
аплодировали, кричали. Такой успех даже не снился моему противнику. Еще бы!
Всем понравилось, как я натурально упал, схватившись за бока, от боли, и
заорав, как в жизни; им было невдомек, что поднимусь я не так скоро, как
положено на сцене, как полагается молодцу, молодому любовнику. Поднялся я
только через месяц в районной больнице.
Об
этом случае узнали даже в Москве, поздно, когда предстал перед судом опытных
профессоров военной хирургии: хотели забрать меня на военную службу, но не
взяли, сказали: «…Не стандартная фигура… Не годен». И я заплакал.
Теперь
ты знаешь, почему не отслужил, не исполнил свой гражданский долг; потому не
называй меня неблагодарным сыном своего отца, своего Отечества и никудышным
братом.
–
Да, все это может быть, но то, что ты рассказал про Джафара – этого быть не
могло… Не мог ты рисовать красавиц лучше, чем он… Хвастаться может каждый…
VII
Я
слишком забежал вперед, и мне придется вернуться к тем страшным дням, к годам
моего малолетства.
Жаловаться
было некому: хотелось развеять свои страхи, а
довериться было некому; рассказать про них тете Мержан никак нельзя
было; и так нагоняла она на нас страху: говорила о чертях, о «кускафтар» –
ведьме с огненной пастью – и еще о каких-то бестиях; рассказывала о далеких
странах, где живут люди с собачьими головами; запрещала сестре выливать грязную
воду во двор, когда наступала ночь, и в зеркало глядеть. Не смотреть же ей на
грязную воду? А сестра только ночью и мыла голову: утром спешила на работу в артель,
на целый день; вечером еду надо было готовить и дрова наколоть… Мало ли дома
дел?
Тетя
и мне не разрешала выходить на двор в темноте… А когда нужда, тогда как? В
постель, как Салих, детдомовский мальчишка? В ответ строгая наша тетя Мержан
смягчала свой строгий приговор, учила, как оберегать себя от рогатых,
заставляла повторять все слова магического заклинания; когда я останавливался
на «биссмиллах», старая чародейка злилась, говорила: «Пис-пис» – кошек звать, а
не чертей пугать…» – и требовала, чтобы я повторил всю молитву: «Биссмиллах,
Рахмани, Рахим…»
О
других моих страхах она не подозревала. Ими я делился с тобой в своем очередном
письме:
«…Пишешь,
чтобы на ночь запирали двери… Так мы
делаем… Закрываемся на железный крюк, на щеколду и еще вдеваем в ручку
деревянную палку: так будет прочнее. Все это мы делаем, но как быть с
мертвецами: как спасаться от них, от наших ночных гостей в белых нарядах? Что
им наши укрепления? Наши запоры – пустая забава и ни к чему: они могут
появляться отовсюду; мы не зовем их, они сами идут к нам и нас зовут к себе.
Когда не откликаемся, сами являются к нам, незваные. Я не очень боюсь этих
невидимок: боятся их сестры. Даже Инада видит тех пришельцев; глаза тут ни при
чем: на то они и мертвецы, чтобы показать себя и незрячим. И в кино ведь так,
мы видим фашистов, а они нас нет – так и с нашими призраками…
Боюсь
я других самозваных гостей, скорпионов противных. Бывают они у нас раз в году,
в весеннее половодье. Плывут отовсюду, из-под камней, поднятых горными
потоками. Их так много, как наших бед. Мутная вода холодными волнами подползает
незаметно, как змея, и не узнаешь, как попал в ее холодные объятия. Но я
начеку, я не сплю. Сразу же после дождя поднимаюсь на крышу, разведать, далеко
ли нежеланные гости, прилив, вместе с ним жди и других гостей, скорпионов
проклятых. Но я не допущу их к нашему дому! Зачем я стою в дозоре, вооруженный
до зубов? В случае опасности, корабль спущу на воду, пусть он у меня из газеты,
палкой убью насекомых с ядовитыми хвостами, а подзорную трубу спрячу: задаст
мне сестра, если промочу ее чешне, образец для ковра. Вот я кричу с высоты, с
плоской крыши, со своей вышки сторожевой: «Эй, вы, трусы! Жирные скорпионы и
гнилистые воды, слышите меня?» Они услышали, и я возликовал, воскликнул:
«Испугались? То-то же»… – Но то был голос Пери:
«Вода… Инада…» Вижу сестру с поднятыми вверх руками, а на голове у нее
поднос, хлеб испекла она у тети Сувар.
Пери
кричала мне: «Инада одна, а ты играешь где-то там… Иди скорей домой, помоги мне
поднять ее…» Я же ей в ответ: «Она у нас легкая, как перина, справишься сама…»
Она заплакала и сквозь слезы говорит: «Ешь за двоих, пасешься на двух травах,
на двух лугах… А как что – делай сама…» Сестра была права: на завтрак я съел
хлеб с яблочным повидлом в детском доме и лаваш, обкатанный в масле у сестер.
Никуда
я не ушел, остался возле Пери; помог скатать палас с глинобитного пола, убрать
утварь, одежду и всякую другую мелочь на подоконники и в ниши; едва мы успели
поднять больную сестру на канду, высокий ящик, на сооружение для муки, вода тут
как тут, прямо у нашего порога; стала прижиматься к нашей двери, как воровка;
хочет разлиться по комнате, мы видим ее тонкие черные щупальца, стала
пробиваться сквозь щели, под двери. Тут мы хвать за ведра и тазы, да бросили их
тут же: к чему наша возня, когда кругом море; подвернул я свои штаны выше
колен, и Пери последовала моему примеру; стоим оба в таком неприглядном виде и
не знаем, что нам делать, как нам поступить: побежать, подняться на крышу –
Инада останется одна, в беде. Так никуда мы не ушли, остались вместе, остались
подле слепой нашей сестры, поднялись к ней на кровать, на деревянный постамент,
забрались на ее теплую постель и всем сразу стало весело; вскоре, забыв все на
свете, заснули мы все трое там крепким сном. Разбудило нас солнышко. Я смотрю
на сестер, как бы их спрашивая: «Не сон ли мне приснился?» Когда увидели стены
и пол, убедился, что это не сон: на отбеленных белой глиной стенах увидел следы
вчерашнего потопа, а на земляном полу среди множества мусора валялись трупики
множества скорпионов…
Из
нашей землянки, из дома на кладбище я писал тебе «в Москву», отвечал на твое
«письмо»:
«…Мы
живем хорошо, но только исхудала наша кровля от дождей и снегов, изогнулась
дугой балка ската нашей крыши, согнулась, как спина тети Мержан, – вот-вот
упадет, рухнет прямо на голову Инады…»
С
трудом уговорили перенести ее тюфяк в северную комнату, она долго не сдавалась.
Протестовала, говорила: «Привыкла я тут… люблю солнечную сторону… Умру у окна…»
Спасла нас хитрюга Мержан, сказав: «…Продувает тебя здесь насквозь, и сгнила
твоя тахта, скрипит, как старая телега… Сама пойду к дяде Абасу, он мигом
смастерит тебе новый настил, так весь свой век пролежишь на этих червивых
досках…» – и помчалась на верхнюю улицу за плотником; помнишь дядю Абаса? Когда
отец был жив, он часто заходил к нам; сделал рамы для наших окон и на дальней
веранде зимнюю уборную соорудил. Помню даже, как нас конфетами угощал. Но это
было давно, теперь он совсем забыл нашу сторону, не спешит в наш теперешний
дом, в дом возле кладбища.
Был
бы с нами ты, не звали бы никого…
VII
В
других своих письмах я спрашивал тебя о непонятных мне вещах, услышанных от
взрослых:
«…В
прошлую весну умерла красавица Бахтавар, утонула во время наводнения;
возвращалась она с родника из селения Кутлар (там брали женщины содовую воду,
чтобы испечь свадебный хлеб). И вот перед самым селом началась небывалая гроза.
Погибли тогда много деревьев в цвету, коров, телят, овец, ягнят. Потоки вод
обрушились с гор на село, на дороги, на прекрасную Бахтавар. Злые воды в один
миг смыли сельский мост, а вместе с ним и нашу красавицу; унесли прямо на
глазах у всех, утонула с полным кувшином на плече. Рассказывали, что со страха
она еще крепче держалась за медный кувшин с целебной водой, цепляясь за него, как
за спасителя, а кувшин только помогал приблизить ее конец. Все кончилось
вскоре, как видение дневного сна: молодое тело скрылось в мутном потоке, и
никто не помог; успели увидеть разодранное плечо красавицы и блестящую ручку ее
медного кувшина. Старухи еще смели кричать ей вслед: «Божья кара… Прижила
ребенка от чужого мужчины, сына родила незаконного»… А старики визжали на
майданах, как шакалы: «Заслужила… Собаке – собачья смерть…»
Говорили
Бахтавар такие слова и при жизни, а мальчишки даже камнями кидали в нее. Я же
ничего плохого не делал ей ни при жизни, ни после смерти; ничего не замечал в
ней плохого: видел только красоту. Была она черноволоса, длиннокоса, белолица и
всегда улыбалась. Голову она не покрывала платком. Только шелковый шарф носила
на своей лебединой шее. И платья она носила не такие длинные, как другие
женщины: они были небесного цвета, они были всех цветов весны. Старые и молодые
женщины завидовали ей, поэтому, наверное, и осуждали ее, она была красивее
всех, и походка была у нее веселая и свободная…
Я
вообще никого не трогаю… А Пери часто обижает меня… Может быть, я тоже
незаконнорожденный, раз так жестока порою сестра?
Совсем
недавно сидел я за могильным камнем, следил за игрой могильных божьих коровок и
сам играл с ними. Насекомые эти очень похожи на клопов (панцирь у них красного
цвета и обрамлен он черной каймой, а в центре – черная точка), и я подумал: не
права ли бабка Мержан? Раз в могилах завелись клопы, значит, живы мертвецы…
За
этими думами поймала меня сестра и больно ударила по лицу, по рукам, и я
побежал к тете Мержан.
Не
жаловаться на Пери и не о клопах могильных узнавать прибежал я к ней: хотел
спросить о себе. Ведь обижали же и красавицу Бахтавар!
–
Тетя, что значит Бахтавар?
–
Счастливая.
–
Счастливых разве убивают?
–
Наша Бахтава утонула… Никто ее не убивал…
–
Почему же не спасли?
–
Таких не спасают…
–
Таких счастливых?
–
Несчастная была она…
–
Почему же тогда прозвали ее «Счастливой»?
–
Кто знал о ее будущей беде… Один Аллах всему судья…
–
Родиться разве несчастье?
–
А ты подрасти вначале, тогда поймешь что такое рождаться в войну… Дитя Бахтавар
–дитя войны…
–
Я тоже, как ребеночек тети Бахтавар, да?
Старушка
рассердилась, шлепнула меня по затылку и буркнула себе под нос: «Не говори
глупости… Ты появился на свет в самый разгар цветов, в последнюю весну до
начала этих ужасов…»
IX
Стало
быть, я хороший, раз родился во время цветов, и я не должен поступать плохо.
Правильно ли я сделал, что не убил змею? Когда это было? Писал же я в прошлый
раз о том, как сменили настил лежанки больной сестры, а про змею написать не
посмел. Почему? Скажу немного позже.
Так
вот, пришел все-таки дядя Абас, и не с пустыми руками: принес с собой хорошие
доски, обструганные, гладкие и без единого сучка. Я, как подмастерье, помогал
ему, и работа у нас шла на славу. Мастерили бы в четыре руки и дальше, если бы
я не остановился вдруг, как вкопанный: наткнулся на какое-то гнездо; под одним
из сгнивших бревен я увидел маленькие яйца серо-зеленоватого цвета. Дядя Абас
встревоженно сказал: «Не трогай их… Дотронешься хоть до одного из них, тогда
конец вам всем… Змея убьет вас всех, укусит тебя и обеих твоих сестер…»
Со
страха меня бросило в холодный пот, а столяр, как ни в чем не бывало, продолжал свое дело: доска за доской, гвоздь
за гвоздем, обновил всю тахту. Уходя, дядя Абас пальцем мне пригрозил: велел
держать язык за зубами; так он и сказал. Я пообещал и даже тебе ничего об этом
не писал. Как хотелось рассказать мальчишкам, но никому ни слова не сказал, а
сестрам – тем более.
Но
самое страшное впереди, вспоминать даже жутко.
Дня
через два помчался я к сестре с хлебом с повидлом (воспитатели не ругали меня
за самовольные отлучки из детдома: знали, что у меня больная сестра, часть
своего завтрака я ношу больной сестре). Если Инада дремала или спала, сладкий
хлеб оставлял у ее изголовья.
Однажды
примчался во весь дух к сестре (хотел успеть обратно в школу), а там, на
красном одеяле, у самых ног Инады, противный черный ком; клубком свернувшись,
лежала черная жирная змея; глазам своим не поверил вначале, а кричать не
посмел: боялся разбудить спящую сестру; руки стали ватными, и хлеб упал
повидлом вниз, прилип к моему новому ботинку; гремучая же будто уснула мертвым
сном, лежала словно мертвая – никакого движения, никаких признаков жизни.
Я
был в полном оцепенении и не знал, как поступить; как мне быть, что мне делать.
Убить? А если промахнусь? Что тогда? Беды не миновать: гадюка набросится на ни
в чем неповинную жертву, на мою несчастную сестру, и задушит её своими
страшными черными кольцами.
Едва
придя в себя, я, что есть духу, побежал к тете Мержан. Старая ничуть не
испугалась и в обморок не упала, сказала: «Никого она не тронет… Не глупая…
Тварь тоже имеет сердце, знает добро и зло… Змея тоже – божья тварь… Умница
она: помнит тебя, твою доброту…»
Услышав
ее сладкое мурлыканье, я подумал, что тетя сошла с ума, в бреду. Но нет же! Она
еще смела продолжать ту же песню, говорить ласковые слова гаду: «Ручная она
теперь… Змея, а все же – мать… Ученая она теперь, прирученная… и приручил ее
ты…»
Я
хотел запустить в старуху полный книгами портфель: нашла время шутить, когда
нужно немедленно спасать сестру, пока не проснулась гадюка.
Тетушка
будто почуяла грозу, примерила, должно быть, тяжесть книг моей котомки на свою
больную голову (голова у нее была туго завязана смоченной в холодной водке
марлей, по-видимому, не нарочно), тихо произнесла:
–
…Не тронет она Инады… Недаром же мы кормили ее сластями…
–
Ах так, змея, значит, облизывала мое повидло…
–
А ты как думал? Крала твой сладкий хлеб родная тетя, обкрадывала твою сестру…
Если на то пошло, я не меньше ухаживала за твоим ползучим другом, кидала ей под
доски конфеты. Чтобы ядовитый зуб твоей обжоры сгнил и скорее выпал…
Не
верилось что-то: такая скупердяйка и вдруг угощает конфетами гадину.
Я
торопил хвастунишку, свою негодницу-тетю:
–
…Ведь надо что-то делать!
–
Ничего не надо… Подрастут детки, сама уйдет; вернется к себе на кладбище:
оттуда приползла она к нам…
После
ее слов я стал еще больше бояться могил, могильных камней; начал опасаться за
своих сестер в нашем доме возле кладбища: мало было у нас хлопот с мертвецами;
теперь и гады с ними заодно…
X
Когда
на душе становилось особенно тяжело, я мечтал о далеких краях, думал о далекой
России:
«Какая
она Россия? Такая ли вся-вся синеглазая, как глаза нашей воспитательницы из
далекой Москвы?
Говорят
там нет гор… Это правда? Как это бывает, когда не бывает гор? Куда же прячется
солнце?
И
еще: русская учительница нам рассказывала о том, будто в России весной можно,
как коров, доить деревья… Нет, я хочу скорее в эту сказочную страну. Не знаю,
что делать с моим ростом, как бы подрасти мне скорее… Приехал бы ты, может
быть, и рос бы я побыстрее… Очень хочу своими глазами увидеть все эти чудеса,
эти деревья с сосками, как у коров: хочу сесть под коровой (я хотел сказать:
под деревом), под деревом с большим выменем, полным чудесного напитка, и пить,
сколько влезет; дерево доброе, дерево не забодает и не сердится, как корова, не
лягнет копытами…
Воспитательница
захохотала: оказывается, она умеет читать чужие мысли. Может быть, я мечтал
вслух? Потому что Мария Петровна сказала, смеясь: «Ну и фантазер же ты… Нет
таких деревьев в России, никаких сосков у берез нет… «Доить» дерево можно, но
вначале нужно сделать надрез, но очень осторожно, поранишь дерево, оно забодает
не хуже коровы. Поласкай его, если поступил неосторожно, если порезал больше,
чем надо… После этого можно и полакомиться живительной влагой с запахом весны…»
И
леса будто синие в России, а облака солнечные, и сны там снятся цветные…
Еще
говорила моя воспитательница про сосны, про елки и очень жалела о том, что не
может словами передать запах вечнозеленых лесов. Тогда я показал на ореховое
дерево, сорвал лист с атласным отливом, пожевал его: хотел описать запах нашего
дерева; на вкус оно оказалось горьким. Вместо хороших слов об аромате красивого
дерева (красивого, как надутый гигантский зеленый шар), вместо красивых слов я
стал корчить рожу, некрасиво двигать губами, плеваться горечью. От тети
научился все проверять «на зуб»; иначе как узнаешь вкус серебра, вкус золота;
сколько раз я видел взрослых дядей с пальцем во рту: как определить иначе вкус
боли, если не знаешь вкус крови…
Елки
нам показывала наша воспитательница с картины сказочного художника Васнецова.
–
Опять сказка, – сказал я Марии Петровне.
–
Сказка приходит к вам не из учебников, а из жизни; на все надо смотреть глазами
сказочника…
–
Мои глаза не годятся: они черного цвета… Как можно увидеть сказку черными
глазами…
Засмеялась
моя учительница и сказала:
–
Гомер все видел, а он был без глаз… И Сулеймана Стальского называли «Гомером
двадцатого века»…
Я
недовольно фыркнул: «…Зачем мне легенды о легендарных старцах?» – и только я
хотел уйти, как услышал новое, дотоле незнакомое мне слово:
–
Воображение надо… Иметь глаза еще не все, и цвет глаз тут ни при чем… Глаза
имеют и звери… Глаза могут ослепнуть, глаза могут уставать… В России нет гор,
только – леса, только небо; только даль видят глаза…
–
Сильно устают глаза без гор?
–
А ты отдохни, глаза закрой, послушай песню…
–
Кто может петь в лесу, вдали от людей?
–
Деревья, листва, небо, солнце... – И она запела. Голос у нее был чистый,
звонкий, но спела тихо, как бы для себя: громко петь боялась. Услышит вдруг
кто-нибудь из наших старух: «Непонятно…», – скажут они. Вредная тетя Мержан и
не такое сказала однажды: «…Дрожит, как простуженная кошка…» Где она могла
видеть простуженную кошку? Назло тете пел я русские песни в «мечети». «Гуси,
мои, гуси…» и «Так сеяли мак…» – так назывались те песни; даже пояс надел с
серебряной чеканкой… Русские не носят такие пояса? Зато красиво, серебро не
испортит песню, не помешает серебряным перебором…
Письмам
моим не было конца, и были они без начала и конца; были ли они письмами вообще,
эти мои невыдуманные рассказы?..
Я
рос один, редко с кем дружил: кровожадные забавы мальчишек ничуть меня не
забавляли и хвастаться мне перед ними было нечем: драться я не умел, проворно
бегать и прыгать – тоже; рос отшельником, скучал среди своих сверстников,
чувствовал себя с ними чужим, заброшенным, одиноким; старался держаться от них
подальше, на расстоянии; хотел быть один, наедине с тобой и писать тебе свои
письма без конца и начала; хотел поделиться с тобой всем тем, чем болела душа,
всем тем, что увидел и услышал в селе. Таким образом, я, маленький школяр,
превратился в «большого летописца», в сельского хроникера.
Книги
с портретами великих людей настраивали меня на эпический лад; и я ходил «в
обнимку» с Пушкиным и Лермонтовым: носил их портреты в грудном кармане своего
пиджака (мне нравились их золотые кудри, золотые погоны, золотые пуговицы).
Охотно читал Пушкина и Лермонтова (в переводе), восторгался ими, но верил им не
до конца; не может знать человек язык птиц, зверей; про себя рассуждал:
«…Пушкин и Лермонтов писали стихи, потому что обладали хорошими голосами;
любили петь и писали к своим песням хорошие стихи». (Я путал поэтов с ашугами.)
Моя
воспитательница сказала:
–
Ложь прекрасна в сказках, ложь – правда в сказках…
Я
не сдавался, спорил, говорил:
–
Как научились, как узнали они язык зверей и птиц, цветов, лесов и степей?.. –
Они не ходили с камнями, с рогатиной в кармане; не портили своими именами имена
деревьев…
–
Разве у деревьев бывают имена?
–
А ты позови, попробуй.
–
И дерево отзовется?
–
Отзовется, если умеешь слушать.
–
Пушкин, Лермонтов звали деревья по имени и отчеству?
–
Пушкин, Лермонтов умели молчать, когда говорили деревья, когда пели птицы.
–
И гнезд они не трогали, и птенцов?
–
И гнезд не трогали с птенцами…
–
И трав не топтали с цветами?
–
Травы вместе с цветами поили они водой.
–
Бабочек и кузнечиков не терзали они?
–
И бабочек и кузнечиков не терзали они.
–
И у деревьев они не ломали сучки, когда срывали яблоки?
–
Если была сломана ветка, мазали ее свежей землей…
–
И я могу писать стихи, если брошу рогатину и камень?
–
Обязательно напишешь…
–
Как Пушкин?
–
Как Пушкин не знаю, напишешь по-другому.
–
Лучше Пушкина?
–
Лучше, когда пишешь по-своему.
–
Как писать по-своему?
–
Учись у Пушкина, у природы…
–
Как учиться? Пушкин умер давным-давно!
–
Пушкин бессмертен, как бессмертна природа.
–
Как учиться у природы, она ведь не знает человеческого языка…
–
Наблюдай за каждой букашкой, найди им имена; разговаривай, заговаривай с
муравьями, бабочками, жуками… Родственны они нам…
Как-то
раз угостил я нашу воспитательницу абрикосами, а она говорит:
–
Скажи мне, на что похож абрикос, что у меня на ладони?
–
На карамель, – ответил я.
–
А поточнее?
–
На каплю…
–
На каплю чего?
–
На каплю коровьего масла.
–
Неправда.
–
На что еще похож – не знаю…
–
Думать надо…
–
Как думать, когда в руках абрикосы?..
–
Не о еде думай сейчас, я спрашиваю о красоте…
–
Я постараюсь думать только о красоте…
–
Хорошо… Можно теперь я скажу об абрикосах?
–
Скажи, я давно жду.
–
Они похожи на бусы…
–
На какие бусы?
–
На бусы для четок… Они из янтаря.
–
Похоже, но не очень…
–
Когда будет очень похоже?
–
Когда будет красиво…
–
Я не умею красиво говорить…
–
Надо учиться…
–
Этому нас не учат в школе…
–
Научат… Но видеть красоту учит нас сама природа…
–
А как?
–
Смотри и наблюдай… Скажи, например, о той горе что-нибудь хорошее…
–
Гора наша Шалбуздаг самая высокая…
–
И это все?
–
Вершина ее всегда в снегу и…
–
Я не слепая, сама вижу, что она в снегу… Скажи о ней как о своей любимой
сестре…
–
Но это просто… Сестра меня любит, и я ее люблю…
–
А за что ты ее любишь, за красивые глаза?
–
Глаз у нее совсем нет, она слепая…
–
Ты плачешь? Ну, не сердись, пожалуйста, на меня, я не хотела тебя обидеть…
Ничуть
не обиделся я на свою воспитательницу в тот день. Я очень устал от ее уроков
красоты.
Спустя
несколько дней Мария Петровна уехала. Я подумал: не из-за меня ли она так
поспешно покинула наш край?.. Убежден, что уехала наша воспитательница в
Москву, устав от моих слез, от моих «стихов».
Прости
меня, моя добрая наставница. Простите меня, Мария Петровна: я сегодня Вас
называю на «ты». Я сильно уставал от Ваших уроков, я был как выпавший из гнезда
птенец: хотел подняться, долететь до Вас, до Ваших крыльев, мы искали друг
друга, я видел Вас, а Вы искали меня, надеясь увидеть меня. Теперь настал день
нашей встречи (или настанет очень скоро). В этот день отвечу, наконец, на Ваш
давний вопрос: тот спелый абрикос, что видел я на ладони Вашей маленькой руки,
выглядел как капля солнца. Спасибо Вам за то, что не подсказали мне это тогда.
Вы
сильно уставали от меня, от моих сочинений в стихах, а писал я их, если
помните, целыми тетрадями. Я забросил рисование, как старое, давно знакомое
дело. И после Вашего отъезда писал стихи, хотя читать их было некому: друзья-мальчишки
были вечно в бегах, всегда дрались между собой; уши их тоже были заняты: за них
хватали учителя, а руки тех мальчишек были заняты камнями, палками, лягушками,
даже змеями. Ужам за пазухами не было счета: они могли выползти на волю во
время урока, могли пастись на крашеном полу класса, между партами, под нашими
босыми ногами, как домашний скот на весеннем лугу; учителя рисования и даже
учителя математики эти твари ни во что ни ставили. На перемене мальчишки
превращали их в браслеты, пояса: обвязывали ими себе талии, обматывали шеи; ими
пугали соседок по парте, доводили их до истерики, а меня вгоняли в холодный
пот. Сколько ни убеждал себя, что уж – это ремень или палка, но страх сковывал
меня: уж похож на змею – вот и все; канаты и палки тут ни при чем, разве лишь
для того, чтобы привязать ими тех смельчаков к стволу орехового дерева и
посмотреть, хорошо ли им будет за пазухой шершавого дерева.
Страх
сковывал меня. Я убегал вместе с девчонками из класса, а там нас ожидала
засада: все мы, и правые и виноватые. Непременно натыкались на кого-нибудь из
учителей, и непременно на злейшего из них, попадали в горячие объятия грозного
директора, а он своими цепкими руками начинал раскрашивать наши уши, свивать из
них такие яркие жгуты, что хоть пойди и сдай в ковровую артель: получились бы
из них ярчайшие паласы…
Так
проходили дни после Вашего отъезда в Москву. Но я не забывал Ваших поэтических
уроков: каждый день заполнял тетради новыми песнями, рассказами, даже снами:
это было гораздо увлекательнее, чем рисование, – нет гор, нет домов, видишь
только слова, а за ними целые картины. Словами я рисую лес, словами рисую
цветы, словом, каждое слово – птица: поет, порхает, летит.
Я
упорно готовлюсь к встрече с Вами, с Москвой, об этом расскажу Вам при нашей
встрече, но прежде пусть послушает меня мой старший брат, пусть узнает, почему
я так рвался в Москву и так сильно полюбил столицу.
«Мой
дорогой брат… Могу обрадовать тебя… Научился, наконец подтягиваться на турнике
и ходить по бревну… Сейчас учусь самому трудному делу: учусь не мигать и реже
дышать. Зачем мне это надо? Как же? Хочу быть часовым, хочу стоять на часах у
Мавзолея. Правда ли, солдаты в почетном карауле у Кремля не дышат целый час и
меняются через час, и смена – по кремлевским курантам, и тоже через каждый час,
так во все часы дня и ночи… Хочу в солдаты, хочу скорее в Москву, скорее на
Красную площадь… Правда ли, Кремль – красного цвета, если нет, то почему
площадь называют «Красной»… Мальчишки спорят со мной, говорят, будто Красная
площадь потому красная, что отделана красным мрамором со дна Красного моря…
Теперь
об одном событии…
Недавно
я увидел громадину с шестью парами колес. Приехала такая машина к нам в село с
товарами прямо из России. Как я это узнал, сейчас расскажу, не считай меня
хвастуном, если скажу, что машину первым увидел я. Я следил за колхозным
стадом, спрятавшись за каменной оградой, следил, конечно, не для того, чтобы
кого-то ловить… Мальчишки уже были в саду, лазали по стволам, как обезьяны,
лазали за самыми красными яблоками, а они находились, как на зло, под самым
небом. Я же охранял их от палки садовника. Не думай о нас, как о маленьких
воришках: яблок в наших садах полным полно, но чужие яблоки вкуснее и ярче –
пусть это останется между нами. И по величине они намного больше и круглее, и
хрустят они как-то по-особому, и цвет у них невероятного вкуса: цвет яблок из
чужого сада напоминает мне вкус горечи, соленой сладости, боли, вкус тепла в
носу… Ну, вот я и разболтался: хотел рассказать тебе о русском парне, о
приезжем шофере и о его злополучной истории, а заговорил совсем о другом. Как
рассказать о чем-то одном, когда кругом так много всякого непонятного,
интересного, нового? Хотя бы вот этот случай с машиной у нашего села.
Дорога
наша, как ты знаешь, особым гостеприимством не отличается, слишком тесна для
таких громадин. Дело даже не в ширине дороги: машину подвел придорожный грунт.
Недалеко от поворота, если помнишь, совсем близко от моста находится коровник,
оттуда доярки каждое утро выгребают навоз и сбрасывают прямо в овраг. Со временем
овраг наполнился до самого верха – теперь и не разберешь, где овраг, где
твердый грунт: везде гладко. Вот шофер и поверил навозной обочине. К счастью,
за рулем сидел не лихач, да и притормозил он у поворота. Но все равно – машина
встала на дыбы…
Я
сразу помчался туда, к месту происшествия, забыл про мальчишек, про сад, про
яблоки и про все на свете… Я оказался лицом к лицу с героем. Это был плечистый,
приземистый парень с удивительно светлыми волосами и глазами, прямо-таки небо и
солнце были в его лице – такое исходило сияние от голубых глаз и его золотистых
волос… Он попросил воды (по-русски я не очень хорошо говорил и не все понимал,
но «вода», «хлеб», «соль» – эти слова на всех языках выучиваются прежде всего).
Как мне ни хотелось оставаться рядом с русским шофером (похвастаться хотел
перед нашими ребятами), тут же стрелой побежал на родник и так же быстро
вернулся с хрустальной водой. Но радость моя была омрачена, когда рядом с моим
кумиром образовался непроходимый круг мальчишек. Вскоре к ним присоединились и
ротозеи из взрослых.
Вернулись
мы к машине поздно вечером, после нашего ужина. Не думая, не надеясь, что
увидим снова того парня, правда, кое-кто из наших мальчишек захватил с собой
гостинцы: бутерброды с маслом, яблоки (наш гость не догадается, что они
ворованные). Он знает, что мы хорошие, видел нас, помнит меня.
Какова
была наша радость, когда увидели желанного гостя у его машины, он курил и
обрадовался нашему появлению. «Не курите?» – спросил, то ли желая на самом деле
угостить нас, то ли из вежливости. Мы все хором ответили «нет», отрицательно
покачал головой, даже Осман, наш заядлый курильщик; мы были за это ему
благодарны: когда расходились, все ему говорили «спасибо» за то, что он нас не
подвел, я даже карамелью его угостил, как бы мне и было ни жаль моих конфет,
честно признаюсь.
«Алеша»,
– так представился светловолосый гость – похвалил нас, сказал: молодцы – потом
стал спрашивать, как нас зовут. Мне показалось, что мое имя ему понравилось
больше других, потому что и его имя мне было по душе… Скажи, брат, у тебя есть
друг с именем «Алеша»?
Я
и все остальные ребята звали его к нам, переночевать в нашей учительской, мы
договорились с Аладдином, нашим сторожем.
Алеша
отказался, сказал: «…Никогда не видел такой звездной ночи…» Мы все посмотрели
на ночное небо и ничего не могли ответить. Я хотел спросить: «Какие бывают ночи
в России?» - но постеснялся, вдруг он меня не поймет? Вспомнил, как смеется
надо мной Мондрусов, учитель русского языка, вечно заставляет повторять: «мел –
мель», «банька – банка»… Алеша будто догадался, о чем я хотел его спросить,
сказал: «В России белые ночи… Таких черных ночей в России не бывает…». Он
остался ночевать под открытым небом, не мог покинуть свою машину, как капитан
потерпевшего крушение корабля. Может быть, он опасается за товары? От этой
мысли я весь покрылся холодным потом: вдруг он боится нас? но ведь мы воруем
только яблоки, и то не всегда, только поздней осенью; Алеша вряд ли знает о
наших проделках, и ты не узнал бы никогда, если бы я сам честно не признался
тебе как брату…
Пришли
мы к себе в палату и сразу легли спать, потому что давно протрубил горн
«отбой»; лег я, но сон не шел, обронил я его где-то на улице, наверно, около
Алеши, потому что я все время думал о нем: вдруг он мерзнет, ночь-то звездная!
Ждал, пока заснет Иминаде, наша нянька, ну, она страдала бессонницей; вскоре,
как по заказу, завела свое веретено, и мы (я разбудил Османа, намекнул на
конфеты) под мерное похрапывание старушки вынесли вчетверо сложенное одеяло для
русского богатыря. Никто нас не видел, кроме далеких звезд, а луна задержалась
за Шалбуздагом до тех пор, пока мы с
Османом ни вернулись к нашей старушечке-храпушечке. Под ее мирное
веретено, на покой, к нашему запоздалому сну, к моему нашедшемуся сну…
XI
Итак
– я рисую.
Вот
мужчины-силачи тащат за рога быка, темного, как безлунная ночь, тучного, как
грозовое небо. Привели, поставили к стене против света, в профиль, привязали
цепью к бревну и стали кормить его, как корову…
Вот
чудаки: привели, сами привели мне натурщика и какого необыкновенного натурщика,
быка! Здесь у задней стены сельмага я рисую своих друзей, зову кого-нибудь из
них, ставлю напротив стены и царапаю штукатурку – обвожу тень на стене от
головы гололобого приятеля из детдома.
Откуда
ни возьмись, конечно же появляется стайка уличных мальчишек, дерзко
набрасывается на мои рисунки, на портреты моих друзей, пририсовывает к контуру
огромные рога, огромные уши, огромные зубы, превращая мои портреты в бандитские
рожи с противным оскалом, с дымящимися папиросами и плохими словами в облаках
дыма.
Потом
непременно появляется Кардхан, властелин магазина, хозяин царственных яств; он
долго кружит над нами, над нашей дружной свалкой у стены. Как голодный хищник,
как коршун над цыплятами, и вдруг когтит кого-нибудь из нас, чаще всего меня;
хватает смело: знает, что в пыльной куче, в змеином клубке у стены магазина не
найти ему слабее меня; но знает он и другое: среди «рисовальщиков» на стене нет
равного мне, догадывается по глубоким следам, по свежим ранам на
свежеотбеленной штукатурке.
Что
мне оставалось делать, если стена была так привлекательно бела и так
притягательно близка от нашего приюта. Так хотелось мне порадовать своих
друзей.
Мои
«художества» начались однажды и неожиданно. Все на свете начинается однажды,
как однажды покрасили, побелили известью наш магазин; и я решил заселить
скучную белую страну своими друзьями.
Не
начни тогда Кардхан мое воспитание с подкупа, может, и не стал бы я рисовать
столь усердно… Первый раз, когда я попался ему в руки, он слегка потрепал мне
уши, но тут же угостил конфетами: мое рисование он принял, как баловство, не
придал этому моему занятию особого значения; мол, пройдет при первых же лучах
солнца, как летний дождь; разжал свои длинные пальцы и протянул мне карамель с
абрикосовой начинкой. Это его погубило: разве можно давать конфеты сластене?
Замени
Кардхан тогда мою любимую карамель солдатским ремнем, и вряд ли вошел бы я в
раж: я вставал до зари, вместе с петухами, и в предвкушении очередной порции
сладкого, звал кого-нибудь из ребят к самой дальней стене магазина, ставил
против первых лучей солнца в профиль и «рисовал» до прихода школьников-забияк,
до прихода сердитого волшебника из магазина, до открытия его сладкого дома.
Кардхан
вместо конфет стал угощать меня увесистыми тумаками и уши тянул искуснее и
больнее, в сто раз больнее, чем прежде.
Но
было поздно: Кардхан пожинал плоды конфетного воспитания – я разучился
повиноваться; изо дня в день продолжал расписывать магазин со всех сторон.
Между маленьким художником и очередной большой стеной шла самая настоящая
война: хозяин магазина не в счет – я же говорю, что разучился повиноваться, я
хотел быть властелином над белым цветом, где бы он ни появлялся, где бы он ни
сохранялся, а нетронутой оставалась одна, фасадная сторона белого магазина. Для полноты победы не
хватало заключительного удара, и для этой цели я выбрал лицевую часть магазина
с хвастливой вывеской – работы рук Джафара.
Судите
сами: красавица, с улыбкой мученицы, держит на голове поднос невероятных
размеров с великим множеством яств; тут и фрукты, и колбасы, и вина, и всякие
сладости, и все эти вещи никак не находятся на подносе; они как бы растут из
самой головы девушки. Все это обвито не то лианами, не то змеями, не то
гроздьями винограда (виноград Джафара имел цвет отравы). Но это еще не все… там
летали птицы пестрые, как бабочки, они клевали не зерна винограда, а глаза
несчастной девушки… Во мне говорит зависть? Ничуть. Хотел бы я увидеть это
богатство на голове щедрого автора и посмотреть на его лицо: вряд ли он
заплакал бы тогда слезами радости.
Что
же мешает мне испортить фасад, почему я тяну? Я боюсь. Боюсь не Джафара с его
вывеской, боюсь я всадника без головы: не самого всадника боюсь и не кинжала
его.
Рисованый
воин на полотне-ширме – как живой; и конь под ним – как живой: гарцует, как в
жизни, – так и летят искры из-под копыт, а глаза скакуна горят живым огнем,
горячим блеском, как у необъезженного арабского скакуна. Он белый с синеватым
отливом, как снежная вершина далекого Шалбуздага. А на боках красавца –
серебром чернеют пятна-яблоки невиданной пестроты, яблоки из чистого серебра. И
наряд всадника великолепен: черкеска с патронташем, острый кинжал на боку,
каракулевая папаха – кудри из-под нее играют на ветру, играют с ветром…
Было
все, но лица не было; вместо лица дырка, белое пятно, белая стена. Близко
подойти к полотну я не решался и смотрел на рисованую сказку издалека. Не
хозяина «всадника» я боялся – фотограф-пушкарь знает меня, как хорошего
мальчика; знает, что я не трону его «птичек», а выпускает он их в день всего
штук пять, да и то не всегда. Когда-то еще появится очередной любитель карточек
«на память». Целыми днями торчит камера-пушка с птичками, торчит мастер, торчат
они оба – два истукана перед магазином… Пусть себе торчат, мне нет дела до
сельского мага-волшебника и его треножника; я думаю о себе, я боюсь самого
себя. Вот пойду, поднимусь на табуретку, дотронусь до белоснежного овала в
декорации пушкаря и дорисую безголовому смельчаку усы, нос, глаза. Но нет же!
Опять кто-то на моем пути: идет Аслан Магомедович, учитель физкультуры,
подходит к рисованому полотну, поднимает своего малыша на руки, вставляет его
личико в белое отверстие, а потом «птичка» дяди Самеда – и чудо готово: на коне
джигит с личиком ребенка, мальчик с кинжалом на боку, с кудрями, летящими по
ветру.
Ты
понял? На солнечной стороне магазина я оказался не по своей воле, это была воля
Джафара. Его вывеска над сказочным крыльцом нового магазина тут ни при чем.
Заговорил я о ней только потому, что увидел ее снова и снова разозлился.
Захотелось что-то сделать. Ну, написать на стене плохое слово, а рядом
нарисовать самого Джафара.
Я
думал присоединиться к толпе, что собралась у задней части магазина, а Джафар
тут как тут: встал поперек дороги, и преградил путь; вначале я не понял, что же
он хочет от меня: я увидел быка. Я рисую всегда тут на теневой стороне
торгового дома, и сегодня мне привели натурщика. Ну и пусть рогатого – не
всегда же мне гололобых рисовать!
Джафар
пристал ко мне, говорит что-то, требует сбегать в нашу столовую. А я представляю,
как буду рисовать быка: мазутом по белому, чтобы черный великан на фоне
белоснежной стены смотрелся, как жирная клякса на альбомном белом листе. Бык
стоял против солнца – черная глыба, как осколок ночи, зев тьмы, сама тьма самой
темной ночи, сама ночь…
Джафар?
Он что-то говорит? Наверно, он предлагает мне рисовать быка черной тушью, но
только разведенной? Быть может, он ничего и не предлагает. Зачем тогда он так
упорно просит стакан, посылает меня на кухню к тете Мержан? (Она была в то
время поварихой детдома.) Ну, да я и подумал: «За водой для разведения туши…»
Вот
я у цели: снова вижу моего нового друга, рогатого красавца, а вокруг него
кружатся множество призраков – люди с веревками, с цепями, бык, наверно,
кому-то из них наподдал, зачем же иначе связывать его? Попарно связали могучие
ноги быка, связали вначале задние, а потом передние… Эти почтенные старцы
принимают моего быка за осла? Бык не лягает! Зачем набрасывать на рога стальную
цепь – бык нападает, а не бодается, как корова.
Затем
началась невообразимая суматоха. В небе вдруг без грома сверкнула молния –
сталь, булатный кинжал, и начался кровавый дождь: на мою белую стену упали
первые капли, алые капли, крупные, как капли первого дождя нового лета. Я успел
заметить, как Джафар подставил под струи горячего дождя граненый стакан, как
стекло в его руках сделалось красно-черным, как наполнился сосуд влагой цвета
спелой вишни с пеной спелой клубники, потом Джафар поднял, торопясь,
наполненный до краев кровавый кубок, поднес к своим жирным красным губам и под
восхищенными взглядами собравшихся мужчин, под их горячие аплодисменты залпом
осушил горячую кровь до последней капли.
Не
потому ли позже Джапфар так правдоподобно, так живо, с жаром, с кровью играл на
сцене, на сельской площади кровожадных визиров, беков, ханов? Вот чему
рукоплескали мои сельчане: его тогда посвящали в артисты, в артисты на горячие
роли, на роли насильников и убийц; я это понял не сразу, не тогда у стены
«Сельмага», когда он выпил свежую бычью кровь, а позже, когда он на подмостках
в центре села жил жизнью героев-злодеев, героев-головорезов…
Прости,
черный великан, если я стал соучастником убийства, вина в том не моя – для меня
мир взрослых всегда открывался, как игра, в которой участвовать я не имел
право…
Теперь
могу рассказать; я рисовал…
Скажу
тебе по секрету: когда я рисовал своих красавиц, ко мне часто заглядывала наша
прачка. Она была не так красива и не так молода, как девушки на моем полотне,
но груди моих красавиц я списывал с грудей этой некрасивой и немолодой
работницы. Заходила она по делам – стирка, или под другими предлогами, но чаще
появлялась только затем, чтобы давать мне советы. Все нравилось ей в моей
первой картине: и пирамидальные кипарисы под лучезарным небом, и лазурь
небосвода в хрустальной воде, и парча, и атлас на моих красавицах…
«Все
хорошо в твоей картинке, но что касается роз на грудях девушек, я против… Я не
против самих роз… они яркие, и кажется даже, что они пахнут, как настоящие, но
прикрывать ими свою грудь ни одна красавица не станет… По себе знаю. Я не стала
бы закрывать цветами свои груди».
Она
слегка, будто невзначай, расстегнула ворот белоснежной кофты, и загар ее
скуластого лица быстро потемнел. Я увидел очень близко белые, колышащиеся
тяжелые груди… Так было в первый раз, так было и во второй, и в третий…
Она
стала появляться возле меня так часто, что мне это в конце концов надоело. Так
я и сказал ей.
Но
прачка не сдавалась и ехидно говорила: «Я знаю, почему ты рисуешь вместо груди
– розы». – «Почему?» – спросил я с любопытством. «Потому, что не умеешь
рисовать девичьи груди».
И
вынудила меня взглянуть сверху на свою голую грудь, заставила писать ее с
натуры…
–
Так вот почему ты не женишься. Ты потому и стал художником, чтобы всю жизнь
смотреть на чужих голых женщин.
–
Думай, как хочешь. Я говорю о Любви, о том, как стал художником…
Синева.
Зелень. Фиалки.
Фиалки
под орешниками.
Фиалки
под большим деревом.
Фиалки
везде.
Это его мир. Это его молитва.
Это его сегодня. А вчера в своих
«Цветах детства» он писал:
«Группа
сельских мальчишек. Среди них и я.
У
всех у нас большие букеты фиалок. Мы
возвращаемся
из леса. Еще издалека я увидел
группу
женщин в черном. Они двигались
в
сторону нижней улицы, где находился наш дом.
С
тех пор я не люблю фиалок, любимых цветов
моей
сестры. Они напоминают мне черные
сумерки
последнего дня моей любимой сестры».
Я
об этом не знала. И сейчас мне стыдно за тот день, когда к нему пришла в
весеннем пальто с фиалками в петлице.
«Когда
умру – умру за красоту» – сонет Микеланджело стал его второй молитвой. Я писала
ему в своем посвящении: «Всегда вспоминаю тебя, если вижу красоту».
НАЧАЛО
Никто
не помнит, кто первый заговорил о нем. Обстоятельства жизни складывались так, что
люди, даже близкие, потеряли его след. Лично знали его очень немногие: кроме
студентов, с кем он учился, его знали еще несколько молодых людей из богемы.
Делали
разные догадки. Когда не очень доверчивые люди сомневались в слухах, то многие
приводили точные факты о том, как он одевался, сколько у него было морщин на
лбу. Говорили, что у него Христов возраст и на лбу у него три морщины.
На
самом деле он жил в столице и сам услышал подобные рассказы, но не догадывался,
что ходят эти толки о нем. Дом, где он жил, был старый. Этажей никто не помнит.
Актриса, которая была у него, нашла его дом и его комнату восхитительными. Она
жалела, что не была у него до премьеры спектакля по Достоевскому.
–
Не жилье, а чудо! Понимаете, там не было электричества. Было отключено все,
даже туалет. По необходимости он «выпускал себя, как собаку», а нужно было
бежать два квартала и шумный проспект. Комнату он освещал свечами!
Ее
экзальтации не было конца.
Другой
отщепенец рассказывает еще необычное: «Он при мне оголился и стал обливаться
холодной водой. На улице было 28◦ ниже нуля. Таким образом добивался он
равновесия температуры тела и комнаты.
Участковому
можно верить – не может быть, чтобы представитель власти лгал.
–
Знал его по двум случаям. Первый раз зашел к нему в час ночи. Я обходил двор, и
мне показалось: в темном окне вижу чье-то лицо. Это же не жилая площадь! Я даже
струхнул, хотя со мной был штатский. Мы постучали. Дверь нам открыл сухощавый
мужчина в очках. Было темно, а слабый свет от свечи едва освещал его самого. Он
сказал, что проснулся от страшной головной боли и хотел открыть окно, как
увидел двух смотрящих на него в окно, и добавил, что сон в руку, и еще что-то.
Все разве запомнишь? Я спрашивал себя, не сон ли это на самом деле? В таком
склепе картины, книги и это видение с головной болью. А в другой раз было
девять часов утра. Я громко постучал и услышал его радостный голос. Сразу
открывается дверь и передо мною он. Весь голый! От неожиданности он даже не
успел извиниться. Только в отделении я узнал, что он защитил диплом и кого-то
ждал. Уму непостижимо, что это был за человек! И как он успел за двадцать
четыре часа собрать весь этот хлам, картины, книги и прочее – уму непостижимо!
Вспоминает
пожарный инспектор.
–
Да, я знал его еще совсем зеленого. Он облил меня и других сотрудников театра
пеной из огнетушителя. Мы все с ног до головы были белые от этой мерзкой
жидкости. Как я его ругал! По-русски! Он пошел жаловаться к директору. Я не
жалел тогда, что оставил его на службе.
А
гардеробщица художественного училища запомнила его самый первый день в столице.
–
Я его подобрала со скамейки спящего и запихнула в чехол какой-то греческой
богини. А легкий он был, как пушок. Позже я узнала, что он приехал один с
большими рулонами картин и с тяжелым чемоданом, и не спал двое суток подряд.
В
другом кругу рассказчиков одна молодая женщина так расхохоталась, когда
услышала его имя, что хозяин дома и гости восприняли ее выходку как неслыханную
дерзость.
–
Он же меня потаскухой обозвал при всем честном народе! Помню его! Как же! Это
было в подмосковном доме отдыха. Я на него сразу обратила внимание: не то, что
восточный силуэт лица. Он бросался в глаза не красотой и не уродством.
Броскость была в его костюме и в манерах – застенчивость, я бы сказала
застенчивая уверенность. Подруга моя увидела в нем мужлана.
Я
танцевала с ним и после первого же номера он поблагодарил меня так, что я от
неожиданности окаменела. Надо же! Сказать такое во всеуслышание. Позже он
извинился и сказал, что ему показалось «потаскуха» происходит от слова «скука».
Я
была свидетельницей рассказов не только о нем. О его друзьях ходят разговоры
более невероятные. Одни говорят, что друзей или учеников у него двенадцать.
Другие уточняют, что их у него пять. Третьи возражают, говоря, что он живет как
сверхчеловек и никого у него нет. Последние ссылаются на его любимое изречение:
«Художник начинается там, где кончается человек». Но его он переделал на свой
лад и знают это новое изречение очень немногие: «Художник начинается там, где
начинается Бог».
Как
бы то ни было, есть у него ученики или их нет, но все согласны, что среди его
друзей есть две молодые женщины. Это правда. Одна из них – виновница появления
этих страниц.
–
Ты среди дурных женщин. Это испортит тебе карьеру… Странные женщины… то ли
кокотки, то ли женщины из сада Сафо. Их экзотические наряды украшают вовсе не
тебя. Остерегайся их… Как это так? Не любовницы, а пускают к себе, пускают даже
через окно… – говорила секретарша
правления Союза художников на его первом вернисаже.
Он
спорит и защищает нас, изображает, как мерзнет бездомная собака, как он
ковыляет по темному переулку, как за ним гонятся трое бандитов…
Не
менее примечателен рассказ Эллы, дочери популярного певца и всяких титулов,
солиста радио Янушкевича: «К моему отцу как-то приехал молодой композитор с
вокальным циклом на слова Пушкина. На титульном листе отец прочел посвящение.
Удивлению и негодованию его не было конца: «Это неслыханно! Бродягам посвящают
оратории!» И гордо отказал поклоннику бездомного таланта.
Наби
жил с неделю у нас. Мой брат Владик знал его по училищу и приютил. Я слишком
была хороша, чтобы замечать его. Но случай с молодым музыкантом озадачил меня,
и теперь я очень жалею о своей гордости и тупости. Жалею особенно теперь, когда
вся столица только о нем и говорит.
Судьбе
было угодно, чтобы мы встретились вновь. На этот раз мы встретились в самых
романтических углах «нашей» комнаты на Кировской.
На
стенах развешаны огромные декорации из тканей, бумаги, рам, картин, зеркал.
Здесь и засохшие цветы, крылья разбитого орла, осколки разбитых зеркал. На окне
сияет череп, в глазницах и оскале которого находиться много искусственных
цветов.
Тут
и швейная машина. Мы шьем себе платья с яркими аппликациями. Много тряпок,
ниток, кусков дерматина, бархата, а рядом на диване разбросаны наши драгоценности:
бусы, серьги, кольца, браслеты и среди них предмет особой роскоши – телефон. В
этом женском царстве ему не по себе. Наши вещи старались принять его, как
очередную вещь, найденную на какой-нибудь свалке. Антиса, моя подруга, любит
его по-своему, смотрит на него, как на очередного персонажа из «театра
присутствия». Наш мир ему чужд. Мы пьем ликер, курим, а ему все это в новость.
Нашу
первую встречу я помню плохо. Он запомнил тогда мою подругу. Я была в костюме
целинника, и всё мое тогда не входило в его программу, и только позже он стал
отходить от внешней красоты вещей. Его устраивала тогда, в то время,
воинствующая красота жизни и уродливость с позиции искусства.
Мне
показалось, что он побаивается нас или стесняется: его кошачьи шаги, интеллигентное
сюсюканье, а вскоре и его побег. Я говорю Антисе: «Он думает о нас, как думают
все другие: развратные женщины…» А она разозлилась: «Ну его к черту!»
Мы
его жалели, а наши фантазии на тему прочитанных книг мы умело переносили на
него, на его жизнь. Впоследствии я писала об этом периоде так:
«Его
жизнь складывалась кусочками мозаики в нашем представлении, и мы не обладали
воображением дополнить и создать в вопросах и догадках подобие целостной
картины, относящейся к нему. Его улыбка и отрывочные фразы, без растолковывания
сказанного, не могли насытить наше ленивое любопытство. Мне в какой-то момент
надоело хранить интерес и магию его личности. И я забыла бы о нем, если бы люди
исчезали в нашей несовершенной жизни с прекращением к ним интереса».
В
другой раз Антиса говорит мне: «Пусть живет у нас, не пропадать же ему на
улице!» А она умела жалеть; подбирала собак, кошек, крыс. Чем хуже художник?
Так мы встретились и жили все вместе. –
Я, Антиса и Наби.
Недавно
я ему позировала. Он мне говорит: «Пиши обо мне книгу и ты прославишься». Меня
поразила простота этого изречения, а не дерзость его желания. Это было в тот
день, когда я пришла к нему с фиалками в петлице весеннего пальто. Его задели
тогда мои цветы. Это была радость встречи с тем прежним, с тем прошлым.
Только
поэтому он читал мне свои миниатюры «Цветы детства» и передал мне все свои
записи и сказал: «Делай с ними, что хочешь».
С
того дня я ушла из общежития девушек и поселилась в маленькой комнатушке на
улице Чайковского. Комната моя чем-то напоминала его комнату из тех рассказов.
Стены фанерные, и соседи раздевают меня с головы до ног: говорят про мою шляпу
и пальто, про мои волосы, про мою походку. Про мою седину, и даже про мои
синяки под глазами. Когда встречаюсь с ними в коридоре и вижу сделанные под
вежливость выражения их лиц, мне хочется кататься по полу и хохотать.
Сейчас
я читаю тетради, записи, неотправленные письма моего кумира. Я читаю у него
строки Омара Хайяма: «Для тех, кому познанье тайн дано, и радость и печаль – не
все ль равно»… и узнаю его характер.
Кент
мне рассказывает.
–
Впервые я увидел Наби в квартире молодого дворника, моего приятеля. О нем я
очень много слышал и никак не думал, что встреча будет до того неожиданной, что
я даже не успел взволноваться. Узнал его сразу. Даже представлял его таким,
каким он стоял передо мной: вялый, флегматичный, некрасивый, но не безобразный.
В его внешности я нашел что-то от Ван-Гога и Гогена. Черты лица крупные, и
морщины на лбу глубокие и крупные. Не то от худощавости, не то от женственной
кожи лица. Лет я дал ему тогда не более тридцати. За очками в светлой оправе
прятались добрые, чуть грустные глаза. Познакомили меня не сразу, как он вошел,
а сам он на меня не обратил никакого внимания. Рассеянность или богемность? –
подумал я, но мой однокашник, хозяин квартиры, не дал мне удариться в новые
мысли, подвел меня к нему и говорит:
–
Наби уходит на дежурство и прощается с тобой. Ты же знаешь, какой наш Ким, все
делает не вовремя.
И
мой будущий кумир подает мне свою маленькую руку. Манеры у него вообще
женственные. И это никак не вязалось с его грубыми чертами лица. Мне показалось
тогда, что мы больше не встретимся.
В
другой раз я пришел к нему домой со своими эскизами. Тогда он жил в Малом
Гнездниковском переулке. Встретил меня очень любезно, но внимательно. Я ему
помешал: вид у него был очень рассеянный. На диване, на столе и по всей комнате
лежали бумаги, книги, какие-то записи, и ни одного холста. Но Леонардовской
«Джоконде» была предоставлена чуть ли не вся комната. Правда, комната всего для
кровати и стола. Да еще прихожая. И это мне показалось странным: самый что ни
на есть агрессор в живописи, и вдруг эта гармония.
Этот
вопрос задавал я себе не один раз, а ему задавать побаивался, стеснялся.
Однажды он заговорил именно об этой картине. Начинал он всегда издалека, а я не
знал, как ухватиться за эту панораму мыслей, которую он предлагал. Говорил о
современных принципах, таких, как: «Лист принадлежит предмету, предмет
принадлежит листу», – и еще о чем-то важном. Я очень жалею, что не записывал
его мысли.
Из
его рассуждений тогда я запомнил, что лист – это поле работы художника, и ничего более. И далее он говорил, как верны
эти принципы, если подойти к ним философски, но лучше снимать с них философский
покров и говорить о них проще. Лист бумаги – это не коробка, и нечего
превращать его в коробку. Когда ты кладешь яблоко в коробку – это одно, а когда
рисуешь яблоко на бумаге – это совсем другое. Никогда не обманывай себя и
других, что ты можешь превращать плоскость в сцену.
Ему
была противна программа: «картина принадлежит стене», – слова художника,
известного своими маразмами под Боттичелли: «какая жалкая мысль, какая жалкая
участь». А слово «принадлежит» особенно раздражало его.
Рассказывая,
он любил ходить от одного предмета к другому, как бы давал возможность пощупать
их собеседнику. Говорил он несколько развязно, особенно, когда речь шла о наших
«попурри». Поясняя свою мысль, он хватал то яблоко, то помидор и показывал его
поверхность, гладил ее так, словно это была живая плоть.
Вновь
мы увиделись в той же квартире и встретились через день. На этот раз он был
встревожен чем-то, но, несмотря на это, попросил меня показать что-нибудь. Я
показал ему несколько натюрмортов. Смотрел он очень долго. Что он в них искал,
я не знаю. Запомнил его оценку: «профессионально». Для меня это не было
неожиданностью, но хвала это или хула, я так и не понял. А кто не мечтает стать
профессионалом! Он тут же переменил тему разговора, перелистал «Цветы зла»
Бодлера и ушел. Не помню только, уходя, он простился или нет, но запомнил не то
мрачное, не то сосредоточенное его лицо и еще его слово «профессионально», даже
не само слово, а скорее интонацию. Я уже стал привыкать к его замедленной речи
с сильным акцентом. Странно то, что он ничуть этого не стеснялся. И это не
только тогда, когда касался вопросов искусства. Поражала точность подбора слов
при характеристике того или другого предмета или состояния. А через день он
приходит и приносит мне вчетверо сложенный квадратик бумаги, вручает его мне в руки и говорит:
–
Здесь написано задание. Это должно тебя заинтересовать. Пиши тот же натюрморт,
который ты мне показывал, те же предметы, то есть: стол, нож, хлеб, яйца,
бутылку. Пиши невидимое, не изображай, а выражай. Поверхность, фактуру
показывали, и притом мастерски. Голландские мастера. Невидимые свойства требуют
средств выражения, а ты прибегаешь в тех натюрмортах к тем же средствам, что
предлагают голландские художники, – к средствам изображения.
Я
читаю его корявый почерк, наспех написанные вдохновенные слова:
хлеб
черствый – хлеб свежий
бутылка
полная – бутылка пустая
яйца
сырые – яйца вареные
стол
старый – стол новый
***
В
мир пришли Боги – Данте и Платон. Но ты кто, мой мальчик, мой маленький сосед.
Откуда и зачем ты явился к нам, в этот печальный мир. Не было у меня мыслей о
рождении и смерти, о смертности и бессмертии.
Надя,
моя соседка, родила сына. Миру нет дела до ее любви, до того, была ли у нее
любовь, и нет дела до ее сына, до ее любви к
сыну. Это естественно, это власть природы и ее закон, - говорите вы. И
нет счастливей в целом мире, чем эта женщина.
Наби
пишет прощальный диалог своей любви:
–
Ее больше нет, этой школьной парты. Она была зеленая, эта первая парта в
классе. Зеленая она была на самом деле, эта наша парта в классе. Никогда она
больше не будет нашей, этой нашей партой, потому что мы сидим под большим
розовым кустом не в нашем саду.
Мы
– это я с той самой парты.
Мы
– это она с этой же парты.
Мы
– это мы, не просто так: мы.
Яблоня
молчит, потому и слышит, потому что мы не немы.
–
Не надо этого.
–
Я люблю тебя. Я не могу иначе.
–
Я знаю и знаю еще?..
–
Что знаешь еще?
–
Что у тебя нет дома.
–
Зачем нам дом, мы же – в темном саду.
–
Я не о том.
–
О чем же тогда?
–
О доме, которого у тебя нет, о том, что я никогда не буду твоей.
–
А чьей же?
–
Ничьей.
–
Как ничьей? Так не бывает.
–
А как бывает?
–
Бывает иначе.
–
Иначе – как?
–
Как все, как люди, звери…
–
А как бывают они?
–
Бывают вместе.
–
Разве мы не вместе?
–
Бывают вдвоем.
–
Разве мы не вдвоем?
–
Ну вдвоем, вместе.
–
Я это знаю.
–
А что тебе еще?
–
Ты знаешь, о чем я говорю.
–
Но ты не хочешь этого?
–
Я этого хочу, но я не о том.
–
О чем же тогда?
–
О буйволе, которого у тебя нет.
–
О буйволе, которого у меня нет? И это говоришь ты?
–
Это говорю и я.
–
Но зачем тебе буйвол? Ты же выходишь за меня, а не за буйвола…
И
вдруг я увидел смеющийся оскал чьих-то белых зубов. Яблоне было весело в этот
тревожный для меня час. Она уронила десятки лепестков из десятка цветов
семнадцатого цветения.
Чудесная
юность. Почему вместо той под яблоней рядом с тобой не оказалась твоя Кора? Я
блуждала по Луне, а ты искал меня на Земле.
Больше
семнадцати цветений прошло с того времени, мой добрый, мой седой Наби. Не тогда
ли ты поседел, мой друг? Не потому ли ты так часто повторял: «С юности спокойно
ношу седину». Спасибо за радость, но слезы радости ты сушишь новой печалью:
«Она
была черная, эта большая мамина шаль.
Она
не была черной вначале».
Каждый
вечер моя мама почему-то в четыре слоя укутывала ею мое окно, и мою луну, и вешала
свою луну. Она была зубчатая, эта луна мамы, и вешала ее мама на тот самый
гвоздь, где некогда блестело куда-то ушедшее волшебное стекло.
Было
не холодно. Было совсем наоборот. Было невыносимо жарко. Было лето, когда хлеба
созрели необычно рано, когда мама уходила на заре; уходила без хлеба и без
румян навстречу подругам, укутанным в такие же шали, в черные шали.
–
Мама, мам, – кричал я маме вслед и ждал свою маму, и мою луну, и ждал их целый
день у окна.
Но
сегодня, как и всегда, как и вчера, моя мама, как будто назло, прятала мое
окно, а вместе с ним моя мама прятала мою луну и вешала свою зубчатую стальную
луну.
Сны…
Цветные сны. Как они похожи на мои сны, на наши сны, на наши седины. Я не
плачу, ты же рядом. Убаюкай меня, как убаюкивала тебя твоя сестра. Когда вижу
тебя, вижу красоту и забываю черные краски твоего детства.
Я
снова листаю страницы его весны и вижу новый цвет его печали.
«Соседская
тетка показала мне коричневый полукруг хлеба и сказала: «Он твой, если не
обманешь». Я обманул, сказал: «Дрова украла моя сестра». Было неприятно, но
было сытно.
И
на прощание ты мне даришь: «К нам в школу приехала русская учительница».
Я
много видел кос горянок и седых прядей у старух, но навсегда запомнил цвет
волос первой учительницы. Они у нее были ярко-желтого цвета, какой я видел
только у колокольчиков – цветов горных долин. Они, эти цветы – многоэтажные, и
все они на одном тонком стебельке. Когда их трогает мягкий ветер, идущий от
горных вершин, они создают необычный звон, похожий чем-то на голос русской
учительницы из далекой Москвы.
Спасибо
за Солнце! Спасибо за тепло! Спасибо за радостный конец детства!
***
Я
приехала к Наби на дачу и не застала его и здесь. Я обрадовалась. Его
присутствие помешало бы мне воспринимать все, что я вижу. В углу комнаты стоит
большое зеркало в прекрасной раме старинной работы, а рядом книжный шкаф и
нелепый горбатый диван. Еще много мелочей быта, по которым узнаю образ моего
друга. Но главное в этом «курятнике», как он любит называть свою комнату,
цветы. Цветов много.
–
Это цветы Мавриной. Они проще. Просто, как сама природа. А эти цветы в духе
Матисса. Букет роз. Они сложнее. Все, что растет в оранжерее, пышнее,
тщеславнее… В них нет тепла, солнца, а есть только ухоженность, забота, ласка.
В них нет борьбы.
Полевой
ромашке гораздо труднее. Ей приходится преодолевать окружение. Потому ромашка в
теплице только похожа на ромашку. Для кого-то цветы не есть тема. А японцы… У
полевых цветов стебли тонкие и листьев почти нет или нет вовсе.
На
стене много набросков. Здесь цветы, пейзажи, а на столе очень много «черновых
листиков».
Я
смотрю через окно и вижу вечерние тени и не дожидаясь его, иду к Кенту. Кент
жил тогда со своей возлюбленной. Дорогой к нему думаю, не будет ли наша встреча
сценой для Лизы. За забором вижу его окно, а вместо занавески – множество
цветов.
Залаял
Мухтар, и на пороге сам бородач. Он радостно восклицает: «О-ля-ля!» – и зовет
меня на чай. У Кента комната больше, шире и намного светлее. На стенах фотографии,
гравюры, пастели, а на столе фотоувеличитель и много всякой всячины. Молодой
бородач извиняется за беспорядок. Показывает цветы в банках для натюрмортов,
для Лизы. Входит дядя Саша, хозяин Кента, всегда бритый, прибранный, гладенький
и добренький.
–
Как поживаете? – слышу я не первый раз его кошачье мяуканье. – Не угостить ли
вареньицем?
Кент
провожает его за дверь. Чай уже готов. Снова в дверях появляется нескладный
опекун Кента с помидорами, величиной с голубиное яйцо. Меня это очень забавляет,
а Кента все это раздражает.
Раздражение
его усилилось, когда он узнал причину моего визита.
…Давно
не видел. Избегает.
Я
смотрю на него. Кент весь подтянутый,
стройный, здоровый, живой, с металлическими мускулами и стальными нервами.
Рядом с Кентавром, как мы в шутку называем бородача, я вижу Наби – щупленького,
невысокого, с впалой грудной клеткой. Его замедленные, плавные, мягкие
движения, а в них застенчивость, робость, нерешительность и, я бы сказала,
незаконченность.
Я
спрашиваю себя, что общего у них, и вижу снова их вместе – это сочетание
несовместимости. Тщеславие обоих или любовь к прекрасному в жизни и в
искусстве?
Кента
раздражает в последнее время его «неумение жить», но не буду забегать вперед.
Наби для Кента был когда-то открытием. Юношеский пыл с юношеским задором часто
пускал и нам в глаза.
***
Стыд
меня преследовал всю жизнь. Когда я шел по улицам селения, за мной бежали
мальчишки, шушукали девчонки, показывали на меня костлявые руки старушек. Я
знал, что мне не хватит всей жизни, чтобы подтвердились их слова.
На
дороге стоял щенок и что-то вытаскивал из земли. Я помог щенку. Это была
грязная кость. Недовольный моим соучастием, щенок набросился на меня и вцепился
в ногу. Вот тебе и благодарность!
Так
проходили дни в родном селении с очень звучным названием Кабир. Были радости и
печали, и был у меня вечный стыд. Это был гордый стыд, но не стыдливость
гордеца. Я знал, что лучше меня в селении никто не рисовал. Рисовал, может
быть, не лучше Азада, но соперника по краскам не было у меня в целом районе. И
все же я стыдился, и мне было приятно от этого чувства.
Я
зашел в родной дом. Два ореховых дерева встретили меня так же приветливо, как
тогда, когда они были нашими. Во дворе все по-старому. Только больше навоза и
грязи. Щемящая боль давит на ноги, а мне надо подниматься по ступенькам, по
таким родным и теперь таким чужим. Меня встречает новая хозяйка.
–
Я пришел за яйцами…
–
Чей ты?
Я
называю имя отца. Она вздрагивает и изображает скорбь.
–
Вот ты какой! Большой!
Я
ухожу и стараюсь не оглядываться назад. Уходя, я замедлил шаги, подошел еще раз
к ореховым деревьям, погладил их шершавую кору и сказал:
–
Я верну вас, милые мои деревья, и дом
верну. Дайте только мне расти. Я стану художником и тогда прогоню буйволов,
овец, кур и их самих, этих бесчестных торгашей.
В
таких мечтах и желаниях кончились мои школьные годы.
Я
в Москве. Кругом сказка: принцессы и принцы. Все непременно белокурые и у всех
голубые глаза, сама синева.
Наступила
лучшая пора моей жизни, а вместе с ней начались мои первые неудачи. К нам в
училище пришел новый педагог по рисунку. Он поставил мне двойку, и снова стыд,
небывалый стыд. Художником я не стану…
Но
как идти против собственной теории, теории довольно наивной. Я полагал, если я
четыре часа в день рисую на уроках под присмотром учителей, то этого вполне
достаточно, чтобы стать прославленным художником. Ну а как быть с двойкой? Я
наступаю, я нападаю на самого себя: впервые за два года в столице, я выхожу из
подвала театра (я жил тогда при театре) и направляюсь на улицу, навстречу
огромной толпе. Я стою на улице один посреди множества чужих людей. Я злюсь.
Конечно, виновата бумага, виноват дом, со своими дурацкими этажами. Бумага мала
для них. Я меняю бумагу. Увеличивается ее формат, а дом все равно не лезет.
Люди
смеются. Хвалят мою прическу, модный воротник, мой мольберт и смеются.
–
О, провалиться бы куда-нибудь!
Остается
одно – бежать к себе. Рисовать и рисовать! Рисую все, что попадается на глаза в
театре, и ничего, ровно ничего не получается. А утром снова казнь, тот же педагог,
его надменный взгляд и злорадство его.
Так
прошли три мучительных потных месяца. Друзей я потерял. Девушек тоже. Потерял
даже свою «натурщицу». Зато набились мои папки, три больших папки!
Педагог
за них поставил твердое «хорошо» и перед классом похвалил. И снова стыд,
горячая краска! Но очень скоро педагог меня вовсе разлюбил. И случилось это
после одного урока на пленэре. Мы пошли в Александровский сад около Кремля
рисовать городской пейзаж. Я рисую и думаю: «Почему нужно рисовать всё, если
меня заинтересовали только решетка сада, одна из башен Кремля, скамейка и
несколько деревьев?»
Педагог
остался недоволен. Двойку поставить он не рискнул, но предупредил: «рисуй все,
что видишь».
Я
сделал новый рисунок и получился вид, как на открытке. Когда я осмелился
сомневаться, мой наставник обрывает меня и говорит:
–
Рисование с натуры – это и есть рисовать все, что видишь перед глазами.
Больше
я не стал нервировать своего учителя, а стал задавать вопросы самому себе. Это
куда интереснее. Я спрашивал у натуры и
не старался у нее брать ничего лишнего.
Всех
поражало количество моих работ. В них было много учебных задач и примеров,
взятых напрокат у Пименова, Бенуа, Марке, Матисса, Сарьяна…
И
это все? А где же слава, где страдания, где муки? Увы! Это тоже дано только
великим.
И
страдания – удел великих!
И
я бросил живопись.
Театр,
поэзия, философия, литература – новый мир, невиданные слезы и никакого стыда.
Я
в театральном институте. Здесь все радует и захватывает меня без остатка. Что
ни день, то новые имена: Данте, Платон, Петрарка, Шекспир. Артисты, музыканты,
композиторы, и ни одного живописца!
Так
прошло пять лет. Пять лет без родины, без ее гор, без того дерева на холме, под
которым я просиживал часами.
И
сны, невыносимо цветные сны!
А
ехать невозможно. Учеба, скоро диплом. Почему именно ехать? – чуть не крикнул я
во время лекции. Под рукой клетчатый лист из синей тетради и синие чернила. Я
рисую холм, дерево и себя под этим деревом.
Идет
лекция, а у меня в голове кошмар, детство, нетерпение. Хочу на Цветной бульвар,
к себе в комнатушку. Хочу сию минуту. Хочу непременно. Не терпится до звонка.
Хочу все это увидеть в красках.
С
этой злополучной удачи начались мои муки, мои страдания.
Ты
их жаждал. Получай теперь сполна, дурак! Как ты смешон! Какой жалкий плагиат.
Сарьян, Матисс, Дерен, Сезанн, а тебя нет! Все не то! Все не так! Не так вижу,
не то слышу! Все получается «под них». К черту все! – кричу я в бешенстве, и на
холст обрушивается моя новая ругань, кулаки.
И
так каждый день, целых семь месяцев. Наконец ожило мое полотно, ожило само
детство!
Приходили
друзья, знакомые. Я взахлеб показываю свою первую удачу. Хвалят и мне это очень
нравится. Называют художником, и я принимаю это как должное, и нет никакого
стыда, а есть бесстыдство и бесстыжая гордость.
***
…Моя
оригинальность началась с удивления: над собственным опытом, над собственным
холстом. Я впервые столкнулся с линией, с тоном, впервые почувствовал их сам.
«Джоконда»
– это новый звук гармонии. Леонардо открыл новую школу гармонии. Джоконда – это
Леонардо.
Сезанн
уплотняет цвет там, где больше уплотнилась материя, где больше всего масса.
Деревья для него только масса и совсем немного архитектурного мотива и снова
плотная вуаль зелени. Яблони его динамичны из-за цвета. Он лепит их цветом,
цветными полутонами…
Матисс
– сама чистота. Желтый, синий, красный. Цвет – звук, цвет – интонация, и
никакого повествования, никаких полутонов, никакого сюсюканья. Цвет не
принадлежит предмету…
И
гений XX века Пикассо. Он не дублирует природу, он создает свою
природу, как африканцы создают свои маски, чтобы напугать ими существующую
действительность.
Все
«старики» сначала рисовали, а потом писали, мастерски раскрашивали мастерски
сделанный рисунок.
Я
вначале пишу, а потом рисую. Под рисунком я подразумеваю мой разум, а цвет –
это мое чувство…
Форма
есть в двух гранях предмета, а не только в центре предмета, как изображают
старые академики. Этим самым я захватываю и расстояние между предметами, а не
только предмет.
Когда
я смотрю на раму, я вижу окно.
Когда
я смотрю на стекло, я вижу картину.
Когда
я смотрю на скамейку, я вижу предмет.
Когда
я смотрю за скамейку, я вижу пространство.
Так
во всем.
Я
не говорю о времени. Время не наука, не миг освещения, как у импрессионистов.
Поэтому
я отрицаю светотень как проблему. Реалисты соблазняют зрителей правдоподобной
ложью. Они увидели так, они увидят так, они могли увидеть так. Это принцип
данной школы и только.
Природа
диктует непрерывность, движение.
Говоря
короче – вечность.
Я
не за тень, я не за свет.
Я
не за тень на предмете.
Я
не за тень за предметом.
Я
не за свет на предмете.
Я
не за свет за предметом.
Я
не за паузу времени, я не за миг времени,
я
за вечность.
Я
за рисунок и за цвет. Линией я создаю предмет. Поймите меня как хотите: линия,
как контур или абрис предмета, но вы извлекаете предмет линией. Все полутона
только смягчают линию, абрис, контур, подобно тому, как декор облегчает край
любой реальности, будь это деревья на горизонте, лепнина на карнизе фасада дома
или шкафа вашем интерьере.
Я
за вертикаль и горизонталь. Это – основа моего искусства, основа любого
искусства. Ими я создаю движение. Ими я создаю круг, как полноту жизни. Только
горизонталь есть покой. Только вертикаль есть напряжение. Я за их сочетания.
Вертикаль и наклон, наклон и горизонталь, горизонталь и полукруг.
Не
ищите вы за ними ничего, кроме символов движения, кроме жизни в движении и
движения как жизни. Не ищите также в них только символов движения. Это увело бы
меня и вас в школу абстракции и чистой теории. Нашему веку рановато уйти в
знаки и отвечать на них эмоциями. Это принадлежит будущему…
О,
боже, какая скука! Виноваты в этом я и Антиса. Он волнуется и говорит чужими
губами. Наши слова не остановили его тщеславного жеста – организовать эту
выставку, а потом – это нелепое обсуждение.
Накануне
вернисажа он очень коротко постригся. Лицо его от этого стало еще крупнее,
скулы стали шире, выдавая худобу, а глаза куда-то провалились после вчерашней
бессонницы.
Антиса
стала злорадствовать:
–
Знаешь, на кого ты стал похож? На лошадь! И вообще у тебя есть что-то
лошадиное. Большие, мягкие, добрые губы…
А
он ее перебивает:
–
Зато экономнее.
Хна
и басма, чем он красил свои волосы, требовали новых расходов, а «гаммой» красить
он не хотел, особенно после того, как моя подруга, его зловещая птица, со всей
высоты своего полета однажды изрекла:
–
Наби, ты знаешь, у тебя лысина!
А
сейчас он перед нами весь багровый, с сильными жестикуляциями, насморочным
голосом, робкий Бог, суетливый наш паж, наше мудрое дитя.
Я
слежу за столом, за членами жюри, особенно за той пожилой женщиной, похожей на
руководительницу кружка по гербариям. Как она вдохновенно борется со своей
усталостью и зевотой неугомонного рта. А Наби все не унимается, подобно
трагическому актеру, который забыл свой текст и произносит свои слова: «Не было
ни одной войны без техники, не было ни одной победы без войны…»
Неужели
мы всю ночь переживали, готовили его для этой скучной сцены, а вы зеваете… Так
и хочется схватить за уши, за кудряшки того 12-летнего мальчика, который шепчет
на ухо маме: «Какой он страшный», – а совсем недавно он восхищался его
«французскими» красками.
Красивая
черная безрукавка, шелковая серая рубашка в тонную полоску ничуть не красят его
рыжую седину, не украшают его неуклюжие плечи, а эксельсиоровая черная косынка
ничуть не скрывает выступившие от волнения жилы, не скрывает предательский
кадык, прыгающий так и сяк, когда он глотает слюну. Вместо слов: «Я расстрелял
бы каждого, кто посягает на чистоту цвета», – он хочет выкрикивать слова:
«Дайте мне воды, воздуха!» Униженный поражением наш победитель далее
демонстрирует творчество Пикассо.
–
Пикассо за схему: рука у него – всегда пять пальцев. Лицо – два глаза, нос и
рот; дерево – ствол и сучки, но это – символ, а не конкретное, живое дерево…
Далее
он поет высокие дифирамбы величаво уничиженному гению:
–
Пикассо никогда не был школяром. Его называют «великим деформатором». Больше к
нему подходит – великий импровизатор. Излагает ли он на холсте, на стене или на
листе – он всегда излагает мысль. Ему дорога мысль: это прежде всего. Пикассо –
рисовальщик! Пикассо – живописец! Пикассо и рисовальщик, и живописец? Тоже
неверно. Пикассо – гений, Пикассо – творец, и он предлагает свои знаки. В цвете
или в рисунке не имеет ровно никакого значения. Ему нужны образы, но не
образность: образность есть картина, есть сочувствие. Пикассо близок к народу,
как никто! Когда он интеллектуал – это некто, это персона. В этом его сила, в
этом его слабость.
Деформация
от знаний Нового и Новейшего времени приводит в рисунке и в цвете к столь
сильной, пугающей смелостью, что зритель, как лягушка перед пастью гадюки:
нельзя отойти, нельзя подойти… Изнемогая от духоты, мы продолжаем слушать его
«голос в пустыне», обращенный к сытым «господам», к холодной толпе. Почему ему
никто не подает воды, почему здесь нет вентиляции…
–
Художник не может быть зрителем; зритель не может быть художником – лягушка и
гадюка, гадюка и лягушка.
Гипноз,
диалектика страха, трагическая ситуация. Как не меняй их своими местами,
лягушка и гадюка останутся в своих формациях… Его рассказы о художниках – это
чудо видения, видений и всяких снов, но не на публике.
Как
он начинал! Мучительно досадуя, язвительно сожалея:
–
Любить жизнь труднее, чем ее ненавидеть. Радоваться может всякий, но не всякий
способен радовать другого.
Марк
Шагал… Ты улыбнулся, когда я произнес это имя. Детство каждого… Неясные,
мимолетные чувства… Ты надевал на себя платок матери. Обязательно с цветами,
обязательно яркий.
И
ты идешь с сестричкой рука об руку. Не по земле, конечно. Земля – это пыль,
грязь, пачкаются платья, мнутся цветы. А на небе такая чистота. Такая
голубизна!
Очень
много музыки, а в музыке мычание коровы, петушиные трели, лай собак и голоса
людей. Конечно же, все это выдумал наш дед. Музыку выдумал и играет только для
нас! Обязательно на скрипке, на золотой.
Сегодня наша Моня подарила теленка гладенького.
–
Неправда, – визжит сестричка, - зализаннаго и не ходит совсем…
Братец
обрывает ее.
–
Ходит. Он живой. Просто мама несет его на руках, потому что он маленький. Скоро
у нас жеребенок будет. Белый. Сам дед сказал.
–
Ты лгун, потому что лошадь наша красная. Вот увидишь, и жеребец будет красный.
–
Я буду солдатом и коня увезу. Увезу и
корову, и скрипку, и деда увезу.
–
А я… Я буду невестой. Буду только с тобой. Давай сегодня! В сумерках, как
только свечи зажгут и колокола зазвенят, – в Париж! Мы купим самые-самые
красивые вещи. Ты мне купишь длинное-предлинное платье, белое. А я тебе куплю
цилиндр. И костюм куплю. Белый! Конечно же, и галстук. Бабочкой! Мы будем
ходить только в цирк.
Мои
добрые читатели. Я вижу ваше молчание. Ваши теплые, чуть-чуть грустные улыбки.
Спасибо вам за память о детстве. Но не у всех так складываются воспоминания,
как у моего доброго Наби, как он покинул страну, имя которой «Детство»
–
Я услышал стон, а потом рев и снова стон. Мать подняла меня с кровати (больше
не заснет, бесенок, – так ругается каждая мать) и выбежала во двор, а там на
соломе лежала в луже крове и стонала наша корова. Мама радовалась. На все мои
«почемучки» мама не отвечала, а разговаривала с Моней, как будто она знала о
том, что хочет и отчего плачет наша Моня. На каждое вздрагивание, на каждый
вздох нашей больной, умирающей ревушки, мама отвечала: «Ну вот… еще немного. Ну
вот и конец!» И, передав меня сестричке, мама подскочила к Моне. Сестричка
сняла одеяло с меня и тоже подскочила к нашей бурой.
–
Вот притворщица наша корова. Недавно стонала, ревела, мычала…
Я
злился на маму, на корову и на сестру. Меня бросить и так долго возиться с
нашей лгуньей!
–
Вот, мой мальчик, Моня подарила нам
теленочка. Погладь его. Видишь, как он смотрит на тебя? Погладь, только
осторожно, а то Моня подумает, что ты ничего не умеешь делать, не умеешь даже
гладить маленького. Ты же любишь Моню?
–
Оторвать бы хвост, и глаза у него такие красивые…
Моня
заревела на меня, на проказника…
Не
из таких подробностей складывается память современных детей, изнеженных
битловскими завываниями, наших столичных парней. За волосы, бороду и цветы вас
ценю. Но вы любите трели, коронованной поэтами птицы.
В
тетради Наби я нашла его обращение к воображаемому художнику-воспитателю:
«Художник,
если твой сын услышал пение соловья и вам он начинает восторженный рассказ,
прервите его. Ремень не годится. Бейте палкой. Пусть услышит дерева песню! От
барского захлестывания ремнем только свист в ушах да румяна на румянее ягодиц…
В
письме к Кенту он излагает теорию о цвете и начинает ее с известной вам фразы:
–
Я расстрелял бы каждого, кто посягает на чистоту цвета…
Без
света мы с вами оказались бы в темном царстве, где и деревья, и цветы будут
бесцветными, а неба не будет вовсе. Будет бездна. Сказать, что бездна черного
цвета, неверно.
Черный
есть цвет и напрасно обижают эти строгие тюбики, называя их «не цветами».
Красный,
желтый, синий – это накал страстей тех первых цветов. Глубину можно обозначать
не только синей. Ее можно дать и черной. Это уже тональность. Желтой и красной
намекают на пламя, но это не полный накал огня. Я видел пламя ярче, чем красное
и желтое. Раскаленное до белизны железо – вот высшая степень пламени. Смотрите
на лучи солнца. Они оранжевые к рассвету и к закату, а в полдень они белые. Это
есть игра света и цвета.
Вульгарны
для меня те реалисты и все те художники, кто говорит: тело – телесное, небо –
небесное. Они не ненавистны мне. Нет! Они смешны.
Иллюзией
можно подкупить только чернь. Для меня нет ни красных помидоров, и яблок, ни
красных, ни желтых, ни зеленых. Это не только банально. Это пошло, а по-вашему
– наивно? Этим вы соблазняете школьных учителей, но никак не школьников. Дети
хотят плоды зрелые, сочные, а им предлагают плоды пустые, но яркие. Они знают,
что это елочные игрушки.
Я
говорю о запретных плодах и этим надеваю намордники на цензоров-искусствоведов
и самого Господа Бога, если он не узнает на моем холсте своих плодов. Солнце их
окрашивает так, как мы их видим. Я окрашиваю их так, как я их чувствую.
Или
вы должны влюбиться в меня, или возненавидеть меня. Другого чувства я не
вызываю, а чувство иллюзиониста мне ненавистно.
Бог
наказал первую пару, ибо они нарушили завет Творца. Сезанн наказал каждого, кто
не смог проглотить вместе с плодом и горечь его плода. Истинная радость в
плодах Матисса, но вы их не хотите, ибо они без горечи.
В
моих плодах не ищите ничего, кроме самих плодов, а на мои чувства обращайте
внимание настолько, сколько их есть в горечи самих плодов.
***
На
свой рабочий стол я ставлю банку с ветками тополей.
Удивительный
запах пахучей смолы создает иллюзию протяженности времени, равную протяженности
Яузской набережной.
Вся
набережная дышит ароматом только мне знакомой пряности. Я прислушиваюсь к
сладости майской природы и нахожу поразительное совпадение, сходство, портрет –
портрет невидимого миража. «Детство»... –
Как же я долго искал сравнения, уподобления, напоминания.
Весь
этот или другой реквизит даже в самых возвышенных тонах не давал ту яркость,
какую я в одну секунду схватил, и она швырнула меня далеко от бывших
Строгановских владений на Яузу, к моему родному селу.
На
травах обильное, нежное, теплое серебро дождя. Я с другом совсем недавно
закопал маленький мешочек, а в нем моя любимая карамель с абрикосовой начинкой.
Аромат тех круглых конфет заставил меня вдохнуть запах деревьев Московской
набережной. Целую охапку этих веток с едва распустившейся зеленью я ставлю в банку
с водой на свой рабочий стол и пишу эту чушь в оболочке лирики, сентиментальной
слезливости.
Я
с моим одноклассником считаю дни до праздника, когда можно будет извлечь клад
собственного захоронения, чтобы всласть насытиться пахучими сладостями с бархатной
начинкой. Осталось всего два дня, а мы довольствуемся жгучей травой и крапивой
с солью.
Завтра
мы всем интернатом пойдем в горы за цветами горных долин. А сегодня в коридоре
приготовлены горы всякой посуды. Тут банки всех размеров: горшки разного обжига,
чайники, ведра, баки, тазы, корыта и даже миски. Все наши комнаты и даже
соседние дома завтра наполняться желтыми, синими, красными, фиолетовыми
запахами желтых, синих, красных, фиолетовых цветов наших гор и долин.
Сегодня
у меня и у моего друга особое приподнятое настроение в предвкушении пира
небывалого количества яств. Мы почти месяц собирали эти круглые, хрупкие,
липкие камушки со сладкой начинкой. Вначале было всего десять камушков, а потом
пятнадцать, а потом целых двадцать пять кругляшек.
Соблазн
воспитателей ловить нас был настолько велик, что они проверяли наши карманы и
руки, и даже ботинки, и это после каждого завтрака и ужина, но заглядывать в
рот, под лацканы или под воротник они не догадывались.
У
тетки я достал белоснежный мешочек из бязи, и, когда до праздников оставалось
всего пять дней, мы зарыли наш бесценный сладкий мешочек в землю около кладбища
на окраине села.
Блаженство,
безмятежность – все эти слова очень далеки от того чувства, что я испытывал
накануне желанного дня. Мы играли, преувеличенно скаля зубы. Я тогда смеялся,
не зная никакого стыда, показывал свои большие лошадиные зубы, которые росли,
где им вздумается и как попало.
Стыд
и совесть – что это такое? Для детей это неизвестно. Я своей внешности придавал
столько значения, сколько это требовали мои строгие воспитатели. Чистить ногти,
мыть руки с мылом, что за наказание!
Ребята
в тот день удивлялись моей резвости. Ведь я редко с кем играл из мальчишек, а
больше времени пропадал среди девочек, за что меня мальчишки дразнили «гада-руш»,
что означает «мальчик-девочка» в буквальном переводе этих слов.
И,
наконец, наступил долгожданный день! Утро, «Славься отечество!..» (гимн пели
тогда словами)… веселый горн, солнце. Мы все становимся в строй. Бег,
упражнения, и мы бежим на родники умываться. Брызги ледяной воды, визг, смех,
слезы – вот суета предпраздничной детворы.
Затем
праздничный завтрак: конфеты, печенье, сладкий чай, голландский сыр, рисовая
каша с топленым маслом. Конфеты я сразу спрятал, чтобы добавить к вечерней
трапезе.
Наконец
огни! Зажглась иллюминация. Над школой огромная надпись «XXXII
годовщина». А я с Саидом трусцой бегу на кладбище за село. У страха глаза
велики: ну что тут такого, что на пути кладбище. От радости у нас нет никаких
глаз, ни маленьких, ни больших, ни великих. Мы не видим даже праздничных огней
над клубом, ни надписей над школой из разноцветных лампочек. Мы не видим, как
желтый закат становится оранжевым, оранжевый переходит в красный, а далее – в
фиолетовый.
Мы
идем радостные, но вкрадчивыми воровскими шагами к желанному кладу все дальше
от села, все ближе кладбищу, а там за кладбищем нас ждет наш сокровенный, наш
пахучий и сладкий, наш клад. Мы вооружены ничуть не лучше, чем люди каменного
века. Палка и камень – вот все, что у нас есть в руках. Наконец, мы дошли до
цели. Саид был сильнее, чем я, и он захотел извлечь «драгоценности» первым. Я
запротестовал, нарушая покой всех покойников, единственных наших свидетелей. Мы
бросили жребий, и я выиграл печальную участь быть вторым. Саид, торжествуя,
зажег звезды в своих черных глазах, как сказал бы восточный поэт, и начал
играть всем мальчишеским задором свой танец перед кладом, растягивая свое
удовольствие, демонстрируя всякие поклоны, взгляды, примерки. Он смачно плюнул
на обе руки, потер их друг о друга. Этого ему показалось мало. Он потер их
снова. Теперь – о полы пиджака, предварительно расстегнув его. Этим самым он
иссушил излишки слюны на руках. Ему показалось, что кто-то мешает ему. Он
посмотрел по сторонам, кругом были могилы, а далекие праздничные мотивы едва ли
могли остановить моего смелого друга. Его душило волнение, но не страх. Он снял
галстук и, небрежно свернув его, сунул в карман.
Я
торопил его, потому что уже темнело, темнело прямо на глазах. Какой-то
невидимый художник смешивал краски так быстро, что они стремительно
превращались в черное месиво, а затем в черный бархат и на его иссиня-темный
фон тот же художник бросал жемчуг, ожерелье, осколки разбитого зеркала, сыпал
песок серебра и ни крупицы золота; золото, изумруд, бирюзу, малахит и всю яркую
мишуру наш художник-невидимка бережет для жестких лучей южного солнца.
А
мы ничего этого не видим. Мы, как кроты, как поросята, как сладострастные
сластолюбцы, целуемся с землей.
И
вот желанные контуры и четыре руки бросились и вцепились, как клещи, в наш
мутный мешочек. Но что это!? Наши руки, начиная от самых ногтей, стали
покрывать черными точками. Они сотнями, тысячами, двигаются по рукам все выше:
на плечи, на шею, на рубашку, обжигая наши лица, как будто мы сорвали листья
крапивы.
–
Это же муравьи! – воскликнул Саид.
Мало
обращая внимания на это нашествие, мы разрываем мешочек, а там черным-черно,
черное тесто. Муравьи съели половинки всех наших конфет и дошли до их
сердцевины, до нашей любимой абрикосовой начинки. Мы в ужасе облизываем наши
липкие пальцы, не то сожалея, не то желая полакомиться дефицитом сладости, но
язык становится шершавым и соленым, и мы оба плюемся и чертыхаемся. У нас обоих
такое чувство, хоть ложись в могилу, а кладбище совсем рядом. Довольствуемся
утренней порцией, и оба удаляемся от поруганного мешочка и подходим все ближе к
селу, оба молчаливые, оба печальные, идем, как две тени, на праздничные огни.
Я
слишком растянул повествование о злополучном кладе. Мелочи жизни в детстве
казались нам столь значительными, что мы получали от них обилие эмоций. Только
это заставило меня вернуться к далекому прошлому, к своему детству, на зигзаги
блуждания прежних дней, и никак не мог вовремя остановиться, нет, – я не хотел
остановиться, не хотел вернуться на ровную, но скучную, прямую дорогу взрослой
жизни.
Такое
со мной случается каждую весну.
И
сегодня я блуждал по мокрой траве, в мокрых фланелевых брюках, отяжелевших от
дождя, как тогда в далеком детстве; в прошлом году, в мае я блуждал в
подмосковных лесах в поисках утраченных иллюзий, находя их в травах, цветах,
запахах также, как сегодня. А сегодня, как в детстве, как вчера и в мае
прошлого года, я хожу один по горбатым мостам Яузской набережной, брожу между
деревьями в нежной зелени и любуюсь русскими березами, восхищаюсь весенними
далями, хожу счастливый, потеряв друзей, находя себя, свое одиночество, свое
единение с природой, блудный ее сын, вернувшийся к ней, идя вместе с ней,
ставший частью ее, ставший ею, иду навстречу тайне будущего.
***
–
Ким, ты не видел Наби?
–
У калитки, а может за речкой.
–
Он обиделся на мою бабушку. И ему попало от нее…
–
Это когда были здесь те апостолы поэзии?
–
И твой брат тоже был.
–
Да, я застал их в последний день их визита. Застолье оказалось не по вкусу
твоей старушке.
Наби
стоял на берегу реки, и мы нерешительно приблизились к нему.
–
Ты что тут делаешь? – спрашивает его Ким.
–
Думаю, – с иронией и сердито отвечает Наби.
–
О чем?
–
О том же.
–
О бабушке?
–
При чем тут бабушка?
–
Тогда о чем же?
–
Об утопленниках и русалках.
–
Это аллегория?
–
Да. Это аллегория. Аллегории не будет, если я присоединюсь к русалкам. Ты
доволен?
–
Зачем так мрачно? Я знаю, на кого ты сердишься.
–
На бабушку Андрея?
–
Опять бабушка Андрея… Ты сердишься на меня. Я глупец. Я думал, что ты здесь
отдохнешь. Чистый воздух, и все такое… Думал, что нам вместе будет хорошо.
Утром же было хорошо. Мы делали кучу рисунков по твоим формулам. Правда же,
Андрей?
–
Что я – математик, что ли?
–
Ты же говоришь «дома режут деревьев», «заборы – это вертикаль и горизонталь»…
–
Какая чепуха.
–
Не злись, пожалуйста. Твои слова.
Ким
не унимается, а я смотрю и изучаю своего будущего учителя и не могу поднять на
него глаза из-за такого неприветливого дома и бабушки-кулачки.
Я
говорю:
–
Наби, давайте походим по городу. У меня тут много знакомых и родственников, и
мы обязательно что-нибудь да найдем.
Ким
отдаляется от нас весь красный, а я иду с ним по полуденному зною. Духота. По
лицам струится пот. Зачем он надел пиджак да еще свитер под ним.
Мы
некоторое время идем, как на похоронах и только изредка наше молчание нарушают
далекие раскаты летнего грома. Наби смотрит на небо.
–
У вас городок, как в пьесах Островского. Такой же сквер, а внизу река и деревья
такие же, как в декорациях Малого театра.
И
снова молчание. Он говорит со мной все время на «вы». Мы никак не сближаемся.
Правда, знаю его всего неделю. У него томик стихов Рильке, и, шагая рядом, он
оживленно вспоминает любимые строки поэта.
Зачем же, зачем
человечность,
если
нужно
Срок бытия провести, как
лавр…
А
далее он находит ту страницу, где его любимая элегия и начинает читать. Читает
он плохо, с акцентом, и мне ничего не понятно, но я смотрю на него своими
«лучезарными» глазами, стараясь выразить в них понимание, восхищение и головой
делаю кивок (иногда удачно) и произношу бормотание невпопад.
Захватывает
в нем другое: регистр, быстрый переход из одного состояния в другое. Ему
наплевать сейчас на весь мир, на
начавшийся дождь, на молнии и гром; а про свою бездомность он и вовсе забыл, а
вместе с ним я чуть не забыл свою высокую миссию. Мне неловко оторвать его от
поэтического момента, и, к счастью, книга стала мокнуть под крупными каплями
летнего дождя. Он прячет ее под пиджак, но продолжает читать вслух. Я стал
ходить все медленнее, прижимаясь к забору большого частного дома, и он
вспоминает тогда, что к чему. Я звоню в дверь. Раздается оглушительный лай
собаки, скрип новой двери. Вскоре открылась калитка, показывается розовая пасть
овчарки, и перед нами появляется хозяйка этого богатства.
–
Нет, не сдается!
–
Вы помните нашего, моего…
–
Нет, не помню. Отца? Очень смутно.
Я
возвращаюсь через мостик к Наби, а он не спрашивает, сразу переходит к своему
элегическому настрою и продолжает читать.
Дождь
прекратился, и мы, мокрые и счастливые, идем дальше. Мне холодно. Я снимаю
рубашку и выжимаю ее. За этой процедурой я отстал от него, и вдруг вижу, как на
дорогу на наш путь выезжает знакомая красная машина. Я догоняю Наби, а «Жигули»
останавливается около нас. Открывается дверца, и оттуда с трудом вылезает
бородатый коротышка.
–
Привет! Куда путь держим?
Я
знакомлю местную знать с моим бедным другом.
–
Вечером загляни. Непременно загляни. Сейчас мы едем на природу. Моя Галочка
хочет купаться…
–
Это после дождя?
–
Каприз. Ты же знаешь развращенную ее биологию.
Я
краснею. Галочка хохочет. Она разлегается на заднем сидении вся в поту. Я делаю
ей едва заметный кивок. Опять открывается дверца, и из нее высовывается та же
борода.
–
Кстати, не приедут ли сюда, в нашу глушь, московские знаменитости?
–
Не знаю, – отвечаю я.
–
Жаль, жаль, а как хочется послушать стихи Раундова и, конечно же, Бисера:
музыка моя слабость.
Машина
обрывает моего добряка, резко подается вперед, чуть не выдавив из себя доброго
толстяка, налегла на все четыре колеса и, обрызгав нас, швырнула на дорогу, вперед,
в поисках новых приключений и богопомазанных юнцов из богемы.
–
Кто такие? – спрашивает настороженно Наби.
–
Местная интеллигенция, – отвечаю я.
Наби
хохочет, говоря: как это вся интеллигенция поместилась в одну маленькую машину.
И
снова тишина, будто не было ни дождя, ни этого скорого гробика с искателями
приключений.
Мы
снова в дороге, в пути, к чужим домом в родном городе, к порогам богатых
родственников и везде получаем один ответ – поджимания, знаки недоумения и
подозрения, а порой и грубости, колкость, а также лай собак в цепях и без
цепей; собак на сене и собак без сена.
Мы
идем дальше, навстречу вечерним огням мимо домов с вечерними огнями и запахами,
мимо редких прохожих и уличных фонарей. Вижу, Наби устал. Устал и я. Устали оба
и проголодались. Очки не скрывают его отяжелевшие красные веки. Теперь мы идем
походкой Россинанта, клячи Дон-Кихота и шажками ослика Санчо Пансо к парадному
подъезду местного постоялого двора, где нас ожидает наша прекрасная Дульцинея.
–
Я не вас ждала, – отвечает нас располневшая Дульцинея Волочковская, не вас я
ждала…
Наш
путь дальше. Мы идем на другой конец города, к саду.
***
…Мы
попали в Гефсиманский сад, за рекой Кедрон. Та же предательская тишина и такая
же тьма. Только рядом нет Петра, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея и даже его
любимого ученика Иуды…
–
Вот тебе два рубля. Отдашь их бабушке за обед, и принеси мне что-нибудь поесть.
Вернув
меня с небес на землю, Наби идет к маленькой эстраде в конце сада, а я
возвращаюсь домой. В душе тоска, небывалая печаль, чувство вины, злоба и
щемящая боль.
Когда-то
очень давно я на такой же сцене играл и даже произнес речь, которую закончил
словами: «Учитесь все, как я!» Смешно. Село наше славилось не только своим
звучным именем, но и артистами, певцами, музыкантами и даже художниками. Помню
все и даже слышу тот гул, рев, плач, когда с большим пародийным пафосом и
экзальтацией играл наш старший пионервожатый в спектакле «Периханум».
Фабула
пьесы чисто восточная. Старуха Заза соблазняет дочь бека выходить замуж за
бедного красавца Мехтибара. Брат красавицы узнает от слуги о тайном заговоре,
уводит сестру в лес и вонзает ей нож в сердце. Она остается в живых, ее спасают
охотники хана. Хан влюбляется в раненую лань-девушку и женится на ней. У них
рождаются два сына. Периханум очень скучает по дому и просит своего повелителя
посетить вместе с ней ее родителей. Хан отпускает Периханум в сопровождении
первого визиря. На пути их настигает ночь. Визир отправляет воинов далеко от шатра
женщины, а сам подкарауливает молодую мать. Жена хана умоляет не трогать ее,
обещая несметные богатства, но визир хочет одного – обладать ею и утолить жажду
похоти. Тогда Периханум убегает и скрывается в лесу, в высоком дереве. Визир
находит ее, требует, чтобы она отдалась. В противном случае он зарежет обоих
сыновей. Периханум гордо отказывается, допуская в душе, что визир не пойдет на
страшную жестокость, но последний в страшном гневе, мужском величии и
ослеплении режет детей, а сам возвращается к хану, инсценируя свое
сумасшествие.
Периханум
сходит с ума. Она одичала в лесу от горя и отчаяния.
А
когда однажды к ней возвращается разум, она своей кровью на дарственном платке
пишет в стихах всю правду. Найденное письмо пастух передает хану, а Периханум
вместе с ним возвращается в мужском костюме в ее родное село.
Состязание
ашугов-певцов. Переодетый в костюм нищего странника, хан узнает свою Периханум
и драма на этом кончается.
Так
подробно на пересказе пьесы я остановился не случайно: потерпите еще немного, и
вы будете свидетелями страстей, плача и великого убийства. А пока мои
односельчане тащат из домов ковры, сундуки, утварь, кинжалы, серебряные женские
пояса «камара», ружья, черкески; дети срубают ветви деревьев и даже целое
дерево для несчастной Периханум. Мой родственник Абас, сельский плотник,
заканчивает работу над досками, чтобы настелить помост на площади селения.
Сейчас лето, а всех желающих не поместить в наш маленький клуб. Ребята постарше
поднимают камни на сцену, а девушки в мешках таскают настоящую землю.
Киномеханик Айни возится с движком, чтобы освещать как можно ярче кровавые
сцены. Артисты волнуются и наносят последние штрихи грима, а музыканты
натягивают новые струны; кто готов, те проверяют звучание инструментов.
Три
коллектива состязались всегда до седьмого пота: школа, детдом и колхоз. Они
имели свои художественные направления, и это было для меня хорошей школой,
первым знакомством со школой переживания до МХАТа, в отличие от которого
сельские артисты свои переживания демонстрировали через страсть. Они не знают,
что такое чувство – только страсть, только страсти!
Вначале
плакала музыка. Рыдания тары, завывание каманчи (тип национальной скрипки),
стон кларнета, очень робкие вопли барабана; тару подхватывает кларнет, кларнет
– каманчу, а барабан отдельно бьет свой печальный ритм, печальный жребий.
Занавес. Появляется старушка с черными зубами, и сразу же с площади, со всех
концов летят яблоки, палки, камни, ругань, крики, окрики. Заза от страха едва
дышит, недаром она такая толстая: одела все, что было в ее старом гардеробе.
Играет старуху бессменная Майтаб, колхозная звезда. Молодого бедняка играет наш
родственник – красавец Загид. Ему совсем мало нужен грим – моя акварель.
И
вот на сцену выходит сама чародейка – красавица Саният. Ее длинные черные косы
очень кстати. Брови – два черных полумесяца, а глаза – старое серебро в черной
оправе. Голос ее – находка и гордость всего района. С первых же нот весь зал в
ее руках. Она душит всех разом и каждого в отдельности. В каждом горле ком, а в
глазах два озера.
В
одном спектакле, когда брат должен был убить ее, на него полетел большой камень
и угодил, по счастью, в плечо. Но это не помешало ему вовремя занести нож в
грудь воображаемой сестры. Тут не было победы героя без актерской победы, без
физической боли. Но до ножа еще далеко. Саният ползет на коленях, умоляет брата
не убивать ее и не верит в грязные слухи слуги. Вспоминая эту сцену сейчас, ее
слезы, ее страстные переживания, сладкий тембр ее голоса, и у меня кость в
горле, честное слово, а в глазах – вуаль из слез. А что делалось тогда, перед
клубом, на сельской площадь!
Старушки
не выдерживали, рыдали и падали со своих табуреток, стульев, скамеек и ползли
на коленях по земле, поднимая невообразимую пыль, повторяя все вопли прекрасной
Саният и тоже умоляя шофера – гарцующего красавца Фаиля (все непременно должны
были быть красавцами и красавицами) – не убивать красавицу Саният-Периханум.
Вся эта длинная трехчасовая драма шла без перерыва, плача в порывах жутких
эмоций, страстей, воплей, рыданий. Все ждут кульминации. Дети доставляются на
сцену. На них одеты одинаковые белые джигитские папахи с красными кисточками.
Доставлены, заполненные кровью, кишки барана, зарезанного специально накануне
спектакля. Все волнуются за мальчиков, а я волнуюсь больше всех. Я знаю этих
мальчиков очень хорошо. А вдруг их на самом деле зарежут?
Вот
визир, за поясом которого красуется огромный кинжал в серебряном чехле,
настоящий кинжал, кинжал из дома Сабира, а Сабир – колхозный кузнец и сыновья
хана – его сыновья.
Угрозы,
страшные усы, большие руки, атлас и парча визира – всё алое, и всё это дышит
кровью и зноем. Зал в азарте, в диком захлебе, в ожидании желанного убийства и
нежеланного кровавого пира. Визира играет несравненный Бейбала. Его комедийный
гротеск ничуть не мешает ему изображать мечущихся алчных глаз, львиную походку.
Он знает, чем заманить неопытных зрителей: страстный голос, недавно вставленные
золотые вперемешку с серебром зубы – вот капканы на пути жертв его односельчан
– зрителей-односельчан. Ничего не скажешь, очаровательные капканы для сотен пар
глаз, ушей, рук, ног тех, кто сидит или стоит на сельском пятаке. Все решится в
один миг, и нет пощады, и не ждите от вашего любимца Бейбалы никакой пощады.
Ваша участь решена, решена, как участь тех милых созданий в белых папахах с
красными кистями, сыновей хана и сыновей кузнеца из сельской кузницы. Где было
твое сердце, несчастный Сабир, когда ты отдавал вместе с кинжалом из лучшей
стали и своих двух сыновей. Где сердце, о мать, которая вас родила, этих милых
мальчиков и моих лучших друзей! И вот совершено убийство. Кровь течет, до жути
красная. Руки, лицо, нож несравненного Бейбалы – все в крови. Белые папахи
мальчиков становятся вначале алыми и на глазах превращаются в багровые.
Несчастная
жена хана, прекрасная Периханум, мечется по маленькой сцене. Ее рукам мало
места, и они жаждут мести, и обе они в крови. Я падаю в обморок. Очнувшись, я
спрашиваю у моей соседки, соседской тетки, некогда соблазнившей меня коричневым
полукругом хлеба, живы ли дети. Но я догадался сам: над мертвыми не плачут
сидя, значит живы оба.
Мне
и сейчас мерещится та бойся, а кругом темно, и я один на садовой эстраде и
глажу влажные доски маленькой сцены. Мой друг запаздывает, а кругом пустота и
опять детство. Далекое детство давит на мою память.
Я
тоже играл роль бедняка Мехтибоара. Для красоты я не пожалел и не пощадил
коробку акварели и даже цветных карандашей. В девятом классе я уже понимал, что
такое красота. Это было в то время, когда я был влюблен в свою одноклассницу
Асият, девушку с той самой зеленой парты. Она была моей партнершей и играла
красавицу Периханум. Помнится наш первый и мой последний дебют. Она пела
страстный куплет признания, отчаянного терпения и нетерпения кому-то другому. Я
искал во всех рядах того, кому она адресует свои порывы. Мои глаза блуждают по
рядам, начиная с последнего, кончая первым. Я рассматривал лица всех мальчиков
своего класса и даже лица ребят из соседних деревень, лелея и мечтая увидеть
свою жертву, схватить и вцепиться в ее горло своими большими зубами сию же
минуту. Но лиц не было, а были одинаковые красавцы, влюбленные в мою Асият,
влюбленные от последнего ряда до первого. В зале сидели пятилетние,
тридцатилетние и даже столетний дед – все до единого влюбленные.
Через
год я с ней сяду под розовой яблоней в розовом саду, а сегодня она дочь бека, а
я ее несчастный бедняк.
Моя
очередь петь. Увлеченный своей ревностью и залом, я забыл слова и слышу смех.
–
Чего смеетесь? – кричу я в зал.
Старики,
дети, женщины, девушки, старушки – все, как один, ударились в оглушительные
аплодисменты и смех. Я убегаю со сцены, оставив там свою возлюбленную Перихануи
и мою Асият.
Теперь
смеюсь я. Право же смешно. Я вижу цветы. Вижу огромный буке желтых роз и
объемистый бумажный пакет с едой.
Мой
друг ставит на авансцену вареные яйца, соль, белый и черный хлеб, копченую
колбасу, зеленый лук, термос с чаем, варенье, лимоны и стелет газету.
Какой
успех! Выходит так, что я не вспоминал, а играл, раз вижу такое угощение, такой
банкет. Андрей радуется. Да, цветы его сюрприз. Он доволен.
Я
говорю:
–
Красота – это тепло, солнце, ласка, – и болтаю всякую сытую чушь.
–
Почему считается холм, дерево – красиво, а простой болт, трамвайный вагон –
некрасивыми?
–
Наверное потому, что в них есть нечто преходящее, суетливое и временное, –
подхватывает Андрей.
–
Твоя правда. Однако поздно. Ты иди домой, а то бабушка напустит на тебя своих
собак.
–
А ты?
–
Я остаюсь здесь.
–
Здесь сыро и холодно, и комары заедят. И неловко как-то.
–
Ничего. У меня свитер, две пары носков и твои цветы. Чем не ограда от комаров?
А потом… я давно вынашиваю одну композицию «Сад Арлекина». Я должен обработать
весь этот материал. Я должен пережить его сам, пережить здесь, в этом тихом
углу ночного сада.
***
Я
в сетке. Около меня лежит молодая гюрза. Ей в новость, как долго умирает
человек, как умирает тепло, ласка, любовь. Юноша, чернокудрый грек, мой
наставник, успокаивает гюрзу и не дает ей повернуться ко мне. Капля яда, и я бы
оказался в Раю. Гюрза понимает и жалеет и поднимается ко мне. Мне не верится,
что гюрза – это моя смерть: змеи не бывают такими теплыми. Гюрза шипит и ничего
не может сделать со своими глазами. Они под гипнозом грека, и мы оба в ожидании
смерти.
Я
просыпаюсь. На мне белая простыня. А под боком мягкое влажное одеяло. Напасть
какая! Мне жутко. Я хотел бы вскочить с кровати и открыть окно, но вдруг
раздался жеребячий смех, а затем слышу слова: «Когда мы занимаемся любовью, чем
занимаешься ты?» Я хотел запустить в него табуреткой, но помешал клоп, который
спокойно полз по моей мятой майке…
Я
вижу много сердитых лиц. Вы правы. Я не последовательна, противоречива и
подпрыгиваю с одного камня на другой и, увлеченная собственным отражением,
забываю последовательность событий. Противоречива не я, противоречив весь
материал Наби, как противоречиво все его творчество, вся его жизнь. Это я
сознаю теперь, когда под рукой оказались золото, мрамор, камень. Я плохой
строитель, плохой скульптор, плохой ювелир. Наби нагрузил меня этими
драгоценностями, забывая о том, что я всего лишь экзальтированная женщина, и
никакой я не писатель.
В
процессе работы я поняла, что мне нужна сырая глина, собственная глина. Я
делала бы из нее красивы игрушки и красила бы их сама.
Я
сетовала ему на трудности, жизненные невзгоды, на соседей, – а Наби твердит
свое, настаивает на своем:
–
Только сидя за столом, постигаешь неудачи, только в ученье познаешь трудность,
только в труде научишься преодолевать преграды.
Ты
прав, мой желанный деспот, мой повелитель, мой учитель.
–
Я подхожу к творчеству полушутя, и у меня свой подход к нему.
Ты
не дослушал мои взгляды и переменил тему. Не хотел ранить меня. Не так ли? Ты
хочешь получать мои опусы ежедневно. Неважно, какие. Ты хочешь поучать меня к
тяжелому труду писателя, художника: пригвоздить меня и каждого к рабочему столу
и чтобы я не знала ничего, кроме творчества, но творчество – через будничный
труд.
На
мои «ничего не получается» ты твердишь: «Не получится сегодня, так получится
через месяц». А где найти эту твою усидчивость, любовь к серым будням, а серый
монашеский халат, который предлагаешь взамен моих ярких аппликаций, не рановато
ли для меня?
Я
готовлюсь к великой премьере, и мне чужды черновые прогоны, а репетиций терпеть
не могу. Я хочу, как говорит наш Ким, создать шедевр одним махом. А ты, мой
добрый Наби, из живописи сделал себе каторгу, и опять слышу твое возражение:
«Для вас сама жизнь стала каторгой, а живопись – частица ее». А что дала тебе
твоя живопись, кроме одиночества, заброшенности и преждевременной старости? Неужели
ты забыл первый вернисаж, первый провал, а за ним предательство твоих друзей.
Нет, ты не забыл, ничего не забыл. Не забыл даже ту незлую шутку Апполона,
когда ты жил у Анетисы. Ты пишешь: «Она сделала всё возможное, чтобы я разлюбил
ее. Приведя в мастерскую плотскую любовь, она унизила себя, предала меня и наш
идеал. Теперь слова «дух», «искусство» звучали так, как если бы были
произнесены трупом. У меня не было другого выхода, как терпеть падение Антисы.
Все дела, даже дела, связанные с живописью, теперь стали частью плоти.
Похотливые глаза, похотливые уши, похотливые языки, похотливые игры. Всё дышало
парой, и мне надо было как-то раствориться здесь, а не быть третьим.
Я
жил напыщенно радостным, удачливо вежливым и льстивым не в меру. Здесь
царствовал диктат Антисы, не ошибусь сказать диктатура Антисы, ее вкус, причуды
вкуса и безвкусицы; беспорядок и порядок. Все это неизменно сочеталось с
безделушкой «красиво», а вопиющее эстетство доходило до эстетического
бесчинства. На этом фоне проходили наши вечера и наши ночные бдения. Шутовство,
фиглярство, фавнические гротески кончались так же внезапно, как и начинались, а
к вечеру возобновлялись снова. И снова то же самое, на том же фоне. Мир, где
властвовал детский принцип «я хочу», порождал капризы, обиды, ссоры. Детское «я
хочу на горшок» здесь звучало: «Я хочу на живопись». Здесь все дозволено, но
дозволено далеко не всем. Принцип «делай, что хочешь» здесь принимал ракурс
своевластия, самовластии и низкопробной прихоти.
Я
был третий – это неверно. До прихода Апполона второе место принадлежало Коре, а
первое место бессменно занимала Антиса. Теперь я загнан на самые задворки.
Апполон создан для Антисы, родился для нее, для ее «жестоких забав». Его
большие глаза, большие губы, большие плечи, большие руки, и все это дышало
слабостью. В них была сила и сила его обаяния. Апполон терпел меня, потому что
терпела меня Антиса. А чаша уже наполнялась до краев. Этого я не знал. Я наивно
полагал, что этой королевской чете непременно нужен шут, и я старался изо всех
сил. Мой горб был внешне ничем не примечателен. Просто он был невидимым. Мой
горб был спрятан и надежно охранен от глаз простых смертных. Антиса радовалась:
моя живопись была тем горбом, над которым можно было здорово посмеяться. Я
радовался и поощрял ее издевательства, называя их милыми шалостями. Я же шут!
У
нее на языке что-то созревало, что-то сокровенное, но, видимо, она боялась
гласности. Боялась, что она потеряет шута, горбуна…»
Гвозди,
грязная чашка от какао, засохшие шкурки апельсина, окурки в трех пепельницах,
помада, разбитое зеркало, сломанный карандаш, пустые пузырьки из-под туши, бусы
в грязной тарелке, недописанный холст – все это постоянный реквизит нашего
стола на Грузинской, и мы постоянные гости – жильцы большой комнаты-мастерской.
Кроме
меня за столом сидят Апполон и Антиса. Наби где-то задерживается, и мы его
ждем, зная, что он непременно вернется. А куда ему деваться? Вскоре раздается
шум за дверью, и мы слышим его осторожные шаги.
–
Здравствуйте, – говорит Наби, а глаза смотрят куда-то в сторону, на пол, на
кучу посредине комнаты.
Там
чемоданы, моя шуба, хозяйственные сумки, банки, опрокинутый таз с остатками
мыльной воды, посылочный ящик с песком, рейки с гвоздями и любимая Шушка Антисы
ходит, играет и нас зазывает на эту свалку.
Мы
следим за его неприветливым взглядом. Видим, что он где-то погладил свои
«джинсы», переоделся в чистую рубашку, а на ногах новые замшевые туфли.
Антиса
весело говорит ему:
–
Наби, ты что, перешел на летнюю форму?
Вместо
ответа он ринулся на этот хлам, опрокинул Шушку вместе с ее мерзким ящиком и
что-то с силой стал оттуда вытаскивать.
***
В
тетради Наби я нашла все, что происходило в его душе в тот злополучный вечер. Я
не поняла, почему нашу ссору он излагает под названием «Причастие», а спросить
об этом было бы с моей стороны жестоко.
«…Я
с трудом увидел под горой хлама и всяких вещей свои холсты. Я благодарен Шушке
– любимице Антисы. Она рылась в песке, в посылочном ящике, который громоздился
на подрамнике, где была надпись одной моей картины. Я кошкой сорвался с места.
Нет, не то. Я – не я. Я коршун, орел, пантера, ягуар, раненная лань, тигр и все
быстрые звери, и быстрокрылые птицы. Я бросаюсь на их вещи. Летят тряпки,
перья, чемоданы, тарелки, бюстгальтеры, сапожная щетка, трусы, жестяные банки,
банки стеклянные, шляпы, ботинки, детский барабан, табуретка, зонтик.
Цирковые
заправилы всяких там трюков определенно лопнули бы от зависти, от моего
искусства швырять, вертеться, нагибаться, падать, подниматься, вставать и
ползти на четвереньках, стоять на голове, закручиваться и раскручиваться.
Глаза
моих поклонников и поклонниц восхищенно округляются, становятся шире, больше в
высоту и в ширину: влажность, блеск, мерцание, звезды, тепло, ласка, презренье,
ненависть – и все это в один миг.
Летят:
посылочный ящик, тряпичный песик, а Шушка демонстрирует длину, высоту и всякие
дистанции прыгания и замирает на миг, демонстрируя теперь длину и пепел шерсти,
и вдруг ее как бы не стало. На нее падает ящик, ее домик, ее забава и утешение.
Наконец-то,
вот она! Мои руки коснулись заветной рамы. Блаженство, истома, вожделение,
радость, восторг, ком в горле, слезы в глазах, яд на языке, а в нем сладость,
сладострастная боль, конфеты, шоколад, и вдруг все это исчезает.
Буря,
камни, дождь из камней; сверлящие, режущие, затыкающие, протыкающие струны;
ножницы, бритвы, лезвия, мечи, столярные гвозди, гвозди для распятья, колючки,
терновые венки и веники, ржавый лязг, адские котлы. Все это мучает мое тело,
мою кровь, разрывая на части мое сердце, мою грудь, мое брюхо, мои вены и все
мое нутро.
Что
там Антисин «театр присутствия»! Настоящий театр всегда отсутствует. Разве она
видела тогда мой Апокалипсис, моих коней с моими всадниками с иерихонскими
трубами и божьими мечами, моих молний и моих стрел, готовых пронзить ее сердце,
сердце Коры, сердце Апполона. Видел ли я тогда ваши пики, кипу пик, пик кипу.
Разве я мог тогда увидеть, Антиса, твоих борзых собак, жаждущих моих икр,
печень, сердце, мою живительную красную влагу. Мне ли тогда было противиться
изгибам твоего зла, твоих ногтей, томящихся в благе и неге. Мне ли было
спастись от твоих змей, согретых тобой сотен тысяч змей всякой величины, длины
и толщины. Что такое «театр присутствия», если не жалкий фарс из тленных
предметов, костей и мяса, способных всего лишь на то, чтобы двигаться,
открываться, закрываться, сжиматься и разжиматься. Разве в твоем театре, в
театре на Таганке или во МХАТе услышишь карающие фанфары, литавры и всю медь
музыки моей впалой груди?
О
Боже, почему все они: Кора, Антиса, Апполон слышат мой жалкий лепет из жалкого
реквизита штампа, упаковки и шаблона. Почему они слышат слова жалкого
гуманинизатора, одомашенного, одномерного человека. Где же тот орган звуков,
где же вы, мои вопли и причитания? А вместо этого они слышат:»Холсты ставятся у
стенки, Антиса, ты же – художник!»
Апполон,
разве ты сказал только то, что я тогда услышал: «Ешь наш хлеб… пьешь наш чай…»?
А не жаждал совсем другого: влить в мой рот, уши, брюхо и в мои потроха
раскаленный свинец и даже золото и серебро? Разве ты хотел сказать: «Я выброшу
тебя в окно», – а не вожделел проткнуть острой шпилькой мое сердце и все мое
тело, мой мочевой пузырь, кишки, селезенку и так все тело от копчика до
макушки, от кончиков волос до кончиков ногтей, как тогда, когда венчали
терновником – венцом, венценосца без венца?
Разве,
Кора, ты хотела упрекнуть меня моими побегами, а не желала связать меня
веревками, цепями, как это сделал грозный Зевс, своего любимца Прометея, открыв
его наготу, и срам всем богам, а печень – хищнику-орлу?
Антиса,
несравненная моя, что такое «ты презираешь нас», если не желание подойти ко мне
с грацией своей любимой кошки? Нет, не то, – она не ловит мышей, – а с грацией
голодной дикой кошки и когтями ослепить мои глаза.
Грация
гюрзы, ее жеманство, ее поцелуй… Нет, все не то. Все сравнения, все слова –
набор пустых, бесцветных, мягких флаконов, а не то, что тогда выражали твое
лицо, твои уши, ноздри твои, брови твои, губы твои, язык, плечи, грудь, ноги и
даже кресло под тобой. Вы видели меня, но не слышали мое нутро. Видели мои некрасивы
черты, видели, как я сижу: неумело и неуместно и неумело гордо; видели на мне
глаженые тряпки, а не видели своего Бога.
Подозревали
ли первосвященники и старейшины у Каиафы, кому они выносили тогда приговор?
Возможно ли, что было предательство в Гефсиманском саду? У нас сегодня обычная
вечеря, и я среди вас, и нет у меня никакой тайны от вас.
Дайте
мне тазик, воду и полотенце. Нет, я возьму их сам, Антиса, Мария моя, снимай
свои сандалии, и ты снимай, мой юный Апполон, свои, не стесняйся и не
отпирайся. Я помою вам ваши ноги: «Надо чтобы все были чистыми». Кора, а ты
сядь, сестра моя, а я упаду у ног твоих с водой и полотенцем, дай мне
насладиться твоей участью, вашей чистотой, нашей красотой.
И
каждому из вас не суждено ли было тогда это блаженство причастия и причастности
к божеству, как и мне?
–
Антиса, милая моя жрица, не клевещи на себя и проси прощения у себя. Ты есть
сама чистота, само причастие. Гнев – напутствие извне и его ты обрати назад.
–
И ты, мой Апполон, мой упрямый Петр, не хотел никого унизить, сказавши: «Ты ешь
наш хлеб». Нужда или твоя чистота заставили тебя заговорить чужими словами, но
сказал это все же ты. А ты не слушай нашептываний других, чужих, о пользе и
благе торговли, ибо больше нет тех нищих, кто нуждается в твоих динариях, ибо
первый и последний твой нищий – это я.
–
И ты, Кора, моя Марфа, моя покровительница, не упрекай меня за возмущения души
моей непокорной, ибо в смуте моей не было ни ревности, ни похоти, а была
чистота божьей благодати и вера художника-творца.
И
сегодня вы воздали мне сполна свою причастность, ибо нет хуже страдания души,
чем равнодушие близкого к родственной душе.
Не
вижу слез, а вижу умиление. И все же я верю в вашу троицу, в святость ваших
душ, в святость моих рук, протянутых к вам, как к солнцу, к цветам, к краскам и
к самой благодати божьей.
***
Москва
получила два письма и сразу же в Дербенте начался переполох. Директриса
бросилась к главрежу, главреж к уборщице, уборщица к морю.
–
Не к морю, – перебивает его директриса, – а в горы, к крепости…
Вещи
главного художника немедленно перевозить из общежития СМУ в театр. Большую комнату немедленно
освободить под жилье, актеры пусть красятся в декорационном…
–
Двухкомнатную квартиру выхлопочу для него, поползу, на коленях поползу, а
выхлопочу, а то нам конец!.. Нет его нигде. Нет ни на море, ни в горах, ни в
крепости. Утонул, что ли?
–
Надо было к нему поласковее… Он тоже хорош… Шипит, задевает, нос – хвостом.
Откуда мы знаем, кто он, что за цаца? Хороший художник или плохой? Какая
разница. Были бы два кустика и план…
А
ему подавай плющ, да синий, да антикварные люстры, а чем хуже красный ситец,
дешево и нарядно… Разорвал эскизы…
Какая
разница, Мольер или, как величают там у них в Москве, Шекспир…
Бросил
в лицо главного бухгалтера…
Главный
режиссер наступает на директрису:
–
Вы тоже хороши. Как разорвал? Парень изо всех сил старается для нас, а мы:
хи-хи, да ха-ха… Костюмерша обзывает его бездельником, завпост – задирой. Я не
говорю о нашем старом художнике: весь театр на него натравил, а все от того,
что он учился и талантливее всех нас.
Только
я знала, где был тогда мой Наби.
...Сегодня
я ходил проверять свои объекты: дохлую собаку, морские ракушки, которые
заинтересовали меня накануне.
Морские
ракушки стали на том месте больше, где я увидел их три дня назад: осенние ветры
раздувают большие волны и набрасывают их на берег все больше и больше.
Посмотрел на свой автограф на песке. Кто-то прошел, но не тронул. Следы
вчерашние, а что появились сегодня – это мои следы.
Дохлая
овчарка сохранила свой оскал и весь ужасный ракурс. Шерсть облезла больше, чем
вчера, и в ней уже копошится бесчисленное количество гнойных червей. Картина
жуткая, но такие картины заставляют нас видеть мир не таким ярким, как нам его
раскрашивают.
Такая
падаль (за два часа прогулки я их встретил три: кошку между рамами окна
заброшенного подвала; свежую дохлую крысу и еще какую-то тварь) заставляют
задуматься шире и глубже, а также поверить в нечто высшее, идеальное.
Милая
Кора, я сейчас далеко от тебя и нахожусь в моей родной «осляндии». Смеешься? Но
сейчас мне не до смеха. Приехал я на родину, богатую ослами и мешками (помнишь
эти мои слова), а мне здесь не рады. Только главреж окрылен. Он надеется
показать народу в папахах мольеровские парики. Романтика нашего режиссера на рыхлой
почве. Это особенно хорошо понимает директриса театра. Ей не до идей в
исторических одеяниях. Четыре класса образования вполне достаточно, чтобы
осрамить Мольера.
Исполнители
мои – это смех и слезы.
Столяр
непременно хочет выпрямить французскую лестницу. Он и слышать не хочет о
Франции, о XVII веке. А портниха хочет шить воротники и костюмы только
спереди (сзади не видно), а мою затею – сделать вместо писаных декораций
рельефные – все освистали, как невозможный миф. Но этот миф исходит от старого
декоратора театра, который нашушукал всему коллективу обо мне, как о самом
неудачном моменте в истории их театра. Но мир не без добрых людей. Слава Богу,
уборщица помогает набить песком 30-метровую кишку – кайму для переднего
занавеса. Я – как Лаокоон, и моя уборщица отгоняет своей метлой любопытствующих
увидеть эту скульптурную композицию, ожившую на сцене национального театра. У
доброй уборщицы, кроме доброго сердца, имеются еще и умелые руки. Она во всех
шашечных турнирах выигрывает призовые места, а актеры, несмотря на весь шум
войны за Мольера, хотят обогнать их соперницу. Наверное, обо всем этом и об
этой достопримечательной уборщице театра, тебе рассказал Кент.
Милая
Кора, письмо получилось менее привлекательным и совсем не деловым. То, что ты
просила, я выслал отдельной почтой и посылал их, скрепя сердце: я лезу в чужой
огород и ожидаю камня, обо литература – это твоя стихия, и поэтому я очень
боюсь за свою голову, а мое сердце будет через несколько дней у тебя в руках.
Страницы
биографического текста и письма я выслал без исправлений, как ты об этом
просила. Обнимаю тебя и Москву. Твой Наби».
В
тот день, когда Кора смеялась над незадачливыми работниками театра, Мелентьев
Юрий Трофимович остался без обеда. Он читал письмо художника.
«Я
пишу эту исповедь, не найдя другого способа дальнейшего существования, как
художник. Страдания Ван-Гога – пустой звук с тем, что я терпел и терплю по сей
день. Жить в частных квартирах, без туалета, без света, и почти впроголодь, и
творить лучшие образцы радости – это и подвиг, и чистое безумие. Лишившись
родителей, будучи еще ребенком, достичь того, что я имею в живописи – это дух
моего народа, дух моих воспитателей, дух высокого идеала и высокой
нравственности.
С
детства я ел манную кашу и пел русские песни, и не удивительно, оказавшись в 17
лет в столице, я полюбил ее на всю жизнь.
Мои
картины – это цветы, выращенные великолепием Москвы. Жар моей крови и чистота
замысла именно в тех полотнах, где я мог сказать о своей влюбленности в город
славных традиций, город света, цвета и тепла. Лучшие образцы моего вдохновения
– те картины, где я говорю о Москве.
Я
никогда не забывал о наследии и уроках прошлого русского и мирового искусства.
Когда мои полотна называют непонятными по форме, это вовсе не означает
необходимость повесить их неудачно или снимать с экспозиции накануне открытия
выставки, или давать экспозицию на краткий срок. Это наблюдалось на последних
выставках.
Новаторство
не есть причина незрелости или отсутствие мастерства. Новаторство не есть
достаточное основание говорить об увлечении лишь техникой.
Живопись
была моим отрочеством, моей юностью и зрелостью моей и никогда я не поверю
словам, что мои вещи будут не поняты народом.
Сегодня,
когда я оказался между двумя конями, я переживаю небывалый подъем моего
дерзновения и небывалый спад в житейском плане.
У
меня больше нет сил на лишения, перед которыми я оказался по вине, изложенной в
моей печальной и дерзкой повести…»
–
Что сказал бы Луначарский, попадись такое письмо на его рабочий стол? Футуристы
и всякие парижские кривляния, конечно, были бы ему по вкусу. Но в душе все-таки
он был старый эстет. Недаром он так любил Ренуара, обожал его вещи. Моя жена
тоже сантиментальна. Недаром училась в консерватории. Ей понравятся эти
эмоциональные вопли, и даже растрогают некоторые куски, и она скажет: «И это в
наше время! В мире все-таки остались тонкие чувства…» – и набросится на меня,
говоря: «Не то, что ты, неудачный шишка!»
Парень,
видать тронутый, а впрочем, нет. Скорее, его подводят собственные эмоции…
Письмо
написано простым стержнем, и не за столом, а в саду. Вижу вмятины и эту зеленую
грязь на левом углу снизу, пятно от какой-то маленькой садовой букашки… Ах, как
хорошо на юге, много садов и солнца!
Какая красота, когда миндаль цветет и персиковые деревья в цвету… Неописуемо! А
сочный инжир глубокой осени? И зачем этот олух стремится в наш каменный мешок?
Мне бы его годы, я бы плюнул на это кресло, смахнул бы эти бумаги со стола и
скрылся бы далеко в горах… Однако я замечтался.
–
Людмила Сергеевна! Попросите ко мне нашего эксперта Шлапика Валентина Петровича
и инспектора по искусству Милиовани.
Что
могут сказать эти наши неудачники, наш главный художник и эта грузинка,
искусствовед? Тоже застряла в Москве, в этом большом склепе. Грузия – чудеса,
гаммы, кипарисы… Однако сегодня я не узнаю себя. Письмо этого сумасброда
заставило меня удариться в воспоминания. И я мечтал когда-то о «славе и горячей
котлете». И я хотел быть великим, быть вторым Достоевский. И все рухнуло, когда
встретил свою царевну-лягушку, царевну Клару. Женитьба, а там продвижение, и
кресло министра, благополучие и это пузо.
А
где мои юношеские страницы, бессонные ночи, ночные бдения по каменным коридорам
Ленинграда, по лестницам и маршам Достоевского! Все кануло в прошлое, как сон,
как страстный юношеский поцелуй.
А
впрочем, я доволен… Искусство в наше время слишком хлопотливое дело. Нынче и
художники стали «белыми воротничками» и зашибают деньжата не меньшие, чем моя
чиновничья зарплата. Этот Наби с его двусмысленной фамилией, не внушил ли себе
своим больным воображением, что он в «лесах» Данте?
***
Недавно
я поселился в квартире с множеством соседей. Хожу, как мышь, стараясь не
попадаться на глаза кошкам, под их хищные взгляды. При чем тут кошки? О,
проклятая рукопись! Я так измотался последнее время от этих сумасбродных
воспоминаний, странных посвящений. Зачем я тогда сказал Коре: «Пиши обо мне, и
ты прославишься». Какая глупа просьба. Глупее не придумаешь. И теперь Кора села
на меня и требует какой-то материал. Собрала бы материал после моей смерти. Или
она серьезно верит моему обету – жить сто лет. О, моя наивная подруга, моя
сирена! Верить всякий чуши художника, моему больному воображению и моим
выдумкам – значит подвергать себя уничижительной роли плохой актрисы. Я ищу
партнершу по игре, потому что мне скучно. Я хочу, чтобы ты писала, рисовала,
пела, танцевала. Не ты, так другая. Мне нужно зеркало, в котором отразилась бы
моя деятельность, и твоя, и Кента, и неизменной Антисы, и Апполона молодого, и
Андрея из Ростова. Видишь, какой я интриган и игрок!
Зачем
мне эта писанина, если она хочет узнать все обо мне, а не только видимое. Милая
Кора, а я знаю себя? То, что излагаю факты, которые ничего общего не имеют с
моим нутром, – это внешние события, если и играют какую-то роль, то не имеют
никакого отношения к моей душе.
Итак,
по вине собственной ямы, я впрягся в
чужой мешок и моим оглоблям тяжело нести не свой груз.
Литература,
о, какое ужасное, нудное ремесло. Особенно проза. Поэту Раундову, кумиру моего
друга Кента, я немного завидую. Поэзия – это ремесло редких мужчин. И пусть его
стихи на котурнах, а на лице – маска: брови вверх и широко раскрытый рот,
полный декламациями; но все же он поэт. Он бы одной строкой сказал о своих
друзьях больше, чем все мои кривляния пером на этих страницах.
Мои
друзья… Кстати. Давно их не видел. Надо их расшевелить.
Кима
я увидел ровно год тому назад. Правда, зимой мы встретились снова, но произошло
это совершенно случайно.
Я
стоял среди богемных «стариков» на выходе станции метро»Белорусская». Ждали
запаздывающих юнцов. Кругом народ, лязг машин, гудки электричек, смех и шум. И
на этом фоне я увидел Кима. Вскоре к нам присоединилась еще одна молодая пара.
Это мои друзья Антиса и Апполон. Они всегда, везде и всюду запаздывают. Антиса
шагает впереди Апполона, как амазонка, гордо, величаво, как на гнедом красавце.
На ней широкополая шляпа боа-боа, золоченые сапоги-макси, в которые заправлены
фирменные джинсы. Молодая пара останавливается около нас. Напротив меня. Я
говорю Антисе:
–
Антиса, тебе не хватает коня.
Она
смеется. Она знает, что улыбка украшает ее. Прежде чем ответить, Антиса
выпячивает правое плечо вперед, поднимает голову, вернее бросает ее выше левого
плеча, давая хороший ракурс воображаемому репортеру, обнажает шею, показывая
всю ее длину, удлинившуюся за счет неуравновешенности плеч.
У
меня нет запаса слов, чтобы передать все искусство изгибов, каким обладала наша
Антиса. Бездарный писака и то лучше писал бы о ней, ибо сама Сара Бернар
училась бы у нее искусству поз и позирования. Правда, Кент, когда
фотографирует, предварительно мучает ее требованиями, поисками каких-то
«живых», «естественных поз».
–
Это не театр. Ты мне демонстрируешь себя, как на сцене, как бездарная актриса…
–
А что же я должна делать?
–
Жить.
–Я
живу.
–
Живешь в театре…
–
Жизнь есть театр, все живут и присутствуют в театре.
Далее
философия, капризы, женские пассажи.
Недалеко
от нас стоят Кошкины. Один из них листает страницы скучного учебника по истории
муз. Другой же восторженно соблазняет его окружающей красотой: «Смотри, какой
он красивый нынче, наш Наби…»
–
Вижу, – отвечает брату, не поднимая своих светоносных глаз.
Я
в недоумении: неужели мой лик уже в академической книге по теории искусств.
Ему
плевать на новоявленного бородача: Ким-то знает, что я болтун и пустозвон.
Снова
меня увели дебри воспоминаний – удел одиночества и одиноких. Зачем мне
понадобилось столько раз увидеть Кима Кошкина. На что он мне со своей пасмурной
физиономией в этом солнечный день.
Друзья
мои, перелистайте одну или полторы страницы, и вы найдете, что ответила Антиса
мне, человеку серьезному, доказательством чего является моя седая борода. Но
что же?
Я
слышу ругань в мой адрес: я послал вас за ответом моей госпожи, которая держит
меня в плену на этих страницах. Я прошу всяческих поношений, ибо я их заслужил,
и уже слышу злые упреки:
–
Писал бы проще, без живописаний, как «сияние», «лучезарные блики».
Писал
я, меньше всего думая об успехе,
автографах и прочих ярлычках тщеславия и других человеческих слабостях. Я вышел
из этого возраста. Поэтому и страдаю бессонницей.
–
Только потому, – отвечает мне поэт Раундов.
–
Может быть. Очень даже возможно.
Я
пишу такие длинные подробности. Опуская мелочи и всегда неудачно, потому что
всё – не вовремя. Недаром я ругаю Кима за это, а вы – меня.
Я
сам вернусь назад, к моей молодой царице. Увы, который раз!
Она
мне сказала тогда:
–
Вот мой конь, – и показала на Апполона, а ее «конь» смеется и подает мне свою
большую, теплую, румяную руку.
Теперь
вам не ясно, по поводу чего я сказал Антисе: «У тебя не хватает коня», – а вы
не намерены больше рисковать, идти назад, а стремитесь все вперед, быстрее закончить мою писанину, лечь
и скорее заснуть.
Я
сказал о коне без задних мыслей, сказал потому, что увидел на Антисе шляпу
боа-боа, сапоги-макси и модные джинсы. О походке ее и грации я писал раньше.
***
«…Только
поэт может провозглашать деньги как свободу. Деньги – свобода только в
уникальной ситуации, при ситуации Сезанна. Этому может служить и кошелек, набитый
деньгами. Таких наследников и набитых кошельков найти не так-то легко, а
потому, мой друг, нашему брату остается подставить свой горб, подобно ослу, у
которого вознаграждение – охапка сена, а нам – связка моркови, и то – не
всегда, и идти своим путем, путем «интеллигентного пролетария».
Только
поэт, и притом не из тщеславных, может тешить себе свободу, как приманку для
юнцов с повышенным воображением: гастролировать в погоне за деньгами – это в
духе всадника без головы или метателя искр из-под подков чужого коня.
Ты
вполне можешь быть свободным: мой конь не из быстрых и к тому же без седла.
Зачем такое неудобство, когда тебе предлагают коня на славу!
Было
бы у меня что-нибудь, кроме счастья быть творцом? Именно это тронуло бы тебя во
мне и мне хочется поверить именно этому. Материальная нужда не есть залог для
несчастья…
Я
вернусь к своей независимости. Пусть будет тяжело. Пусть буду один. Для меня
независимость есть свобода, дружба или деньги, если они обязывают к службе, то
это не по мне…»
Наши
отношения незаметно изменились. И все это оттого, что я иду за поэтом. Ну и что
из того, что я восхищаюсь Ксантри. На что он дуется. И зачем этот театр,
интриги, странные письма…
Ушел
от меня, как будто он там нашел покой: шум трамваев, сплетни соседей, мрачный коридор
и уборка общественной уборной… У него больше нет никаких причин для славы, а
для других благ он не создан.
Потому
наша дружба становится под крупным вопросом. Если я не иду на разрыв сегодня,
то это не означает, что я этого не сделаю завтра: просто надо в этом убедиться.
Но очень жалею, что этого я не сделал
вчера.
После
возвращения с юга он поселился у меня. Я достал раскладушку, белье, одеяло, и
мы ложились в одно и то же время. Какие ему снились сны, не то, чтобы не
интересовало меня: просто я всегда спешил. Вначале все шло хорошо, и очень
скоро я стал улавливать какие-то слова, интонации. Чем-то ему не нравится
здесь. А чем, Бог его знает. Воздух чистый, отдельный ход и нет никакой уборки…
Рисовал бы себе и ходил по лесу. Если сам что-то выдумывает, ищет себе грязную
работу, то в этом виноват только он сам. Как-то я грубо ему возразил, но он
сказал вежливо: «Ты не за тем приехал, чтобы мыть грязную посуду или грязный
таз. Этого я у себя не потерплю». – Или что-то в этом роде. Ну что из того? Христос
своим ученикам мыл ноги… Сам сказал!
А
в другой раз он совсем замолк, или говорил, но как будто не со мной, глаза
отводит в сторону. Обида какая-то или печаль? Откуда я знаю. Я накинулся на
него тогда со всякими словами, а он молча проглотил всю мою желчь и ненавистной
мне замедленной речью говорит: «Спи лучше… Поздно». Так, мат вертелся у меня на
языке, но он погасил свет. Странно то, что заснул я сразу.
Затаенный
его характер стал раскрываться в новом свете. Обидчивость удручала меня больше
всего. На что ему обижаться? Без меня он не вылез бы из своей крепости, а кто
бы дал ему на хлеб да на чай… Знаменитые покровители и друзья показали ему
спины. А виноват в этом только он сам. Никогда не бывать ему среди нас. Слишком
гордится. А собственно, чем? Пусть говорит мне Евангельские изречения: «Лисицы
имеют норы, птицы небесные – гнезда, а сын человеческий не имеет, где
приклонить голову»; или пусть знает, что Учитель входит в жизнь, а не проявляет
«обывательства», а как он раскричался из-за холстов у Антисы и Апполона.
Обращался
он ко мне и прежде: «Как у тебя с деньгами?» Признаться, меня тошнило от его
такта, аристократического тона. Сказал бы просто: «Дай мне денег и столько-то»,
– как это делает Антиса. Позже, когда я узнал от Бисера, что он за бесценок продал
золотое обручальное кольцо, я понял, как ему жилось в момент нашей ссоры. Еще
рассказывал мне наш курчавый гений, как Наби в два часа ночи бежал с дачи. Я от
души хохотал, когда узнал, что мой друг вернулся обратно тем же путем, с теми
же вещами, но к рассвету. Летние ночи так коротки!
Да,
это на него похоже: ни гроша нет, а он барона изображает… Вот это нехорошо,
скверно, что он так неумело живет. Сейчас то же самое: живет на гроши… Надоели
мне его фразы: «Успех в жизни не есть успех в живописи», или «Сезанн миллион
потратил на живопись…»
Все
это – в самооправдание. Не действует, не так действует. И сейчас мы едем туда,
где можно найти покупателей, а он опять – на Библию, на торговлю и торгующихся
в храме… И дуется на меня.
Я
разговариваю с ним, но разговор не идет дальше его ушей. Где-то, может быть, он
и прав, но он отстал, меряя современность своими мерками. Ни его пресловутая
«уникальная ситуация», ни чужие изречения, пусть даже из Библии, не могут быть
оправданием нищеты. Я иду за поэтом. Я люблю смелых и решительных людей. Пусть
он едет на своем старом коне и пусть это путешествие напомнит ему библейский
сюжет, путешествие в Иерусалим и произносит при этом: «Не бойся, дщерь Сионова!
Се царь твой грядет, сидя на молодом осле».
И
зачем ему понадобился новый спор, новые враги? Это уж совсем глупо. Мы приехали
в эту квартиру по делу, а не ссориться и спорить. Нет, не умеет он жить. Вот он
посреди зала изучает нас, как картины. Ну и что, что в картинах нового течения
сны, болезни, орнаменты, голые женщины, половые органы, черепа, смерть,
разложение. А ты учись у них, учись, если не у них, так хотя бы у нашей Антисы,
как она учится у них. Вот она перед тобой, и ты сам видишь, как она
взволнована. Лучше бы она не надела это светло-зеленый атлас: лицо ее – алое, и
даже шея – алая. Смотри, как она сравнивает, противопоставляет, измеряет ширину
и формат своих картин, ищет место, где повестить, где повыгоднее показать свои
черепа, портреты, сексуальные стопы, поп-арт, композиции из засохших трав,
лимонных и апельсиновых шкурок. Ты же все это помнишь. Ее картин стало больше,
с тех пор, как ты ушел. Опять ссора, а с ними-то за что? Кто ты для нее:
красавец мужчина или Илья Глазунов? Антиса знает, кого обругать и кого
полюбить. Кора еще сюсюкает с тобой и отмеривает шаги к тебе. Что она нашла в
тебе? Странно, что ее здесь нет. А впрочем, ей не до живописи. Она ушла в твои
дебри и там, наверное, в них копается.
Раундов
и здесь свой человек. К нему со всех сторон протягивают руки, блокноты, книжки,
губы, объятия. Учись у него. Каков успех! И где бы он ни появлялся, везде
восторги, везде радость… Раундов знакомит нашего бедного Наби с главным
художником авангарда Горцуевым.
–
Вам нравится здесь? – спрашивает Валериан.
–
Да, – сухо отвечает Наби.
–
А картины?
–
Не очень.
–
Потому что ты судишь с позиции старой школы, сравнительной школы… Стариков.
–
Нет. Это не так, и не так все это просто.
–
С позиции добра? – спрашивает издевательским тоном Валериан.
–
А вы с позиции зла?
Узнаю
Наби. Опять за свое.
–
Все в мире – зло. Добро есть зло…
–
На этом вы ставите точку?
–
А вам нравится «если»?
–
Вы говорите о том, что скучное стало интересным, а интересное – скучным.
–
Интереснее снов, болезней, секса нет ничего в мире…
–
А жизнь?
–
Жизнь есть насилие, жизнь есть сон… Сон есть жизнь…
–
Болезни, убийства, разврат – тоже жизнь, но я – за здоровую красоту.
И
тут на Наби обрушивается Антиса, настроенная на красноречие, нападает на его
живопись, на его старые взгляды. Я радуюсь. Так ему и надо! Меня он не слушает,
слушай хотя бы их: Антису, Апполона и нашего великого Раундова. Трио молодых
солистов поют дружно и громко: переливы, трели, скрипки – это они говорят о
своих бабочках, цветах, фавнах и, конечно же, о сюрреализме, попизме,
кинетизме, дивизионизме и вдруг – гром, каскады грязи, молнии, водопады из
помоев. Все это льется на седую, на лысеющую голову бедного моего друга. Он
повержен. Его слова о солнце и здоровой красоте потоплены. Теперь солнце,
здоровье показались мне никчемными погремушками, годными для композиций Антисы
и ее котят.
Наби
подходит к окну, хватает ртом мороз, проглатывает холодный воздух и оживляется.
Я
– о живописи, они – о грудях; я – о Сезанне, о яблоках, они – о деньгах. Так
тебе и надо, дураку; в душе – мгла досады и горького разочарования, а кругом –
вечерние огни, машины, люди…
Здесь
я когда-то потерял ключ, а здесь переулок, где некогда жил. Шагаю дальше, в
парк, к кустам сирени. Они ждут весны, они отдыхают…
Да,
прав же Апполон: я не поумнел за свои 35 лет, но в 20 лет я был гораздо добрее.
Холодный
ветер продувает меня насквозь: старое пальто больше не греет мое измученное
тело…
Да,
ты прав, мой Апполон, я в нем похож на одессита. Но в несчастье моем есть
высший смысл, ибо в вас нет сострадания
ко мне, а для вас нет пощады от моей чистоты. И только поэтому вы изливаете на
меня грязь, как можно черней. Я чист, чист не в вашем понимании: я не вхожу в
чистоту, я пребываю в чистоте, я – сама чистота. Ваша забота – омовение, но дай
вам Бог смыть вашу самость, рожденную в нечистотах.
Истина
глаголет моими устами, а вы – младенцы. Никакая ваша жизнь не может свернуть
меня с пути, не вами замеченного, не вами проложенного. И не погасить вам вашей
любви ко мне, зажженной от моей любви к вам. Но с любовью ко мне в вас
рождается и ненависть, и не только: рождается непонятный и не понятый вами
восторг, и только поэтому отвергаете меня как радость. Но радость ваша –
земная: вы хотите утолить ее любо телом, либо яствами; когда не находите
способа утолить ненасытную похоть ваших глаз, ушей, рта, тогда в вас рождается
высокомерие, а ваши речи от собственного высокомерия, точно змеи, душат вас же
самих.
Я
ухожу от вас спокойно, шагами удаляющегося бога, покорного своему величию и
замыслу: ваш замысел – дерзок, но он же – гадок: я – среди вас, но посредине
вас теперь – не я. Не встали вы, одни – по правой руке, другие – по левой,
пожиная райские плоды на вашей земле. Я стал яблоком вашего раздора, и его не
поделите меж собой никогда, ибо солнце – неделимо. И потому, решая собственную
судьбу, не знаете, как быть вам со мною. Двадцать четыре руки гонят меня справа
и столько же рук – слева, но не слева направо и не справа налево, а прочь,
дальше от себя.
У
вас оставался один, всего один шаг до чистоты, а вы предали; вас подвела не
торопливость ваша, вас подвело торопливое самосотворение, нетерпение в
запоздалом решении самосотворения.
И
это есть ваше предательство.
Сегодня,
когда я вернулся к вам, вы не перестали быть неправыми. Это не только ко мне,
но и к самим себе. Сегодня вы не хотели пускать меня в храм, боялись не
разбогатеть. Вы снова предали. На этот раз себя.
Москва
– Дербент – Москва,
октябрь
1975 г. – май 1976 г.
Нина
Краснова. Послесловие к повести Джавида Агамирзаева
__________________________________________________________________
О
«КАРАМЕЛЬКАХ» ХУДОЖНИКА ДЖАВИДА
(О
повести Джавида Агамирзаева
«Мешочек
из белой бязи для карамели с абрикосовой начинкой»)
...На
вернисаже Джавида Агамирзаева в галерее «На Песчаной» в декабре 2005 года я
первый раз в жизни увидела картины этого совершенно необычного и ни на кого не
похожего художника, с которым меня познакомил в Театре на Таганке Валерий
Золотухин и о котором сказал: «Это мой друг. У меня в жизни было два друга:
Высоцкий и он». Выступая перед посетителями вернисажа, Валерий Золотухин
упомянул о прозе Джавида, сказал, что Джавид пишет не только очень хорошие
картины, но и очень хорошую прозу и написал повесть «Карамельки», а точнее –
«Мешочек из белой бязи для карамели с абрикосовой начинкой», о своем детстве и
о своей юности... Мне захотелось прочитать её, чтобы лучше узнать,
почувствовать и понять творческую сущность Джавида.
...Талантливый
человек, как правило, талантлив во многом, а не в чём-нибудь одном. И тому в
русской и зарубежной истории есть убедительные примеры. Пушкин, Лермонтов,
Гоголь, Гёте, Гюго, Киплинг занимались не только литературным творчеством, но и
живописью, а Микеланджело, Леонардо да Винчи, Шагал, Сезанн, Матисс, Федотов,
Перов, Коровин, Аполлинарий Васнецов, Репин, Нестеров, Рерих, Бенуа, Радимов,
Юон занимались не только живописью, но и литературным творчеством, писали
стихи, поэмы, рассказы, сказки, повести, эссе, мемуары, письма, воплощали себя
и в изобразительном искусстве, и в литературном творчестве (то есть работали и
в своём основном жанре, и в смежных жанрах, которые всегда были взаимосвязаны,
ещё с античных времён, подтверждением чего служит Аполлон и его девять муз).
Поэтому нет ничего удивительного в том, что мастера пера берутся за кисть, а
мастера кисти – за перо. И Джавид, художник, которого знает Москва и Париж, в
этом смысле как бы не исключение. Но он всё же и исключение. Поскольку его
родным языком в детстве был лезгинский язык, а русский стал приобретённым в
школе, а свою прозу Джавид пишет не на лезгинском, а на русском языке, который
стал для него вторым родным языком, на котором он и думает, и говорит (как
Олжас Сулейменов, который пишет не на своём казахском, а на русском, а Чингиз
Айтматов – не на своём киргизском, а тоже на русском).
1.
...В
первых строках своей повести, в книге первой, Джавид советует самому себе
начать её так: «Я рассказал бы красивую сказку, неправду о себе». И
рассказывает читателям всю правду о себе, о своих детских годах, которая теперь
уже похожа на сказку, потому что всё, о чём он рассказывает, было так давно, в
«сороковые-роковые» и пятидесятые годы ХХ века, что об этом в русской пословице
говорится: «Это было давно и (как бы уже и) неправда».
...Джавид
родился в Дагестане, в 1937 году, в лезгинском селе Кабир, и был седьмым, самым
младшим ребёнком в семье, поскребышем. По книге русских народных примет –
седьмой ребенок должен быть счастлив... а был ли он счастлив? обо всём этом
Джавид и рассказывает в своей повести, хорошим русским языком, простым, чистым,
ясным, точным и очень лаконичным, и рисует словами, как масляными красками, и
своё родное село с его природой, пейзажами, наводнениями, и с горой Шалбуздак,
и с его жителями, и своих родных, отца, мать, и сестру отца тётю Мержан, и
своих старших сестёр и братьев, и своих товарищей по школе и т.д., и самого
себя, выступая под именем своего литературного двойника, не Джавида, а Наби. И
умеет в прозе своей создать интересные внешние и внутренние психологические
портреты своих героев и персонажей, показать их характеры, через какие-то
детали и детальки, иногда всего несколькими словами, какими-то чёрточками и
мазками, как на своём классическом «Автопортрете» - в палочковой технике, или
на своих же картинах «Мальчик с яблоками» и «Девушка со звездой» - в контурной
технике, или на картинах «Отрок Иоанн Московский», «Дмитрий Ситников» и
«Соломея» - в точечной технике.
...Джавид
рано лишился отца и матери, рано стал сиротой. В конце концов все мы
когда-нибудь становимся ими, но кто-то – в пятьдесят или семьдесят лет, а
кто-то – в пять или семь лет, а кто-то – ещё раньше.
...Мать
у Джавида была из княжеской раскулаченной семьи, работала в поле с утра до
вечера, жала рожь серпом, косила траву стальной косой, возвращалась домой
всегда «поздно вечером, с огромной ношей на спине, с горными травами для
буйволицы» и всегда приносила Джавиду «то птенчика из разрушенного кем-то
гнезда, то перо куропатки пёстрой, то букетик маков алых». Как-то раз вместе с
цветами она дала ему «кусочек чёрствого хлеба», который сберегла для него от
обеда в поле, оторвала от себя. «Я посмел спросить (у неё) тогда: «Почему так
мало?» - «Война, сыночек, война».
...Разные
писатели описывают войну по-разному. Некоторые пишут целые романы-эпопеи о
войне, Лев Толстой, Ремарк, Хэмингуэй, Виктор Астафьев. А Джавид написал о ней
свой короткий диалог с мамой, одну страницу, и в этом диалоге показал войну
глазами ребёнка, у которого некое ненасытное чудовище из некоего мифа или из
былины, злой дэв о девяти головах, злой джинн по имени Гитлер, отнял хлеб и
счастливое детство:
«
- На наши поля напала саранча Гитлера и погубила наши хлеба, опустошила наши
поля, - говорит мама ребёнку Джавиду-Наби. - А что такое Гитлер? - Гитлер – это
чудовище, злой дэв, и наши мужчины пошли убивать его... - Когда же убьют его? -
Очень скоро... Восемь голов он уже потерял, осталась одна, самая большая... И
хлеба будет снова так много, сколько ты захочешь. - И булки будут? - И булки
будут белые. - И калачи будут? - И калачи будут с румянцем... - И пряники будут
мятные? - И пряники, и сласти будут всякие...
Я
точно не помню, эти ли слова сказала моя мама, и в таком ли порядке говорила
она, как я написал здесь, но точно помню, говорили мы (с ней) о хлебе белом, о
калачах румяных, о пряниках мятных, потому что грыз я тогда засохший кусочек
чёрного хлеба» (который состоял «то ли из опилок, то ли из камня»).
...Джавид
не помнит лица своей матери, а помнит только её руки, которые «всегда пахли
травами», и её тихий голос, и её бусы янтарные, и её серьги серебряные, и её
кольцо золотое, а лица не помнит. И очень жалеет об этом, и как сын, и как
художник, который теперь хотел бы нарисовать её лицо, а не может. Строки о
матери в повести Джавида – это печальнейшие стихи в прозе, тихий плач сироты,
песня-молитва со слезами, перед размытой иконой матери своей, перед
облупившейся фреской, на которой почти ничего нельзя разглядеть:
«И
сейчас я слышу тихий голос мамы, вижу её руки, только лица не помню. Об этом я
очень жалею. Жалею особенно теперь, когда стал художником. Какой же я художник,
если не запомнил лицо родной матери? Помню руки. Ими мама часто закрывала своё
лицо. Плакала она часто. Плакала из-за меня?.. я не знаю... Мама, прости: я не
запомнил твоего лица. Мог ли (я) тогда
догадаться, что не увижу тебя больше, потеряю тебя так рано? Я думал... так:
мамы рождаются вместе с детьми и умирают вместе с ними. Ещё я думал, мама, что
ты на свете самая молодая, а умирают не молодые мамы... ...запомнил (я) тебя
без лица (твоего). Помню полумесяц твой зубчатый (серп, которым она жала рожь в
поле), косу помню стальную... Бусы помню твои янтарные, серьги помню
серебряные, кольцо помню золотое, а лица не помню...».
Столько
души вложил автор в этот свой плач, в эту свою молитву, и такие трогательны
слова, с такими трогательными интонациями нашёл для своей мамы, с которой он
разговаривает в своей повести, что это не может не волновать читателей, а меня,
например, волнует до слёз.
...Отец
у Джавида был председатель первого колхоза (кстати сказать, и у Валерия
Золотухина тоже), «первый коммунист села... один из двадцатипятитысячников».
Когда Джавид вспоминает своего отца, он вспоминает шинель, которую носил отец и
которою он был покрыт, когда умер: «Последний раз я увидел своего отца,
покрытого шинелью, в изголовье (у него) лежала папаха с красной лентой» в углу
(комнаты) стояло «красное знамя с чёрной каймой».
...Тяга
к литературному творчеству, как и тяга к живописи, появилась у Джавида с малых
лет. Она появилась у него, может быть, оттого, что он рос в детском доме и
чувствовал себя там одиноким и заброшенным и никому не нужным, и ему хотелось
излить на бумаге всё, что было у него на душе, всё, чем она болела. И он писал
письма своему старшему брату, который пропадал Бог знает где, в каких краях, и
которому было не до него, как и всем. О чём Джавид потом и написал в своей
повести:
«Я
рос один, редко с кем дружил; кровожадные забавы мальчишек ничуть меня не
забавляли, и хвастаться мне перед ними было нечем: драться я не умел, проворно
бегать и прыгать – тоже; рос отшельником, скучал среди своих сверстников,
чувствовал себя чужим, заброшенным, одиноким; старался держаться от них
подальше, на расстоянии; хотел быть один, наедине с тобой и писать тебе свои
письма без конца и начала; хотел поделиться с тобой всем, чем болела (моя)
душа, всем тем, что (я) увидел и услышал в селе. Таким образом, я, маленький
школяр, превратился в «большого летописца», в сельского хроникёра».
Джавид
писал не только письма, но и стихи, и рассказы, и сказки... записывал их в свои
тетради, и сны свои записывал, и это было для него в какой-то период даже
«гораздо увлекательнее», чем рисовать кистью гóры, домá, он писал
пером, чернилами словá, только слова, а видел за ними «целые картины».
«Словами я рисую лес, словами рисую цветы...», пишет Джавид в своей повести. И,
надо сказать, это у него получается не хуже, чем кистью и масляными и
акварельными красками.
...Джавид
любил Пушкина и Лермонтова. И об этом тоже пишет в своей повести:
«Книги
с портретами великих людей настраивали меня на эпический лад; (я) ходил «в
обнимку» с Пушкиным и Лермонтовым: носил их портреты в грудном кармане своего
пиджака... Охотно читал Пушкина и Лермонтова (в переводе), восторгался ими...
поэтов я путал с ашугами».
Его
воспитательница, она же и его учительница по русскому языку и по литературе,
интеллигентная русская красавица из Москвы, поощряла его тягу к творчеству, к
живописи, в литературе и развивала в нём художественно-поэтический взгляд на
мир. «На что похожи абрикосы?» - спрашивала она у него. – «На карамельки», -
отвечал он.
Интересен
его диалог с учительницей, в котором она проявляет большое педагодически-тонкое
чувство такта к маленькому мальчику Джавиду, чтобы не сломать у него веру в
самого себя и придать ему смелости и дерзновенности в творчестве, без которой
ни один художник и поэт не может состояться и реализоваться.
-
И я могу писать стихи (говорит он ей)... - Обязательно напишешь... - Как
Пушкин? - Как Пушкин, не знаю, напишешь по-другому. - Лучше Пушкина? – Лучше,
когда пишешь по-своему. - Как писать по-своему? - Учись у Пушкина... - Как
учиться? Пушкин умер давным-давно! - Пушкин бессмертен...
...Сколько
поэзии в названии повести «Мешочек из белой бязи для карамели с абрикосовой
начинкой». В ней есть что-то от китайской поэзии. Повесть с таким названием не
может быть неинтересна, как и сам художник, автор такого названия.
...Чтобы
лучше понять писателя, художника, надо побывать на его родине. В 2007 году я, в
компании Джавида, побывала на его родине, помогла ему организовать и провести
(первую там за всю его жизнь!) выставку в Махачкале, куда в числе тридцати
картин, он привёз и мой портрет, который успел нарисовать специально для этой
выставки. С нами ещё был наш общий друг, духовный ученик Джавида Дмитрий Ситников, портреты которого тоже были
там.
Джавид
думал, что его земляки, дагестанцы, которые (за исключением нескольких человек)
до этого (со времён его детства) никогда не видели его картин, не поймут его искусство, далёкое от реализма
и традиционализма, но они поняли и восприняли его так, как хотелось самому
художнику. И оно имело в Махачкале такой же успех, как и в Москве, и в Париже.
А значит, он был прав, когда устами своего героя Наби говорил (во второй книге
своей повести) одному ретрограду: «Я не верю, что народ не поймёт моего
искусства».
В
Махачкале есть памятник русской учительнице. И когда я смотрела на него, я
невольно думала, что это памятник русской учительнице Джавида, Марии Петровне.
Где она теперь, эта «русая девушка в кофточке белой»? В могиле?.. Нет, её там
(уже) нет. Там только её прах. Она - в повести Джавида, вечно молодая.
...Джавид
с малых лет любил Москву и Россию и мечтал поехать туда: «Когда (у меня) на душе становилось особенно
тяжело, я мечтал о далёких краях, думал о далёкой России: «Какая она, Россия?
Такая ли вся синеглазая, как глаза нашей воспитательницы из далёкой Москвы?
Говорят,
там нет гор... Это правда? Как это бывает, когда не бывает гор? Куда же
прячется солнце?».
Он
старательно учил русский язык и пел русские песни, «Гуси мои, гуси...» и «Так
сеяли мак...», он пел их везде, где придётся, даже в «мечети», где в то время находился клуб и ковровая
артель.
В
письме своему старшему брату Джавид, он же Наби, хотел объяснить, почему он так
рвался в Москву и так сильно полюбил столицу, и писал ему:
«Мой
дорогой брат... Я хочу быть часовым, хочу стоять на часах у мавзолея. ...Хочу в
солдаты, хочу скорее в Москву, скорее на Красную площадь... (На самом деле он
хотел стать художником, а не солдатом и часовым. – Н. К.)».
В
том же письме он спрашивал у брата, почему Красную площадь называют Красной (я
в детстве тоже всегда задумывалась над этим):
«Правда
ли - Кремль красного цвета? Если нет, то почему площадь называют Красной?..
Мальчишки... говорят, будто Красная площадь потому Красная, что отделана
красным мрамором со дна Красного моря...».
Брат
не ответил ему на это письмо, как не отвечал и на другие его письма. И
Джавид-Наби сам же и отвечал на них, как бы от лица брата, и читал их своей
слепой сестре Инаде. Она от радости плакала. Плакала и его не слепая сестра
Пери, которая знала, что маленький брат сам сочиняет письма от лица старшего
брата и как бы присылает их в Кабир из Москвы и из других городов, из Киева, из
Одессы, но чаще всего из Москвы, и сам пишет в них о Москве, о которой вычитал
в букваре:
«Здесь
очень много людей и машин. В Москве есть метро. Метро – это город под землёй...
ездить можно сколько хочешь и всё это за пять копеек, катайся себе сколько
вздумается, хоть целый день!
Москва
была для Наби, то есть и для Джавида, не «каменным мешком», не «каменным
склепом», как для кого-то, кто не любит её, а Меккой души. Как и для всех
художников, писателей, артистов, которые всегда рвались в Москву, в этот
главный центр русской и мировой культуры, изо всех углов страны, со всех
периферий, изо всех провинций и изо всех других столиц. Как и для меня, кстати
сказать. Поэтому я очень понимаю автора, который так любит Москву. И скажу, что
тот, кто так любит её, тот достоин её. И тому она рано или поздно отплатит тем
же.
«Никто
из нашего селения не бывал в столице, и в народе говорили: «Счастливец, кто
увидел Москву», - говорит Джавид, а его устами Наби...
В
конце концов Джавид и его герой Наби станет таким счастливцем, который увидит
Москву и Россию, и не только увидит, но и покорит, но ещё не скоро, не в
детстве, а в юности, то есть только во второй книге повести.
«У
всех вначале бывает детство», - говорит Джавид.
Да,
детство бывает у всех, а юность и зрелость и старость – не у всех. Кто-то не
доживает до этой поры. А у настоящих художников бывает «долгое детство» и
поэтому не бывает старости, даже и в семьдесят и в девяносто лет.
...Джавид
пишет свою повесть со всей искренностью и откровенностью, как и его друг
Валерий Золотухин свою прозу. И вспоминает, кто в жизни жалел его, Джавида, а
кто обижал. И не щадит никого из тех, кто его обижал. Всех выводит на чистую
воду. И свою тётю Мержан, повариху детского дома, которая забрала у него
посылку с подарками, которую он ждал от своего старшего брата несколько лет и
которую получил от него раз в жизни... спрятала в свой сундук все подарки, и
гребни для сестёр, одна из которых к тому времени уже умерла, и кепку и ремень
для Джавида... хотела и каремель с абрикосовой начинкой спрятать, но потом всё
же сунула ему в руку несколько штук, чтобы он не плакал. Не щадит он и
завклубом Айни, который драл его за уши. Не щадит он и мальчишек, которые
обзывали его «детдомовским вралем». Не щадит он и пионервожатого Джафара,
который во всём завидовал ему и делал ему пакости и подлости. Не щадит он и
своего старшего брата, вспоминает, как тот не хотел, чтобы Джавид стал
художником, а хотел, чтобы он пошел по стопам отца и стал партработником, и,
когда Джавид собирался ехать в Москву учиться на художника, брат дал ему
«оплеуху» и не довёз его до вокзала, до Белиджи, на машине... И Джавид шёл по
дороге «с тяжёлым чемоданом в руках», в котором были книги и картины... Потом
доехал до вокзала в попутной машине, в кузове и стал весь чёрный от пыли, и вся
«белоснежная рубашка» стала у него чёрной, и «чистовымытая шея»... и он боялся,
что его, «такого грязного, как чёрта чёрного», не пустят в Москву...
Позже
брат требовал, чтобы Джавид-Наби написал повесть об их отце, а значит и о них
самих.
-
А ты не боишься (спрашивал его Джавид-Наби)?
-
Кого мне бояться? В Бога я не верю, а людей – чего их бояться?
-
Меня, - сказал я. – Ведь я напишу всё (и о тебе всё напишу)...
-
И напиши... Будет очень даже хорошо... Вот и пиши, как помнишь, как
рассказываешь.
Вот
Джавид и написал всё, как он помнит. А чтобы некоторые герои повести не
обиделись на него, он изменил там их имена, в том числе и своё, как это сделал,
между прочим, и Валерий Золотухин в своих повестях, чтобы никто из его героев не предъявлял к
нему никаких своих претензий и счетов и не обвинял его в том, что он наклеветал
на своих прототипов и исказил их светлые лики.
...Джавид
– в своей прозе не только художник, но и поэт, со своим
художественно-поэтическим мышлением, и со своей системой образов, метафор и
сравнений, которые у него очень естественны и органичны и содержат в себе не
только литературную красоту, но и большую мудрость. Например, когда он говорит
о своих братьях и сёстрах: «Жизнь разбросала нас, как семена, и попали мы в
разные поля: кто в хорошую почву, кто в плохую, теперь мы выросли...» и
получились такие, какие есть.
Или,
например, когда он говорит о кровле своего родного дома и о балке, которая
согнулась, как спина тёти Мержан: «...исхудала наша кровля от дождей и снегов,
изогнулась дугой балка ската нашей крыши, согнулась, как спина тёти Мержан –
вот-вот упадёт, рухнет прямо на голову Инады».
...Много
у Джавида эпизодиков с юмором. Причём юмор у него очень своеобразный, такой как
бы наивный, или точнее - поднаивный, а иногда бывает вместе с тем ещё и
критико-иронический - по отношению к тем, кто выступает там в неприглядной
роли, как, например, старший брат нашего героя. Например, в эпизоде о том, как
поссорились не Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а брат Джавида с их общей
родной сестрой Пери, - из-за курицы, которая
«нечаянно села на машину» брата, то есть на его мотоцикл (на сиденье или
на крыло или прямо в люльку?), «и снесла там яйцо». Брат поставил свой мотоцикл
под навес около дома Пери и около её курятника, а её курица «нечаянно» вон что
наделала. Да это же своя, наша курица, а не чужая, с приколом сказала Пери
этому своему брату. Такого прикола не встретишь даже у Зощенко и у Хармса. Но
брат был лишён чувства юмора и «наказал» Пери (а почему не курицу?), забрал у
сестры свою корову, которую сам же и дал ей... И в результате стал объектом
критико-иронического юмора в повести Джавида.
...О
некоторых героях своей повести Джавид пишет с улыбкой легкого потрунивания над
ними и в то же время улыбкой умиления ими, например, о той же своей сестре
Пери, то есть – по тексту - сестре своего героя Наби, которая «соткала ковёр с
портретом Ленина», «с голубем, с цветами»: «Сестра у меня неграмотная женщина и
всё делает по зову сердца, по велению души».
Здесь
надо сказать, что в Дагестане до Октябрьской социалистической революции не было
такого изобразительного искусства, как живопись, было только прикладное
искусство: чеканка по металлу, резьба и роспись по дереву, ювелирные украшения,
вышивка, и вот ткание ковров с дагестанскими орнаментами, а после революции –
ещё и с портретами вождя.
О
себе Джавид тоже нередко пишет с улыбкой, даже и как бы с легкой насмешечкой,
но и с жалостью к самому себе, глядя на себя со стороны, из своего настоящего
времени в своё прошедшее время, то есть на себя в прошедшем времени, как на
мальчика, который уже как бы и не он, а кто-то другой, литературный персонаж,
Наби.
Например,
в эпизоде с посылкой от брата, за которой Наби идёт в сельсовет. А там
председатель сельсовета, дядя Самед, с золотой медалью на груди, говорит ему:
«Танцуй» (тогда получишь из моих рук посылку). А Наби не понимает, почему он должен танцевать,
разве его хотят взять в танцоры ко дню 1 Мая, чтобы он танцевал на этом
празднике? И Наби стесняется и говорит
«весёлому дяде»: «Я плохо танцую». - «Не важно», - отвечает дядя Самед. «Я, -
пишет Джавид, - совсем застеснялся, потому что (в сельсовет) набежали отовсюду мужчины и женщины, даже уборщица
старая Тевриз оказалась тут, вместо того, чтобы быть в мечети (клуб и ковровая
артель расположились нынче там). Поднимаю обе руки, как бы говоря «сдаюсь»,
закрываю оба глаза, встаю на цыпочки, в исходную позицию «лезгинки», но вместо
барабана и зурны (вместо музыки, аккомпанемента к «лезгинке») слышу смех (всех,
кто был сельсовете): почему-то засмеялись все вдруг. Может быть (Джавид теперь
уже не помнит этого), с меня упали шаровары (резинка ослабла в них давно)...».
Этот
мальчик, о котором пишет Джавид, вызывает у меня как у читательницы жалость, и
я думаю, что и у всех читателей, которые будут читать про него, он будет
вызывать жалость. И не только в этом эпизоде, а вообще в книге.
Джавид
владеет сложнейшим психологическим искусством писателя - вызывать жалость,
сочувствие и сострадание к своим героям. Как умели это, например, авторы тех
книг, которые я любила читать и читала в своём детстве, в Рязанской
школе-интернате (по сути тоже в детском доме), когда училась там, про брошенных
детей, про беспризорников, у которых нет своей семьи: «Маленький оборвыш», «Без
семьи», «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна», «Республика Шкид» и
т.д. Наби – товарищ по несчастью и «маленькому оборвышу» Гектора Мало, и
Гекльберри Финну Марка Твена, и героям «Республики Шкид», и героям книг Чарльза
Диккенса.
Сам
о себе Джавид, он же Наби, говорит, не без смущения и самоиронии, что ему с
детства свойственна «сентиментальная слезливость», я бы назвала её не
«сентиментальная слезливость», а повышенная чувствительность, которая и
помогает ему нарисовать такие картинки и сценки своего детства, которые нельзя
читать без слёз.
...Потрясающе
тонкую художественную деталь использует Джавид, когда описывает сельсовет и
пишет, что увидел там Наби, когда пришел туда: «Сверху улыбался Калинин».
Джавид не пишет, что Калинин улыбался с портрета, который висел вверху, на стене,
обходит, пропускает, убирает все эти фактические подробности, а передаёт только
психологическое воздействие портрета Калинина на Наби и пишет: «Сверху улыбался
Калинин». Все большие люди всегда находятся наверху и глядят оттуда на всех
людей как бы сверху, одни глядят строгими глазами и не улыбаются, а другие вот
улыбаются, как всенародный староста Калинин. Это и хотел сказать и сказал
Джавид, и не только это, а и что-то ещё, что стоит за всем этим и скрыто за
семью печатями.
И
таких тонких художественных деталей у Джавида в прозе очень много, она у него
вся - из таких деталей, которые говорят о том, что Джавид – тонкий и
проницательный художник. И он видит намного больше того, что он говорит прямыми
словами, прямым открытым текстом.
...Повесть
Джавида – это не этнографическая, а автобиографическая книга, хотя имена героев
и персонажей там не автобиографические. Но из этой повести читатели узнают о
Дагестане много и этнографического, и исторического, и то, какой была советская
власть в селе Кабир и что она давала людям, и как называется ящик для муки –
«канду», и как называется образец для ковра – «чешне», и даже то, какие полы
были в саклях – «глинобитные» и «земляные», и вообще узнают много такого, чего,
может быть, не знали раньше. Например, какие обычаи гостеприимства есть в
Дагестане, какие народные традиции, поверья и приметы, какие промыслы –
торговля в Москве яблоками, грушами, сливами и помидорами (впрочем, об этом кто
сейчас не знает?), какие растения - маки, фиалки, татарник, орешник, какие сказки
и мифы, какая религия (если не советский атеизм, то мусульманство), какие
законы предков, по шариату, какой Бог – Аллах, какая нечистая сила – джинны,
дэвы, иблисы, как в Коране... Тётя Мержан говорила, а Пери повторяла за ней:
«Под землёй бывают ад да иблисы, пекло да кости».
Тётя
Мержан, характер которой Джавид показал во всей его полноте, вообще часто
«нагоняла... страху» на своих маленьких племянников: «говорила (им) о чертях, о
«кускафтар» - ведьме с огненной пастью и ещё о каких-то бестиях, рассказывала о
далёких странах, где живут люди с собачьими головами (это в Древнем Египте, что
ли? – Н. К.); запрещала сестре (Джавида-Наби) выливать грязную воду во двор,
когда наступала ночь, и в зеркало глядеть» (потому что это считалось плохими
приметами).
После
всего этого дети боялись ложиться спать. Им было по-настоящему страшно. И они
закрывались дома на все двери, на все запоры, крюки и щеколды, чтобы к ним
домой не проникли никакие черти, никакие ведьмы и иблисы: «Закрываемся на
железный крюк, на щеколду и ещё вдеваем в ручку деревянную палку: так будет
прочнее. Всё это мы делаем, но как быть с мертвецами: как спасаться от них, от
наших ночных гостей в белых нарядах!». С какими ещё мертвецами?! С теми,
которые на кладбище.
«Дом
наш стоял напротив кладбища, которое начиналось прямо за нашим порогом», -
пишет Джавид, макая перо в чернила. У меня «холодок бежит за ворот», когда я
читаю это. И мне становится «страшно, аж жуть!» - как сказал бы друг Валерия
Золотухина Владимир Высоцкий.
...Время
тогда было голодное. Люди в селе Кабир, как пишет «летописец» села Кабир
Джавид, «умирали... по несколько человек в день: женщины, старики, дети... Надо
жить... А как? Как выжить?».
Как
выжить маленькому мальчику, сироте, который остался на попечении двух
полуголодных, двух беспомощных сестёр»? А детского дома тогда ещё в селе не
было. Джавид, он же Наби, шёл на кладбище, «к свежей могиле, к старым
могильщикам, просить у них еды. «Не считай, что я ходил (к ним) попрошайничать
– я просто хотел есть. Могильщики приносили с собой на обед варёные яйца и хлеб
из серой муки. Они ели, разбивая скорлупу о свежий надгробный камень» (вот
деталь так деталь! такую деталь, которую подбросила Джавиду сама судьба, ни
один фантазёр, ни один гений не придумает, не сочинит! – Н. К.)... И могильщики
делились с Джавидом своей едой. Один из них «жевал долго, как старый верблюд»,
потому что он и был старый и сам уже глядел в могилу, как те мертвецы, которых
он каждый день закапывал лопатой в могилы.
...Очень
страшную историческую правду показывает в своей книге Джавид, правду о своей
жизни и в связи с этим (неотделимую от его жизни) правду о жизни своего села
Кабир в сороковые-пятидесятые годы. И когда он в шутку называет себя
«летописцем» своего села, мне как читателю, который прочитал хотя бы несколько
страниц Джавида, это не кажется шуткой.
...Джавид
как художник любит чистые, не смешанные цвета и краски и использует их и в
своей живописи, и в своей прозе. И проза у него получается такая же яркая, как
его живопись.
Например,
в этом отрывочке, в письме, которое маленький герой – в повести он не Джавид, а
Наби - пишет сам себе и двум своим сёстрам, Инаде и Пери, как бы от лица
старшего брата:
«Я
в Москве, это очень далеко. Здесь очень холодно, а у нас (в селе, в Дагестане)
тепло... Во сне вижу вас и наше село... Скоро приеду с подарками. Инаде привезу
белую косынку в синий горошек, Пери привезу белые туфли на высоких каблуках, а
Наби привезу карандаши цветные...».
Все
цвета здесь светлые, а жизнь у Наби и его сестёр – беспросветная, и на её фоне
ещё ярче воспринимаются светлые цвета письма – светлые мечты Наби и его
сестёр.
А
когда брат прислал им всем посылку, там оказались «черный гребень», «белый
гребень», «голубая лента»... А на постели у сестры было «красное одеяло» и
«чёрная змея»... А Наби носил «пояс с серебряной чеканкой».
В
другом месте повести Джавид говорит о том, что он любил играть «неотточенным
карандашом, чёрной палочкой»: «Мне нравились золотые буквы, как они играли на
чёрном лаке; читать я тогда не умел». Золотые буквы на чёрном лаке карандаша...
Это только художник может запомнить и только художник может показать своим
читателям, какой у него был карандаш в детстве.
Все
эти цвета, «цвета детства», которыми Джавид раскрашивает свою повесть, как
мальчик раскрашивает свои рисунки карандашами и красками, играют в повести
каждый свою роль, так же, как и в живописи.
...Очень
много в повести Джавида таких подробностей его жизни, которые совпадают с
подробностями жизни Валерия Золотухина в его повестях. Я не буду перечислять
их, каждый читатель пусть найдёт их сам, я скажу только об одной из них.
Валерий Золотухин в детстве получал от своих односельчан «мзду» за свои песни:
яичко или пирожок... И Джавид за свои картины, которые он рисовал масляными
красками, – тоже: «За картины платили мне не деньгами. Брал я разные сладости:
халву, конфеты, пирожки; но стеснялся, когда мне давали носки, носовые платки и
другие вещи; стыдился».
Вот
ещё одна подробность. Валерий Золотухин с детства страстно любил театр и любил
выступать на школьной сцене, и Джавид – тоже. И даже играл главные роли в
школьных спектаклях, «Периханум», «Мост дружбы», причём в основном роли
любовников, влюблённых в своих возлюбленных: «Я совершенно не понимал, что
должен делать влюблённый в жизни, но я отлично понимал, что на сцене он должен
быть красавцем. Поэтому (я) не жалел акварели для своих губ, глаз, бровей и
щёк» (разрисовывал себя красками, чтобы быть красавцем). За что и поплатился
как-то раз от своего ревнивого соперника, пионервожатого Джафара, который прямо
на сцене ударил его палкой по спине, и не бутафорской, а самой настоящей, и
ударил по-настоящему: «Всем понравилось,
как я натурально упал, схватившись за бока и заорав, как в жизни; им было
невдомёк, что поднимусь я не так скоро, как положено по сцене, как
полагается... молодому любовнику. Поднялся я только через месяц в районной
больнице». Так Джавид стал жертвой искусства, которое требует жертв.
...Сладким
символом горького детства у Джавида стали карамельки с абрикосовой начинкой,
которыми его угощала то тётя Мержан, то ещё кто-нибудь, какой-нибудь дядя Абас,
столяр, который часто заходил к ним в дом и который сделал им «рамы для... окон
и на дальней веранде зимнюю уборную соорудил», а то директор магазина Кардхан,
стены которого Джавид разрисовывал своими «художествами», как и сейчас это
делают некоторые мальчишки в Москве и в Рязани и в других городах,
разрисовывают своими каракулями стены домов и гаражей и бетонные заборы.
И
когда Джавид, Наби, писал письма брату и просил у него «для себя... морскую
форму, а для сестёр – носки из капрона и гребешки для волос», то он «не забывал
просить и конфет – карамель с абрикосовой начинкой...».
Эти
карамельки разбросаны, рассыпаны у него по всему тексту повести. Они делали
жизнь Джавида более сладкой, не такой горькой, какой она была. Поэтому он и
назвал свою повесть «Карамельки». Он и сам угощал ими кого-нибудь.
Кстати
сказать, у Валерия Золотухина сладким символом детства в его жизни и в его
повестях были тоже карамельки, конфеты «подушечки», которых сейчас кондитерские
фабрики почему-то не выпускают.
...В
прозе Джавида есть такие картины жизни, которых не выдумает самый ярый
сюрреалист с самой изощрённой фантазией. Например, картины весенних половодий и
наводнений в селе Кабир, во время которых из реки в село приплывали полчища
«самозванных гостей, скорпионов противных», которые плыли «отовсюду, из-под
камней, поднятых горными потоками». И было этих скорпионов так много, «как
наших бед», - пишет Джавид, «летописец» села Кабир. А вода доходила до самого
порога дома и заливала весь глинобитный пол в доме, почти до подоконника. Чтобы
спастись от наводнения и от скорпионов, Джавид забирался на крышу. И вот
забрался он на крышу и видит среди наводнения, около двери дома, свою сестру
Пери: «Вижу сестру с поднятыми вверх руками, а на голове у неё поднос (с
хлебом), хлеб испекла она у тёти Сувар» (и боялась, что он намочится и
испортится... как говорится, сама погибни, а хлеб спаси). И спустился он с
крыши и стал помогать ей вычерпывать воду из дома тазами и вёдрами. А куда
вычерпывать, если и в доме, и за порогом дома – море? И в конце концов они
забрались на кровать к больной сестре Инаде, на деревянное сооружение, и уснули
там все втроём. А когда проснулись, увидели на белоглиняных стенах «следы
потопа», «а на земляном полу среди... мусора валялись трупики скорпионов...».
Во время одного из таких наводнений утонула красавица села Кабир - девушка
Бахтавар с кувшином на плече, который тащил её ко дну, но который она так и не
выпустила из своих рук. (Красавица из песни Рашида Бейбутова, у которой «на
плече кувшин с водой».) Девушка эта нагуляла ребёнка от мужчины и никогда не
покрывала свою голову платком, в отличие от всех других горских девушек и
женщин, и сельчане осуждали её за это и считали её нехорошей, а маленький
Джавид, он же Наби, считал её хорошей и, когда смотрел на неё, видел только
красоту, которой он восхищался.
Джавид
в своей повести показывает наводнения в селе Кабир не хуже, чем телеоператоры
показывали по телевизору фильмы о наводнениях в штатах Флорида и Верджиния в
2005 - 2006 годах.
Или
вот ещё одна картина от Джавида, из серии «Очевидное – невероятное», из фильма
ужасов. Он приходит из школы домой и приносит больной сестре Инаде бутерброд с
повидлом и видит, что Инада спит на топчане, а у неё в ногах, на красном одеяле
спит чёрная змея, она приползла в дом с кладбища, которое находилось прямо за
порогом дома.
...Ролан
Барт говорил, что писатель должен писать прежде всего для самого себя, и что он
должен писать то, что он лучше всего знает. Джавид инстинктивно соблюдает в
своей прозе, как и в живописи, это золотое правило искусства – писать прежде
всего для себя, не по социальному или коммерческому заказу каких-то заказчиков,
а по потребности своей души, и писать только то, что он знает лучше всего, и
только то, что он хочет писать. Так он пишет свои картины кистью, не на заказ,
поэтому они и получаются у него такие, какие у других не могут получиться, так
он написал пером и свою повесть «Карамельки», поэтому она и получилась у него
такой, какая могла получиться только у него, живая, переживательная,
искренняя, яркая, проникновенная,
лиричная и поэтичная, своеобразная, в высшей степени оригинальная, не похожая
на книги других художников, вся сделанная на своём собственном материале и вся
идущая от души и от личности автора, и потому она не может быть неинтересна
читателям, и будет интересна им, даже и таким читателям, которые, может быть,
не очень любят читать книги.
...Сам
Джавид очень любит читать книги, особенно античных философов, Платона, Сенеку,
Пифагора, Гомера, Овидия и других. И Библию и Коран он знает. И Петрарку, и
Данте, и Сервантеса. И русскую классическую литературу.
...Очень
интересны по своей композиции и по своему смыслу диалоги в повести Джавида, они
как бы наивны и то же время очень не просты и искусны. В них есть театральная
репризность, легкая игра и неожиданные повороты фраз, контрастирующих друг с
другом, в результате чего возникают совершенно неожиданные и очень серьезные и
мудрые подтексты этих фраз:
-
Тётя, что значит – Бахтавар? - Счастливая. - Счастливых разве убивают? - Наша
Бахтавар утонула... Никто её не убивал... - Почему же не спасли? - Таких не
спасают... - Таких счастливых? - Несчастная была она... - Почему же тогда
прозвали её «счастливой»? - Кто знал о её будущей беде... Один Аллах...
В
диалогах Джавида есть что-то от диалогов Платона с Меноном или с Солоном, от
трактатов античных философов, которых любит читать Джавид, и от софистики
Ларошфуко и от афоризмов Оскара Уайльда, и от диалогов между героями пьес
Мольера, Шекспира и Лопе де Вега, и от изречений Абуталиба.
В
одном из диалогов брат спрашивает у Джавида:
-
Чем ты там занимаешься целыми днями (у себя в Москве)?
-
Чем может заниматься художник, кроме своих картин? – отвечает Джавид. И его
может понять только художник, для которого весь смысл жизни и всё счастье жизни
– в творчестве и который посвятил творчеству всю свою жизнь.
...Больше
всего Наби, как и Джавид, обижался на кого-то, если кто-то говорил ему: «И
никакой ты не художник». Когда старший брат как-то раз сказал ему это,
физически слабый и ослабленный плохими условиями жизни герой, который даже на турнике не умел
подтягиваться и по бревну ходить, хотел ударить его, «и ударил бы, - пишет
Джавид, - если бы не сел голубь на подоконник моего настежь открытого окна,
голубь Пикассо».
Искусство
выше и превыше всего. И оно поднимает художника на такую духовную и
нравственную высоту, где никто из простых смертных не может «достать» и обидеть
его, даже если очень постарается. Обидеть его может только Бог. Но чем Бог
может обидеть художника? Только талантом (не дав его ему или отняв его у него).
А талантом Бог не обидел Джавида.
...Отец
когда-то сажал Джавида к себе на колени, гладил ему кудри, которых у него
теперь нет, и говорил: «...Вырастешь, будешь большим человеком...». Джавид
вырос и стал большим художником, который написал много картин и книгу прозы.
...В
прозе Джавида есть тонкие параллели и ассоциации с его живописью, а в живописи
– тонкие параллели и ассоциации с его прозой. И если знаешь живопись Джавида,
то лучше воспринимаешь и его прозу, а если знаешь его прозу, то лучше
воспринимаешь и его живопись, и всё это видишь новыми глазами и под новым углом
зрения и во всём этом чувствуешь какие-то глубинные вторые и третьи планы и
некие коды, которые не поддаются раскодированию и логическим формулировкам.
Например,
когда я читаю у Джавида в повести фрагмент про яблоки, которые он, то есть его
литературный двойник Наби, рвёт в чужих садах: «Яблоки... яблок в наших садах полным-полно, но чужие
яблоки вкуснее и ярче – пусть это останется между нами», - я представляю себе
не только некие яблоки в чужих лезгинских садах, а конкретную картину Джавида,
которую он написал маслом на картоне и которую я видела на его вернисажах и в
альбоме с репродукциями его картин: «Три зелёных яблока на белой тарелке». И
теперь эти яблоки на его картине, на простой белой (общепитовской) тарелке, я
воспринимаю через яблоки в его повести, а яблоки в его повести воспринимаю
через яблоки на его картине, как символы детской радости, которая исходит от
них, символы радости с ликованием, они же и символы дефицита радости, которой
не хватало Джавиду, когда он был маленьким мальчиком, и которой – уже не только
детской - не хватает ему и сейчас, когда он стал маститым художником, который
отказался от всех соблазнов жизни и не знает никаких радостей, кроме
творчества.
А
когда я читаю у Джавида фрагмент о том, как он приносил из леса домой своей
«хромой и слепой сестре» Инаде землянику, а один раз он нарвал для неё
много-много земляники и ни одной ягодки не съел, а все сберёг для неё и пришёл
из леса домой, «а её (там) нет», «нет и матраца», «тюфяка», где она лежала», и
Джавид-Наби подумал, что её увезли в больницу, а сестра Пери сказала ему, что
её «похоронили», и он выронил из рук все ягодки и пишет: «Земляника вся
просыпалась к моим босым ногам...», - я вижу перед своими глазами картину
Джавида «Земляника на блюдце», и теперь воспринимаю её через прозу Джавида...
не только как символ детской радости, но и как символ детского горя, которое он
испытал, когда был маленьким мальчиком.
...Джавид
начал рисовать ещё тогда, когда учился в школе, с малых лет, и уже тогда мечтал
стать художником, и подробно пишет об этом в своей повести. Больше всего он
любил рисовать гору Шалбуздак, букеты цветов, синие фиалки, алые маки, красные,
розовые и жёлтые розы, белых лебедей и красавиц. Он считался в детском доме, в
школе, в своём селе Кабир «лучшим мастером» по красавицам. Причём все они у
него были с большими грудями. И вот что он говорит, пишет в письме своему старшему брату, а в его лице и своему
читателю:
«Скажу
тебе по секрету: когда я рисовал своих красавиц (а рисовал он их в бане. – Н.
К.), ко мне часто заглядывала наша прачка. Она была не так красива и не так
молода, как девушки на моём полотне, но груди моих красавиц я списывал с грудей
этой некрасивой и немолодой работницы...
Она стала появляться возле меня так часто, что (мне) это в конце концов
надоело. Так я и сказал ей».
2.
Во
второй книге своей повести Джавид пишет о том, как он приехал из Дагестана, из
села Кабир, из Махачкалы в Москву – учиться на художника, как в своё время его
друг Валерий Золотухин приехал туда учиться на артиста.
Следы
Джавида, то есть Наби, сначала как бы теряются в Москве. И, по воле автора
повести, герои ищут его, как в одном стихотворении «Ищут пожарные, ищет
милиция... парня какого-то лет двадцати...». И – находят. И рассказывают о нём
друг другу и автору повести Джавиду. Что позволяет автору увидеть своего героя
Наби как бы со стороны, не только своими глазами и не только глазами самого
Наби, которыми тот смотрит сам на себя, а глазами разных людей, от лица которых
ведется повествование, как у Фолкнера в романе «Шум и ярость», то от женского
лица, то от мужского, от лица его друзей и подруг и т.д., услышать о нём из их
уст. Как, между прочим, и в повестях Валерия Золотухина «Дребезги» и «На Исток-речушку,
к детству моему» повествование о жизни Вовки ведётся от лица разных лиц, то от
лица матери его, то от лица отца, то от лица тёть, то от лица Фомина, и т.д.,
но это я говорю так, между прочим.
Актриса,
которая была в гостях у Наби, говорит, что дом, где жил Наби, в Москве, когда
учился на художника, был старый, сколько в нём было этажей, никто не помнит:
«Не жильё, а чудо! ...там не было электричества. Было отключено всё, даже
туалет...»... если ему, герою повести, надо было сходить по надобности, он
«выпускал себя на улицу, как собаку», и бежал куда-то за два квартала, через
шумный проспект... «Комнату он освещал свечами!».
Другой
гражданин рассказывал: «Он при мне... стал обливаться (на улице) холодной
водой. На улице было 28 градусов ниже нуля...». Ну да, об этом и Валерий
Золотухин пишет в своём эссе о прототипе Наби - Джавиде.
Участковый
милиционер, которому нельзя не верить («не может быть, чтобы представитель
власти лгал»), говорил, что видел его (Наби) два раза. Первый раз поздно вечером,
когда обходил двор со своим товарищем «в штатском» и увидел свет в окне
нежилого помещения, постучал туда, оттуда вышел «сухощавый мужчина в очках», он
провёл гостей в свою комнату. Она была - как «склеп», там были книги, картины.
А другой раз милиционер постучал к нему рано утром, в девять часов утра, он
открыл дверь и появился перед ним весь голый, сказал, что он только что защитил
диплом и кого-то ждёт (не милиционера, а кого-то ещё).
Пожарный
инспектор театра говорил: «Он облил меня и других сотрудников театра пеной из
огнетушителя...», а когда я стал ругать его, он «пошёл жаловаться (на меня)
директору».
А
гардеробщица художественного училища запомнила его по его самому первому дню в
Москве, когда он только-только приехал туда: «Я его подобрала со скамейки,
спящего, и запихнула в чехол какой-то греческой богини. А легкий он был, как
пушок. Позже я узнала, что он приехал (в Москву) один, с большими рулонами
картин и с тяжёлым чемоданом, и не спал двое суток подряд».
А
какая-то молодая дама рассказывала всем, как она танцевала с ним в подмосковном
доме отдыха, и он обозвал её «потаскуха». Он плохо знал русский язык и думал,
что слово «потаскуха» происходит от слова «скука», и извинился перед ней. Она
же назвала автору и читателям особые приметы Наби, сказала, что у него
«восточный силуэт лица», что он не красавец и не урод, что в манерах у него
«застенчивая уверенность» в себе: «Моя подруга увидела в нём мужлана». Вот тебе
раз!
Так
автор составил «фоторобот» или «биоробот» своего героя Наби со слов граждан
Москвы. То есть использовал очень интересный нетрадиционный приём, чтобы
показать читателям портрет своего героя Наби и чтобы рассказать о жизни Наби в
Москве, избегая утомительной избитой повествовательности. Правда, этот портрет,
результат как бы коллективного творчества персонажей «Карамелек», получился
несколько шаржированным, и в чём-то далековатым от оригинала, но зато очень
выразительным и впечатляющим. И он передаёт не только какие-то характерные
черты и качества самого Наби, но каждого из тех, кто «рисовал» его.
...В
повести Джавида вообще нет никакой повествовательности, то есть нет стройного
повествования о жизни своего героя в строгой хронологической
последовательности. Она вся состоит из разрозненных и как бы не связанных между
собой фрагментов и фрагментиков детства и юности Наби, как из осколков зеркала,
из кусков мозаики, но из них складывается его «жизнь в картинках». Между этими
картинками есть большие пробелы, зазоры, эллипсисы, пустоты, но они-то и
придают всей повести особую загадочность, глубину и многоплановость.
...Москва,
о которой мечтал Джавид, он же Наби, всегда казалась ему издали, из своего села
Кабир сказкой. И, когда он приехал в Москву, ему показалось, что он попал в
сказку:
«Я
в Москве. Кругом сказка: принцессы и принцы. Все непременно белокурые и у всех
голубые глаза...
Наступила
лучшая пора моей жизни, а вместе с ней начались мои первые неудачи... К нам в
училище пришел новый педагог по рисунку. Он поставил мне двойку... Художником я
не стану... Я полагал, что, если я четыре часа в день рисую на уроках под
присмотром учителей, то этого вполне достаточно, чтобы стать прославленным
художником...». Нет, этого недостаточно.
И
Наби начинает рисовать по двадцать четыре часа в сутки: «Рисовать и рисовать!».
Он рисует «всё, что попадается (ему) на глаза в театре», на улицах, но у него
«ничего не получается...». Он уходит в себя, он бежит к себе в свою нору, где
он живёт, он перестает общаться со всеми, превращается в затворника и работает
днём и ночью, рисует свои картины. «Так прошли три мучительных потных месяца, -
говорит он. - Друзей я потерял. Девушек тоже. Потерял даже свою «натурщицу».
Зато набились (новыми рисунками) мои папки, три больших папки! Педагог за них
поставил твёрдое «хорошо» и перед классом похвалил...».
Лучше
Наби никто не рисовал в его селе Кабир, не было там у Наби ни одного соперника
в целом районе. Но то – там, а то – здесь, в Москве... И там он рисовал картины
в лубочном стиле настенных ковриков, с русалками и лебедями, которые нравились
его односельчанам и одноклассникам, а здесь, в Москве, этим разве кого удивишь?
Здесь это не считается высоким искусством.
Джавид
показывает, как его герой учится живописи у великих мастеров, у Леонардо да
Винчи, у Матисса, у Сезанна, у Пикассо... как он хочет стать большим и великим
художником и как у него ничего не получается и он приходит в отчаяние, смотрит
на свои картины и восклицает: «Какой жалкий плагиат. Сарьян, Матисс, Дерен,
Сезанн, а тебя (это он самому себе говорит: тебя) нет! Всё не то! Всё не так!..
Всё получается «под них!.. К чёрту всё! – кричу я в бешенстве, и на холст
обрушивается моя новая ругань, кулаки...».
...Во
второй книге повести появляются новые герои и новые персонажи. Элла, Антиса,
Кора, Аполлон, Лиза, Кент, Ким, братья Кошкины, Андрей из Ростова, поэт
Раундов, главный художник современного авангарда Горцуев и другие...
Наби,
которому негде жить и некуда приткнуться в Москве, попадает в богемную компанию
художников, которые не умеют работать и хотят «создать шедевры одним махом»...
и поселяется в комнате на улице Кировской у двух почти тулузлутрековских,
только пока ещё молодых подружек Антисы и Эллы... «Пусть (он) живёт у нас, не
пропадать же ему на улице!», - пожалела его Антиса, когда узнала, что ему негде
жить. «А она умела жалеть: подбирала собак, кошек, крыс. Чем хуже художник?..».
(В
хороший ряд попал Джавид и его герой Наби, в один ряд с собаками, кошками и
крысами. Он-то мечтал встать на одну доску с мировыми художниками... но, кстати
сказать, многие из них – если не сказать: все! - прошли тот же самый путь через
тернии к звёздам, который прошёл Джавид, прежде чем занять своё место на
Олимпе. И Джавид понимает это и поэтому на все превратности своей судьбы
смотрит с улыбкой Бога Олимпа.)
Элла
(пером Джавида, фиксирующем все детали) описывает комнату на Кировской, в
которой она живёт с подружкой и в которой с ними теперь живёт Наби:
«На
стенах развешаны огромные декорации из тканей, бумаги, рам, картин, зеркал.
Здесь и засохшие цветы, крылья разбитого орла, осколки разбитых зеркал. На окне
сияет череп, в глазницах и оскале которого находится много искусственных
цветов.
Тут
и швейная машинка. Мы шьем себе платья с яркими аппликациями. Много тряпок, ниток,
кусков дерматина, бархата, а рядом на диване разбросаны наши драгоценности:
бусы, серьги, кольца, браслеты и среди них предмет особой роскоши – телефон. В
этом женском царстве ему, Наби, не по себе... Антиса, моя подруга, любит его
по-своему, смотрит на него как на очередного персонажа из «театра присутствия».
Наш мир ему чужд. Мы пьём ликёр, курим...», а он не курит и не пьёт. Правда,
потом он отрастил себе длинные волосы, под битлов, и бороду, под хиппи.
Джавид
очень точными словами и красками рисует богемную атмосферу и богемную среду
художников 60 - 70-х годов, в которую он было окунулся. Но в которой не утонул
и не увяз и из которой сумел выбраться, притом сумел выбраться сухим из воды. И
никакая грязь к нему не прилипла.
Мой
земляк Циолковский (или Павлов? кто-то из них) говорил, что благородные металлы
не подвергаются влиянию окиси и ржавчины, всё это к ним не пристаёт, и что есть
такие люди, которые принадлежат к категории благородных металлов. Джавид и его
герой Наби – как раз из таких.
...Джавид
– великолепный портретист не только в живописи своей, но и в своей прозе.
Вот
портрет Антисы, которая установила в коммуне богемных художников свой «диктат»,
или свою «диктатуру», и привела своего Аполлона с улицы в комнатку на Кировской
и внесла в её атмосферу дух «похоти»: у Антисы «грация гюрзы», «у меня нет
запаса слов, чтобы передать всё искусство изгибов (тела), каким обладала наша
Антиса... сама Сара Бернар училась бы у неё искусству поз...». Портрет Антисы
добавляется её нарядом: «Шляпа боа-боа, сапоги макси и модные джинсы».
Портрет
Наби, который является копией портрета самого Джавида, Джавид рисует в основном
через слова людей о Джавиде и состоит весь из разных чёрточек, как его
«Автопортрет» 1972 года: «Черты лица (у него) крупные, и морщины на лбу
глубокие и крупные»... манеры женственные, мягкие, а черты лица грубые... «речь
замедленная, с сильным акцентом». Этот портрет добавляется таким нарядом героя:
чёрная безрукавка, серая рубашка с полосочками, или не серая, но главное –
чистая, и замшевые туфли, и, как и у Антисы, тоже джинсы, которые в 60 - 70-х
годах считались особым шиком и которые не каждый простой советский человек мог
купить, потому что, во-первых, они были очень дорогие (как минимум рублей 200
советскими деньгами), а во-вторых, они не продавались в магазинах, а
продавались только на «чёрном рынке», с рук фарцовщиков. Джинсы - сами по себе
яркий штрих к портрету молодого художника того времени и как бы некий знак качества этого художника, по
крайней мере – знак его принадлежности к касте избранных или к тем, кто считает
себя избранными.
...Темы
разговоров между героями, то, о чём говорят герои, – это тоже всё штрихи к их
портретам.
«Антиса,
Аполлон и наш великий Раундов... трио молодых солистов, говорят о... сюрреализме,
попизме, кинетизме, дивизионизме» и о сексе и о деньгах.
«Наби
подходит к окну, хватает ртом мороз, проглатывает холодный воздух:
-
Я – о живописи, они – о грудях (не в живописи, а в жизни), я – о Сезанне, о
яблоках, они – о деньгах. Так тебе (мне) и надо, дураку; в душе (у меня) мгла
досады и горького разочарования (в своих новых друзьях), а кругом – вечерние
огни (большого города), машины, люди...»
Товарищи
по искусству называли Наби «венценосцем без венца» и «робким Богом».
...Интерьер
комнаты, где живут герои тоже дополняет их портреты.
Вот
интерьер комнаты Наби на даче у одного из своих друзей, куда приезжает
московская подруга Наби в его отсутствие, которая и описывает этот интерьер:
«В
углу комнаты стоит большое зеркало в прекрасной раме старинной работы, а рядом
книжный шкаф и нелепый горбатый диван. Ещё много мелочей быта, по которым я
узнаю образ моего друга. Но главное в этом «курятнике», как он любит называть
свою комнату, цветы. Цветов много... цветы в духе Матисса. Букет роз... На
стене много набросков. Здесь цветы, пейзажи, а на столе очень много «черновых
листиков».
...Любимыми
цветами Наби были любимые цветы его любимой сестры. Они росли в селе Кабир под
орешниками, под деревьями, были везде и всюду. «Синева. Зелень. Фиалки...» -
вот что вспоминается ему, когда ему вспоминается село Кабир. Как-то раз он нёс
ей из леса эти цветы и ещё не знал, что она умерла, и увидел женщин в чёрном,
которые шли к его дому хоронить её. С тех пор он разлюбил фиалки.
«Я
об этом не знала, - говорит московская подруга Наби. – И сейчас мне стыдно за
тот день, когда я к нему пришла в весеннем пальто с фиалками в петлице». Тем не
менее портрет девушки в весеннем пальто с фиалками в петлице получился очень
хорош и запечатлелся в прозе Джавида, как если бы на холсте художника.
...Наби
живёт в Москве, где придется, то в романтических «углах» комнаты на улице
Кировской, то в комнатушке на Цветном бульваре, то в каморке в Малом
Гнездниковском переулке, то ещё где-то... и все эти улицы, переулки и бульвары
входят во вторую книгу повести так же, как и другие места Москвы, улица
Чайковского, Яузская набережная, Александровский сад, метро «Белорусская»... и
составляют очень своеобразный московский фон повести...
«Хочу
на Цветной бульвар, к себе в комнатушку. Хочу сию минуту. Хочу непременно...»,
- пишет Наби, то есть Джавид. «На свой рабочий стол я ставлю банку с ветками
тополей»... Эти веточки потом появятся и на картинах художника «Портрет Нины»,
«Русская кукла», «Здравствуй, новый день», «Натюрморт с палитрой».
Почему-то
когда я читаю о том, как молодой художник Наби поселился в Москве и хочет
покорить её, мне вспоминаются художники-монпарнасовцы, которые жили в Париже на
чердаках и в мансардах или в подвалах, и вспоминается герой повести Альфонса Доде
«Малыш», который в детстве жил в каком-то провинциальном городишке не то в
школе-интернате, не то в приюте, и мечтал стать великим поэтом, и держал у себя
в тумбочке толстую клеёнчатую тетрадку, в которой вёл дневник и куда записывал
свои стихи, а потом вырос и уехал в Париж и поселился в маленькой мансарде и
сидел там и писал стихи у маленького полукруглого окошка, и ему не хотелось ни
гулять с друзьями, ни встречаться с девушками, а хотелось только сидеть и
писать.
...Джавид
уделяет в своей книге большое внимание технологии живописи, основам искусства:
«Основа моего искусства, основа любого искусства - это «вертикаль и
горизонталь, - пишет он, то есть как бы Наби. - Горизонталь есть покой...
вертикаль есть напряжение. Я за их сочетания». Наглядным примером сочетаний
горизонтали и вертикали являются его собственные картины, которые далеко не
всем по зубам.
Когда
старший брат увидел картину Наби, одной из которых могла быть картина «Цирк» (с
конями на деревьях), он сказал про них: «Я вижу не картины, а форменное
безобразие... Где ты видел лошадей на деревьях?» - «Видел и ты, но не обратил
внимания... Я показывал их тебе, когда мы с тобой шли по Москве, мимо старого
цирка... Коней ты мог видеть даже на крыше (на крыше Большого театра)...».
...Во
второй книге «Карамелек», как и в первой, у Джавида много юмора и иронии.
1.
Один из братьев Кошкиных листает «страницы скучного учебника по истории муз».
Второй из братьев Кошкиных говорит ему про Наби, который стоит около них:
«Смотри, какой он красивый нынче, наш Наби...». – «Вижу, - отвечает тот, не
поднимая своих светоносных глаз» от учебника. «Я в недоумении, - пишет Наби. –
Неужели мой лик уже в академической книге по теории искусств?» (в том учебнике,
который держит в своих руках один из двух братьев Кошкиных). Так Наби, ранимый
и поэтому обидчивый по своей натуре, отплачивает ему за его невнимание к своей
персоне, то есть к персоне Наби, -
юмором с иронией.
2.
На улице провинциального городка, который напоминает собой старинные купеческие
городки из пьес Островского и декорации Малого театра с деревьями и рекой,
появилась красная машина, в ней несколько человек, мужчины и дама с ними.
-
Кто такие? - спрашивает настороженно Наби у своего спутника.
-
Местная интеллигенция, - отвечает тот.
«Наби
хохочет, говоря, как это вся интеллигенция поместилась в одну маленькую
машину».
Хватает
у Джавида и самоиронии, например, когда он говорит о своём Наби словами его
друзей, что у него лошадиные зубы и лошадиное лицо, а походка кошачья, а на
макушке лысина. «Наби! Ты знаешь, у тебя лысина!» - восклицает одна из героинь
повести. Но его лысина ничуть не мешает ему писать свои картины, создавать
шедевры, а может быть, даже и помогает, кто знает? Поэтому он нисколько не
расстраивается из-за своей лысины, как и из-за своих зубов, которые ему тоже не
мешают, тем более, что они у него крепкие и никогда не болят. (Он и в свои
семьдесят лет сохранит все свои зубы.)
...В
каждой строке повести Джавида чувствуется его взгляд художника во всём, что он
видит, и рука художника, во всём, что он пишет кистью или пером, в том числе и
в пейзажах, которые он показывает читателям: «Жёлтый закат становится
оранжевым, оранжевый переходит в красный, а далее – в фиолетовый».
Джавид
в своей прозе такой же колорист, как и в живописи, «повелитель цвета», если
говорить словами его друга Петра Кобликова, специалиста всех искусств, который высоко ценит живопись
Джавида.
...Наби
живёт в Москве, но всё время вспоминает свое родное село Кабир... И всё время
возвращается туда в своих мыслях, то есть живёт как бы в двух мирах, в реальном
и параллельном. Но если раньше для него реальным миром было его село Кабир, а
Москва была параллельным, то теперь Москва стала для него реальным миром, а
Кабир – параллельным.
Наби
вспоминает в Москве свою первую учительницу: «Я много видел кос горянок и седых
прядей у старух. Но навсегда запомнил цвет волос своей первой учительницы. Они
у неё были ярко-жёлтого цвета...» (причём свои такие, а не искусственные, не
как сейчас у многих девушек, которые красят волосы под Мерилин Монро или под
Мадонну, которые тоже, кстати сказать, красили их).
Наби
вспоминает свою сестру, с которой он шёл по улице своего села рука за руку... и
представлял, во что они будут играть с ней сегодня. И говорил ей: «Я буду
солдатом...». А она говорила ему: «А я буду невестой. Буду только с тобой.
Давай сегодня! В сумерках, как только свечки зажгутся в церкви и колокола
зазвенят. Поедем с тобой в Париж! Мы купим самые-самые красивые вещи. Ты мне
купишь длинное-предлинное платье, белое. А я тебе куплю цилиндр. И костюм
куплю. Белый! Конечно же, и галстук. Бабочкой! Мы будем ходить только в цирк».
Наби
вспоминает музыку села – мычание коровы, крики петуха, пиликанье золотой
скрипочки, звон зурны...
Наби
вспоминает цветы Кабира, «цветы горных долин», за которыми он ходил с ребятами
своего детского дома, своей школы-интерната в горы: «Завтра мы всем интернатом
пойдём в горы за цветами горных долин. А сегодня в коридоре приготовлены горы
всякой посуды. Тут банки всех размеров, горшки разного обжига, чайники, вёдра,
баки, тазы, корыта и даже миски. Все наши комнаты и даже соседние дома завтра
наполнятся жёлтыми, синими, красными, фиолетовыми запахами жёлтых, синих,
красных, фиолетовых цветов наших гор и долин...». Эти цветы потом появятся на
натюрмортах художника Наби, и художника Джавида «Цветы августа», «Синие цветы»,
«Летний букет» и т.д.
...Иоганнес
Бехер говорил: «Каждый писатель, описывая своё прошлое, делает из этого
легенду». Не потому, что он хочет сделать легенду, а потому, что со временем он
начинает видеть прошлое какими-то другими глазами, не такими, как раньше, и в
каком-то новом свете и цвете. Так и Джавид. Вот он, то есть как бы не он, а
Наби, вспоминает зелёную школьную парту, за которой он сидел с девочкой Асият в
девятом классе, и вспоминает эту девочку, в которую он был влюблён и которая
была его партнёршей в школьном спектакле «Периханум», где она играла юную
богатую красавицу Периханум, а он – влюблённого в неё юного бедного красавца
Мехтибора. Асият была для него символом красоты. Во время спектакля она пела
страстный куплет кому-то, кто сидел в зале. Наби «рассматривал (со сцены) лица
всех мальчиков своего класса (которые сидели в зале), и даже лица ребят из
других деревень», чтобы увидеть того, кому она адресует свой куплет, свою
песню. Но он не мог увидеть лица своего соперника, потому что в зале сидели
зрители, все до единого влюблённые(!) в «Асият, влюблённые (в неё) от первого
ряда по последнего(!)», там «сидели пятилетние, тридцатилетние (зрители) и даже
столетний дед – все до единого влюблённые в Асият». По крайней мере так тогда
казалось влюблённому Наби, и только влюблённому могло казаться, что все
влюблены в ту девочку, в которую он влюблён. А может быть, это так и было. А
через год он сидел с ней в розовом саду под розовой яблоней и вёл с ней такой
диалог: « - Я люблю тебя... – Я знаю, и знаю ещё... – Что знаешь ещё? – Что у
тебя нет дома. – Зачем нам дом? Мы же в (розовом) тёмном саду... – Я не о том.
– О чём же тогда? – О доме, которого у тебя нет... – Разве мы (с тобой) не
вместе? Разве мы не вдвоём?.. – Я не о том... – О чём же тогда? - О буйволе,
которого у тебя нет. – О буйволе, которого у меня нет? Но зачем тебе буйвол? Ты
же выходишь за меня, а не буйвола».
Был
этот диалог или не был? Или он был только в голове влюблённого Наби? Но Асият,
девочка с зелёной парты, не вышла замуж за Наби. А вышла, наверное, за того, у
кого был дом и буйвол. Но зато какую легенду об Асият написал Джавид, всю в
романтическом свете и всю в зеленом и розовом цвете.
...В
музыкальном оформлении повести, как если бы в музыкальном оформлении спектакля,
у Джавида звучит золотая скрипка, зурна, мычание коров, лай собак, крик петуха,
барабаны... и ещё – пионерский горн. Он звучит и в первой книге, и во второй...
Инструмент, который является символом детского дома, школы-интерната, где
ребята, и Джавид, или Наби, в их числе, вечером, как в армии, ложились спать
под «горн», под сигнал «отбой», а утром, как в армии, просыпались под «горн»,
под сигнал «подъём»:
«Утро,
«Славься отечество...»... весёлый горн, солнце. Мы все становимся в строй». А
потом (по тексту и по сюжету повести) «праздничный завтрак: конфеты, печенье,
сладкий чай, голландский сыр, рисовая каша с топлёным маслом...».
Я
тоже, как и Джавид, с первого по восьмой классы, только не в селе Кабир, а у
себя в Рязани, и не в его, а в своё время училась в школе-интернате, в котором
были такие же порядки, как в детском доме Джавида. Поэтому горн мне очень обо
многом говорит, больше, чем многим другим читателям.
Но
Джавид по складу своей натуры – не тот человек, который любит вставать в строй
и ходить строем. И не тот человек, который любит ходить в стаде. И он так и не
привык ходить в одном строю или в одном стаде со всеми, как со своими
одноклассниками, так потом и со своими коллегами, художниками. Он – ходит сам
по себе. И теряется в коллективе и чувствует себя там некомфортно. И больше
всего на свете любит сидеть в своей «норе» и работать, в полном одиночестве,
почему Валерий Золотухин и называет его «норным» человеком.
Правда,
кое-что из того, чего Джавид, как и его литературный клон Наби, не любил делать
в детском доме, как какой-нибудь Гек Финн («чистить ногти, мыть руки с мылом,
что за наказание!»), он потом полюбил и делает это регулярно.
Между
прочим, друг Джавида Валерий Золотухин тоже несколько лет жил и учился в
детском доме, в школе-интернате, в санатории, в Чемале, и в этом они оба –
друзья по несчастью. А я – их младшая сестра по несчастью.
...В
Москве Наби, как и сам Джавид, ходит в галереи, в музеи, в театры, в том числе
в Театр на Таганке, берёт всё, что может дать ему Москва, и очень много
работает, пишет картину за картиной, то в одной манере, то в другой,
экспериментирует, «творит, выдумывает, пробует», вырабатывает свой стиль в
живописи.
«Так
прошло пять лет. Пять лет без родины, без её гор, без того дерева на холме, под
которым я просиживал часами».
Наби
скучает по своему селу, но не может поехать туда, у него на носу уже защита
диплома. Но «почему именно ехать?» - спрашивает себя Наби. Когда можно не
ехать, а нарисовать своё село на бумаге, и оно окажется в Москве. Если Магомед
не идёт к горе, то гора придёт к Магомеду. И Наби начинает рисовать своё село,
холм и дерево на этом холме, под которым он любил сидеть часами... И ничего у
него не получается. И он каждый день, целых семь месяцев пытается нарисовать
свою родину на полотне, но ничего у него не получается. А потом полотно,
наконец, ожило, и ожила на нём его родина, и ожило на нём его детство. Так у
него появилась серия картин «Талги», «Улица в селении», «Дом с кипарисами»,
«Дом с садом» (1961), одна из которых («Талги») теперь висит в кабинете
главного редактора газеты «Дагестанская правда» Раджаба Идрисова, и картина
«Малая родина» (1970), которая теперь висит в музее изобразительных искусств
Махачкалы. Но тогда они ещё нигде не висели, а находились у художника в его
запасниках.
...Как-то
раз он наконец-то всё же приехал в своё село Кабир, через много лет... И вот
Джавид – через своего героя Наби - показывает в своей повести, как он приехал
туда и как нашёл свой дом со своими крылечками: «Я зашёл в родной дом (который
уже стал чужим, потому что там живут чужие люди). Два ореховых дерева (во дворе
около дома) встретили меня так же приветливо, как тогда, когда они были нашими.
Во дворе всё по-старому. Только больше навоза и грязи». «...надо подниматься по
ступенькам, по таким родным и теперь таким чужим. Меня встречает новая
хозяйка...».
Кто-то
из великих говорил: «Никогда не возвращайтесь туда, где вам было хорошо».
Джавиду, как и его герою Наби, в детстве было не всегда очень уж хорошо там,
куда он вернулся, но лучше, чем теперь, когда там нет никого из родных ему
людей...
И
всё же его село Кабир видится ему в светлых тонах и красках, а сад в селе
кажется ему Гефсиманским садом, за рекой Кедрон.
...А
потом Джавид, он же и Наби, или Наби, он же и Джавид, приехал в город Дербент,
чтобы делать декорации к спектаклю по пьесе Мольера. Он хочет сделать оригинальные
декорации, с рельефом, а администраторы театра не понимают его как художника.
Они хотят видеть «мольеровские парики в папахах», как с иронией говорит о них
Наби, и вместо того, чтобы создать ему хорошие условия для работы, создают ему
невыносимые условия, в которых свободному художнику нельзя работать.
«Приехал
я на родину, богатую ослами и мешками, а мне здесь не рады», - пишет Наби, он
же и Джавид. Как поется в песне «Приехал я на родину...»?
Ему
пришлось повоевать с администраторами за своё искусство и одержать победу над
ними. И это при том, что Наби, как и Джавид, по своему характеру как бы не
боец, он и в детстве был не боец и поэтому не любил играть с мальчишками, а
играл всё больше с девочками: «Я редко с кем играл из мальчишек, а больше времени
пропадал среди девочек, за что меня мальчишки дразнили «гада-руш», что означает
«мальчик-девочка» в буквальном переводе этих слов», - говорит он сам о
себе.
А
одна из героинь повести пишет такой его портрет: «Наби – щупленький, невысокий,
с впалой грудной клеткой», его движения – «замедленные, плавные, мягкие», «а в
них застенчивость, робость, нерешительность и, я бы сказала, незаконченность».
«Нет
побед без войны», а точнее, «Не было ни одной победы без войны», - заключает
Наби в результате своего сражения с администраторами и с их рутинным взглядом
на искусство.
Девизы
Наби: быть свободным, независимым художником, отказываться от денег, от службы
и от дружбы, если они мешают ему быть независимым и свободным, «идти (в
искусстве) своим путём, путём интеллигентного пролетария».
Эти
девизы могут стать девизами каждого художника, но далеко не каждый захочет жить
и работать под этими девизами, только самоотреченец, каким и является Наби и
его прототип Джавид.
У
него «нет ни гроша в кармане, а он барона из себя изображает», - говорят о нём
его богемные друзья, и не только барона, но и Бога.
У
него и своей квартиры нет, он скитается по разным углам и дырам. И цитирует сам
под себя строки из Евангелия: «Лисицы имеют норы, птицы небесные – гнёзда, а
сын человеческий не имеет, где приклонить голову».
Жизнь
Наби напоминает собой жизнь всех художников, которые шли в искусство трудным
путём и терпели нужду и лишения.
«Я
пишу эту исповедь, не найдя другого способа дальнейшего существования, как
художник. Страдания Ван-Гога – ничто по сравнению с тем, что я терпел и терплю
по сей день... У меня больше нет сил на лишения», - пишет Наби в своём письме
директору театра в Дербенте.
И
вся повесть «Карамельки» - это исповедь Наби, исповедь художника, которую
написал Джавид, не директору театра, а своему читателю и самому Господу Богу. И
она вся – как глас вопиющего в пустыне, который да услышат читатели и да
услышит Господь Бог, который кого больше всех любит, того больше всех и
испытывает нуждой и лишениями.
...Кстати,
о карамельках... Они во второй книге повести попадаются всего один раз. Да и
то, когда Наби вспоминает о них, вспоминает о том, как он на пару со своим
детдомовским другом Саидом закопал мешочек с карамельками в землю, на кладбище,
чтобы через несколько дней, на праздник, раскопать и съесть их. Он взял у своей
тёти белый мешочек из бязи и положил туда карамельки, которые очень долго
собирал и собрал десять, а потом пятнадцать, а потом двадцать пять штук этих
круглых конфеток. И закопал их, а когда раскопал, то увидел, что муравьи съели
все карамельки и добрались до абрикосовой начинки... И вместо праздника с
праздничными огнями у него и его друга получился антипраздник.
Запах
деревьев на московских набережных напоминает Наби запах карамелек, которых сам
Джавид, кстати сказать, уже не ест (с тех самых пор?).
Джавид
– художник-философ и смотрит на свою жизнь и вообще на жизнь по-философски, как
его античные кумиры Платон, Сенека и т.д. И пишет своей самопиской не на песке,
а на листе бумаги, на белом поле листа, как на скрижалях истории, такие вот
афоризмы:
«Любить
жизнь труднее, чем её ненавидеть», «Материальная нужда не есть залог для
несчастья» (как и материальный достаток не есть залог счастья?), «Успех
(художника) в жизни не есть успех в живописи», «Радоваться может всякий, но не
всякий может радовать другого»,
...Джавид
показывает своего героя Наби, и самого себя, в развитии, показывает, как он,
мальчик из села Кабир, приезжает в Москву, чтобы стать художником, и проходит в
Москве «свои университеты» и огонь и воду и медные трубы, и как он работает над
собой и пытается найти в искусстве сам себя и не потерять сам себя, потеряв
родных, потеряв друзей, потеряв всё, и создать свой собственный мир, в своем
собственном стиле, преодолевая сопротивление материала, и во всем равняется на
великих и становится личностью и становится художником.
...Москва
оказалась не очень-то ласковой к Наби, как и к Джавиду, но он не разлюбил её и
говорит: «С детства я ел манную кашу и пел русские песни, и... оказавшись в 17
лет в столице, я полюбил её на всю жизнь».
...Джавид
пишет простыми короткими фразами. Но иногда умеет выдать на бумаге такую
сложную, длинную и завитушистую змеино-серпантино-спиральнообразную
синтаксическую конструкцию, с сочинительными и подчинительными предложениями, с
причастными и деепричастными оборотами, что смотришь на неё и изумляешься ей и
разматываешь её, как нить Ариадны или как ниточку клубка, и изумляешься ей и
идёшь туда, куда она ведёт:
«...А
сегодня я блуждал по мокрой траве, в мокрых фланелевых брюках, отяжелевших от
дождя, как тогда, в далёком детстве; в прошлом году я блуждал в подмосковных
лесах в поисках утраченных иллюзий, находя их в травах, цветах, запахах, а сегодня,
как в детстве, как вчера и в мае прошлого года, я хожу один по горбатым мостам
Яузской набережной, брожу между деревьями в нежной зелени и любуюсь русскими
берёзами, восхищаюсь весенними далями, хожу счастливый, потеряв друзей, находя
себя, своё одиночество, своё единение с природой, блудный её сын, вернувшийся к
ней... ставший частью её, ставший ею, иду навстречу тайне своего будущего».
...Джавид
– русскоязычный художник. Он говорит на русском языке с дагестанским,
лезгинским акцентом. И этот акцент временами чувствуется у него и в его прозе:
в построении фраз, в стыковке слов... в их – иногда - некоторой неправильности
и неуклюжести, в наплывах одной фразы на другую, в эллипсисах (зияниях) между
ними. Но этот акцент, как в жизни, так и в прозе, придает речи Джавида, его
языку какую-то свою особую индивидуальность, неповторимость, свою особую
лексико-стилистическую окраску и какое-то своё особое очарование. У Гоголя в
его прозе тоже есть свой малороссийский акцент, есть какие-то неправильности с
точки зрения норм русского языка. Но если редактор попытается отредактировать
его текст по всем этим нормам, то испортит прозу Гоголя, как если столяр начнет
«редактировать» тополь на газоне, выравнивать изгибы ствола этого дерева,
отрубать от него кривые ветки, которые ползут в разные стороны, то сделает из
него не что иное, как телеграфный столб или бревно, без сучка и задоринки, а
дерева, которым мы можем любоваться как природным произведением искусства, уже
не будет. Поэтому прозу Джавида, мне кажется, не надо редактировать, как не
надо редактировать его картины, где эксперт найдет какие-то свои
«неправильности», огрехи и шероховатости, «отступления от нормы», от академизма
и скажет, что их надо убрать. Например, выровнять очертания цветочных горшков
на картине «Цветочница» или пропорции лица на «Портрете поэтессы Нины
Красновой» или порезче прорисовать зонты под дождём... Это все равно, что
сказать: у девушек Модильяни шеи кривые, их надо выровнять, а у Эль Греко –
слишком деформированные фигуры людей, богов, богоматерей, ангелов и апостолов,
их надо тоже выровнять, приблизить к естественным анатомическим нормам, а у
Сезанна столы и вазы и тарелки кривые, их надо выровнять, как на посудной
фабрике, а у Ренуара дамы чересчур расплывчатые, их надо прорисовать порезче...
...Джавид
– постмодернист и в своей живописи, и в своей прозе. Он вобрал в себя три
культуры, дагестанскую, русскую и мировую, прежде всего европейскую, а также
индийскую и восточную, и создал в живописи и в прозе свой собственный стиль, с
чертами импрессионизма, пуантизма, контурализма, кубизма, концептуализма,
супрематизма, фовизма, дадаизма, примитивизма, сюрреализма, реализма и
абстракционизма, и работает в этом универсальном стиле, в своей манере,
свойственной только ему, и никому больше, обогащённый влияниями всех любимых
художников, поэтов, писателей, философов. И применяет в прозе приёмы живописи,
а кроме того и театральные приёмы. И мастерски владеет как кистью, так и пером.
...Джавид
– независимый художник, художник-одиночка, каких сейчас и нет. Джавид -
затворник, отшельник, пустынник в миру, в Москве, в этом мегаполисе, в этом
муравейнике с населением 10 (или уже 20?) миллионов человек, Диоген, который
отрешился от всего мира с его прагматизмом, меркантилизмом и коммерционализмом
и от всей суеты сует и от всех тусовок и сидит в своей бочке, в своей тесной
мастерской, в каморке папы Карло, где даже кровать, топчан, диван, раскладушку
негде поставить, и пишет свои картины и книгу о своей жизни со своими
откровениями не Феофана... Пишет не для саморекламы, не для самораскрутки, не
для славы и орденов с медалями, и не для денег, или «бабок», если говорить
новым языком нового времени, а для себя, для своей души, для своей внутренней
потребности. А всё, что художник пишет как бы только для себя и для своей души,
это и становится интересно и нужно людям.
...Я
могла бы ещё много говорить о «Карамельках» Джавида, но не буду. А иначе моё
послесловие к этой повести получится больше, чем сама повесть.
...Джавид
написал свои «Карамельки» в 1975 - 1976 году, и только теперь решил вытащить их
из своего долгого ящика и преподнести своим читателям, то есть нам. И слава
Богу, что их не съели муравьи и жучки и черви и не съело время. И мы видим, что
они с годами не только не утратили своих лучших качеств и не потеряли своей
ценности, а сохранили все свои лучшие качества и обрели ещё большую – теперь
ещё и историческую, а не только литературную - ценность, на фоне
псевдолитературной продукции, которая переполняет прилавки магазинов и уличные
лотки.
...Джавид
сказал мне, что он в своё время написал эти свои «Карамельки» под впечатлением
и под влиянием прозы Валерия Золотухина, его повестей «Дребезги» и «На
Исток-речушку, к детству моему...», где артист пишет о том, как он в детстве мечтал
стать артистом и как он «в свои семнадцать лет» приехал из своего алтайского
села в Быстрый Исток в Москву, чтобы покорить её. «Когда я прочитал эти
повести, они мне так понравились, что мне тоже захотелось написать что-то такое
подобное о себе, о своём детстве, о том, как я мечтал стать художником, и о
том, как я приехал из своего дагестанского села Кабир в Москву, чтобы покорить
её», - признался Джавид. Кстати сказать, для него всегда были заразительны в
жизни и в творчестве не какие-нибудь дурные, а положительные примеры. И
положительный литературный пример Валерия Золотухина оказался заразительным для
Джавида, который захотел написать повесть о себе и написал, и у него получилось
не нечто подобное повестям своего друга, а нечто бесподобное, то есть
совершенно своё. И нам остается восхищаться и наслаждаться «Карамельками»
Джавида, его прозой, так же, как и его живописью, и говорить ему спасибо за его
«Карамельки».
Нина
КРАСНОВА,
поэтесса,
член
Союза писателей Москвы
2
– 7 января
Москва
Письма
из архива Валерия Золотухина
__________________________________________________________________
ПИСЬМА
ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
Письмо
Валерия Золотухина Нине Красновой, 21 марта 2009 г.
(Написано шариковой
ручкой, синей пастой, на обороте листа с ксерокопией страницы из газеты
«Дагестанская правда» за 23 мая 2007 г.,
где напечатано эссе Валерия Золотухина о своем
друге –
художнике Джавиде Агамирзаеве)
21.03.09
Гениальная
(как
сказал о тебе Кобликов Петя, и я с ним согласен)
Нина!
Зачем
я тебя нагружаю этими письмами... Но это – ВЕК... пусть МОЙ ВЕК,
Золотухина, которому к выходу альманаха должно исполниться 68 лет, что тоже не
мало... Дел у тебя своих по горло и дальше... а тут разбирай почерк Распутина с
лупой – сдохнешь... Может быть, не все письма... Но важен Резник и Астафьев о
«Комдиве»... Альшиц о русских песнях... Филатов... Нагибин, Шифферс...
Комментарии
наговорю... написать не успею...
Где
я был 15 марта в день твоего рождения?!
Ю.
Кувалдин – настоящий мужик, и писатель хороший...
Я
ему за тебя благодарен... (...)
...Слёзы
и тоска. Храни тебя Бог!
P. S.
Письмо Дениса... – возвращение отца к жизни!
С
любовью вечной В. ЗОЛОТУХИН
1.
Валерий ЗОЛОТУХИН – Сергею ЗОЛОТУХИНУ, 17 января 2001 г.
(Письмо написано
карандашом)
Серёжа,
милый!
Не
унывай, ибо – это есть большой грех... Положись на жизнь самую. «Театр – не
стоит жизни», но и барабаны не стоят жизни...
Стоит
жизни – только жизнь...
А
жизнь – это и барабаны, и театр, и книги, и английский язык, и другие страны, и
музыка, и религия, и дождь, и полевые цветы и садовые, и женщины, и друзья, и
дети, и кино... и пр. и пр. – философия!
ПОКА
Я С ТОБОЙ, ТЕБЕ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ, а когда меня не будет, ты уже будешь
самостоятелен и самодостаточен... У тебя ещё полно времени для проб и
экспериментов – исторический факультет, компьютерное кино... Помни завет
мудрецов – ВСЕ БЕДЫ ЧЕЛОВЕКА – ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К СЕБЕ.
Видишь? – Не к другим, а к себе! Не надо.
Храни
тебя Бог!
Твой
– отец – В. ЗОЛОТУХИН
P. S.
Требовательность к себе необходима, но не чрезмерная.
27.01.2001
2.
Денис ЗОЛОТУХИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, февраль – март 2009 г.
(Письмо набрано на
компьютере)
«Батя,
батя, выйди к нам!»
Мусоргский
«Хованщина»
Дорогой
и любимый мой батя!
Как-то
я сказал в интервью, а потом и тебе, что в тебе Бог открыл мне Себя. Но мне
показалось, что при всём доверии и любви ко мне тебе было трудно не усмотреть в
моих словах некоторой нарочитости, даже льстивости... Я много об этом думал и
пришёл к выводу, что не должен был говорить это вслух, ибо сказанное мной
относится к тем вещам, о которых практически невозможно говорить не погрешая,
уж очень они тонки. Откровение Божие можно только переживать. Любое оформление
в слова кажется лживым. И тем не менее...
Когда
я говорю «папа», меня отбрасывает далеко в детство, где я, беспомощный и
бессмысленный, доверчиво лапотал, ни о чём не задумываясь. Потом ты стал для
меня «папуля». В этом, вполне уже осмысленно, я выражал свою сыновнюю любовь и
нежность к тебе. Однако не удивляйся, если я скажу, что отцом ты стал для меня
не тогда, когда я родился, а гораздо позже, в 90-м году. Тогда я пришёл из
армии, и у нас с тобой состоялся один разговор; ты его помнишь, я очень каялся,
что предал тебя, позволив в своей душе разделить твоё место другому человеку,
который по всем человеческим правилам имел, казалось, на то право. Оно бы так и
было справедливо... не будь тебя! Не дай Бог каким-либо образом обидеть его
память: мы оба знаем, что это была великая личность, при всех возможных ошибках
и огрехах, допущенных им в жизни, и в особенности по отношению к тебе! Пусть
память его остаётся незыблемой и священной и занимает в наших душах подобающее
ей место. Но есть одна весьма неуловимая грань, которая отличает отца от всех
остальных. Эту грань нельзя переступать, если не хотим оскорбить Бога...
Если
бы я был художником (но очень талантливым! иначе ничего не вышло бы)... то я бы
написал картину под названием «Богоявление». На этой картине была бы
запечатлена моя... наша с тобой... комната. Полумрак. Я, маленький мальчик,
спокойно засыпаю в своей кровати, потому что в метре-двух от меня, слегка
согнувшись над листами бумаги, полуосвещённый настольной лампой, спиной или
боком ко мне неподвижно сидишь ты. Да-да, ты абсолютно неподвижен, творящий,
как творит в тишине Бог. Я слышу, как эту тишину нарушает только скрип пера
(помнишь, ты любил писать пером, макая в чернильницу, хотя давно уже выпускали
шариковые ручки!), выводящий «На Исток-речушку, к детству моему». Ты писал эту
повесть для меня...
Подожди...
а может, это уже были «Дребезги»? Может быть... Но это не важно. Ведь я говорю
о картине, или нет – почти иконе! В ней нет времени, а только вечность, в
которой что бы ты ни писал!.. во всех обстоятельствах!.. ты пишешь всегда «На
Исток-речушку, к детству моему», и всегда пером, макая в чернильницу, хотя уже
давно в ходу были шариковые ручки!
Папуля,
это только тебе кажется, что ты пишешь о своём детстве. Нет. «К детству моему»
означает не твоё, а моё детство. Я почти въяве ощущаю ласковый летний алтайский
ветер, сухой песок, прилипший к моим ногам у нашего крылечка (хотя бы там его и
не было, всё равно он был, ведь это всё икона, образы, притчи!), запах давно разрушенной
школы, зелени в полях вперемешку с коровьим и конским помётом, крынки с
остатками парного молока... Мой дед... Опять же нет! Наш с тобой отец! мой
отец! на войне. Где-то бегают старшие братья, сестра... а я с загипсованной
ногой в Чемале, и ко мне раз в полгода приезжает мать.
Эта
мать – моя Родина. Она, родная... родная! Любящая и рвущаяся, не может ко мне
приезжать чаще, уж очень труден путь ко мне, да и не один я у неё... да и
война... где-то там, далеко... но постоянным фоном моего детства. Папуля, всё
это и бесконечно многое другое ты пишешь для меня в самое сердце, которое и
есть Исток-речушка. Ты смотришь «На Исток-речушку», проницая в глубины себя
самого там! рождаешь меня. Он – исток – не река, а всего лишь речушка, потому
что и сам я ещё маленький, окутываемый тишиной и покоем твоего пера, в этом
покое засыпаю и уношусь «к детству моему»...
Вот
этой иконой, овеянной тихим счастьем, и явил мне Себя Бог в Троице (посмею ли
написать! Ибо на этой иконе уже не я и ты, но Отец и Отрок и незримой молнией
Их Покой)! Явил не как грозный Судья или всесильный и премудрый Творец мира, а
как любящий Отец! И тебя Он подарил мне, как Свой образ, чтобы хоть немного
привыкнуть мне к тому великому счастью, которое уготовал Небесный от вечности
всем любящим Его... Любя тебя, я научаюсь любить Небесного Отца. И чем больше
люблю Его, тем ещё сильнее тебя, чтобы ещё и ещё более любить Его до упоения,
до бесконечности, в вечность, в которой умоляю Его, был бы и ты! И таю от
благодарности к Нему за такую неизреченную школу!
А
начало этому осознанию и было положено в том 90-м году, когда ты стал отцом,
сумев простить меня. Ты и раньше прощал, но только в этот раз твоё прощение
породило меня, как сына, ибо я осознал твою любовь, твоё отечество! И твоё
прощение-порождение унесло меня «На Исток-речушку, к детству моему», где и
положил начало Бог Своим откровениям мне в образах, притчах, гаданиях, через
всю мою жизнь, являя «по всей земли суды Свои», презрев всё моё негожество и
призывая в любовь Свою в возлюбленном Сыне Своём Иисусе Христе, явления
Которого во славе ожидаем... В образах нашей с тобой жизни это второе
пришествие породило меня! Я обрёл тебя, отца, от которого начало моего
богословия!
И
теперь, когда я говорю «батя», то в этом слове выражаю всю полноту надежды в
священной для меня истории нашей жизни, в которой «суды Господни». «Батя, батя,
выйди к нам!» А ещё и грусть, что не могу сделать для тебя хотя бы малой части
того, что сделал для меня ты. Но что бы я ни говорил тебе или о тебе, я всегда!
говорю и переживаю то, о чём написал тебе выше, из своего «Истока».
Денис
ЗОЛОТУХИН
февраль
– март 2009
3.
Леонид ФИЛАТОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 8 февраля 1982 г.
(Стихи Леонида
Филатова, посвященные Валерию Золотухину, написаны от руки, шариковой ручкой,
синей пастой)
***
Муха,
Муха, Золотуха,
Музыкальнейшее
ухо!
Но
при этом это ухо
И
к словесности не глухо.
Разреши
же, Золотуха,
Пожелать
тебе ни пуха.
Хорошо,
что ты не тюха
И
имеешь силу духа!..
С
ув.
Леонид
ФИЛАТОВ
8.II.82
г.
4.
Леонид ФИЛАТОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, апрель 1986 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, темно-синей пастой)
Дорогой
Валерий!
Пишу
«дорогой» не потому, что хочу соблюсти некие условности. Я всегда (как мне
кажется) тоньше и болезненнее ощущал наши с тобой сложные внутренние связи,
нежели ты. Может быть, иногда моё внимание, оберегание и любовь к тебе
принимали агрессивные и беспощадные формы (это я за собой знаю), но, к
сожалению, таков мой скверный характер, и в первые минуты конфликта я избыточно
трачу слова и энергию для объяснения очень простых и общепонятных вещей.
Если
ты помнишь, наш последний разговор (а он был поводом для моего последнего
яростного звонка, где я произнёс формулу «мой бывший друг Золотухин») касался способа
выяснений отношений между артистами театра на Таганке. Я не говорю – между
«друзьями», а именно между «артистами». Я допускаю, что не ко всем из наших
коллег мы относимся сердечно. Я допускаю, что кое-кого из них мы вправе не
любить. Я допускаю также, что за 20 лет совместной работы артист Вениамин
Смехов так и не сумел сделаться для тебя дорогим человеком.
Но
я не допускаю, чтобы ты не знал иных способов выяснения отношений между
мужчинами, кроме как привлечение посторонних судей, общественного мнения и
прочих организаций.
Ты
справедливо оскорбился на мой истерический звонок. Но ведь это же первый и
искренний порыв человека, которому ты, твоя жизнь и твои поступки
небезразличны! Пусть глупый, поспешный, но всё-таки искренний порыв. Я не могу
утверждать, что я был прав (я вообще бываю слишком поспешен в выводах), но то,
что я был искренен, – это чистая правда. В то время я так думал – в то время я
так сказал.
Ты
наблюдаешь меня не первый год – скажи, ну, кому бы ещё из артистов театра на
Таганке я позвонил со столь искренним и глубоким возмущением? Кто бы из них мог
больнее меня задеть и страшнее ранить? Кому бы из них я не мог простить любой
неточности, даже при моём чудовищном максимализме?
Казалось
бы, что мне? Я не люблю Эфроса и никогда этого не скрывал. Я ушёл из родных
стен, хотя это было очень тяжело и непросто. Я много работаю в других местах.
Короче, мне есть, чем заняться, и есть, где отвлечься. Но меня, как женщину,
всё равно тянет в место, где я чувствовал себя дома, где мне было хорошо. Я и
теперь (не из конкурентности) пытаюсь не пропустить ни одной твоей работы, я и
теперь читаю всё, что ты пишешь. Мне это интересно. При этом я, если ты
заметил, совершенно не требую от тебя интересоваться моей работой, провалами и
удачами. Мне достаточно и того, что мне интересно, чем занимаешься в искусстве
ты. Может быть, результатом этого небезразличия и явились наши последние
разговоры о театре, о Вениамине, о нравственности вообще. Результатом этого
небезразличия был и мой последний звонок (ты был в отлучке, я говорил с Тамарой).
А
теперь представь себе, что я, «возмущённый твоим поведением», звоню не тебе и
Тамаре, а, скажем, в ЦК профсоюзов, в Совет министров, в Скорую помощь, в
милицию... ну, и куда там ещё можно позвонить?.. Как бы ты отнёсся к такому
проявлению возмущения?.. А я всего лишь, искренне переживая, за две минуты до
отъезда в Ленинград набрал номер твоего телефона!.. Мне незачем было с
кем-нибудь советоваться или заручиться чьей-либо помощью. Я привык принимать
решения не коллегиально, а в одиночку. Пусть решения неправильные, те, о
которых я пожалею, - но всё-таки мои решения, о которых знаю только я и
мой оппонент. Неужели тебе, писателю, так уж невозможно это понять? И неужели
ты так уж незыблемо не сомневаешься в своей правоте?
Я
рад, что получил от тебя не письмо – пусть не письмо, но записку. И, конечно,
ужасно, что мы не увиделись в Италии. Честно говоря, я надеялся, Что мы могли
бы там долго и хорошо поговорить. У меня нет охоты комментировать эту злую и
глупую ленинградскую бумажку. Прекрасно, что ты и я уже успели отпить из этого
ведра с отравой и уже не отравляемся смертельно. Мир полон злых дураков,
заражённых жаждой убийства. Убить одного во имя второго, а второго – во имя
третьего... Наверное, меня бы это убило, если бы не горький опыт Володи,
который был выше нас, а уязвлялся так же больно. То Володя... А уж мы, бедные,
терпим в тысячу раз меньше.
Непонятно
только, зачем ты положил в конверт эту гадость? Какую пользу, кроме инфаркта,
может принести мне такая бумага? Какие уроки я должен извлечь из этой анонимки?
Я могу выслушать любые слова от людей, к которым отношусь с уважением, но никак
не от людей, которые трусливо прячутся в темноте зала и боятся себя назвать.
Я
думаю, в разговорах между мной и тобой следует обходиться без посредников. А
если уж цитировать что-нибудь, то минимум из Пушкина, а не из этих помоечных
«документов». Но это я уже так, вдогонку главной мысли...
Счастья
тебе, Валерий.
Искренне
любящий тебя
Леонид
ФИЛАТОВ
2.
апрель. 85.
5.
Леонид ФИЛАТОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, апрель 1986 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, темно-синей пастой)
Дорогой
Валерий!
Я
не поклонник всякого рода кампаний и коллективных воззваний и писем, поэтому
пишу индивидуальное. Так сложилась наша жизнь – наша с тобой – и по искусству,
и по судьбе, что я вынужден (прости за слово «вынужден», но оно будет вернее
всего) обращаться к тебе по целому ряду вопросов: и по Денискиным делам, и по
театру, и по литературе. Конечно, эта необходимость продиктована и моим личным
интересом к твоей работе, к твоей судьбе, к твоей личности. Я, надеюсь, не
зазнайка и не дурак, поэтому вообще интересуюсь всем, что представляет ценность
для меня лично. Я сам знаю цену страданию, а, значит, имею представление и о
таком чисто русском качестве, как милосердие и сострадание.
Недавно
Денис вернулся от тебя невероятно взволнованный, сообщил, что тебе плохо, что
нужно изобрести нечто, чтобы, не уязвив твоё самолюбие, помочь тебе. Мы сидели
и почти плакали. Он любит тебя. И я тебя люблю. Он совсем взрослый, он всё
понимает, он дал мне понять, что не всё может сказать, но верит, что я сильный
и благородный, и я понимаю, о чём идёт речь. Я обещал ему, что мы обязательно
будем все вместе. Так сложилась наша судьба, что мы не можем быть врозь, что ты
и я – мы всё равно что-то очень однородное, если не сказать, родное, хотя вроде
бы очень непохожи в физических проявлениях. Я поговорил с Ниной, и мы решили,
что мы будем вместе, может быть, даже в одном театре. Нельзя, нельзя расставаться,
мир жесток, а мы слабые, нам нужно только вместе. Я предпринял ряд разговоров
(прощупывающего характера) и выяснил, что это возможно, и не только возможно,
но и желательно. Разумеется, я ни слова не сказал о твоём желании или нежелании
поменять место работы, – я ведь не поговорил с тобой на эту тему и не имел
права говорить от твоего лица. Разговор шёл предположительный. Теперь я
понимаю, что мы были обмануты тобой.
Минуло
всего несколько дней – и я узнаю, что ты подписываешь (а вместе с тобой и ещё
ряд людей, мнение которых мне не безразлично) возмущённое письмо, адресованное
нам троим, причём даже не потрудившись выяснить, что именно было сказано на
юбилее «Современника».
Да,
было сказано несколько резкостей в адрес Эфроса. Но уж оставь за нами право относиться
к нему так, как мы считаем нужным. У каждого из нас, из ушедших, есть к нему
свой личный этический счёт. Почему ты берёшь на себя его грехи? Эфрос позволяет
себе высказываться по поводу нас не только в театральных аудиториях, но и в
печати, почему же нам отказано в праве ответить ему хотя бы в рамках
внутритеатрального вечера?
Если
бы случилось чудо, и Эфрос поставил вдруг спектакль, взрывающий душу, - я бы
простил ему все личные обиды, ибо искусство в таких тяжбах – лучший аргумент. Я
простил бы ему и спесь, и глухоту, и презрение к чужим традициям и чужой
истории. Но это не происходит, а обида остаётся. На встречах со зрителем Эфрос
пытается утверждать, что я ушёл из театра, испугавшись сложности процесса его
репетиций. Я, дескать, вообще не люблю работать, поэтому и ушёл туда, где
полегче. Но это же бред и демагогия!.. Разве в чужих станах работается легче?
Да и театр «Современник» - это место, где актёрам приходится работать в смысле
профессии гораздо больше, чем нам в былые времена. А кроме того, упрёк в
нежелании работать ко мне никак не применим, ведь я работаю ежедневно в течение
многих лет без единого выходного дня.
Ушёл
же я по причине неприятия человеческой индивидуальности Эфроса, по причине его
равнодушия ко всему, что не касается лично его. В его гипертрофированном
равнодушии и кроется главный корень бед театра. Отсюда и неуспех спектаклей, и
скука в труппе, и апатия к работе. Человек, который всерьёз полагает, что всё,
что было до него, и всё, что будет после него, - не заслуживает никакого
внимания, что истинное счастье для настоящего актёра – это возможность
поработать с ним, с Эфросом, - просто глуп и ничтожен.
Нельзя
выйти на контакт с миром, презирая этот мир. Чем же, как не презрением его к
людям, можно объяснить то обстоятельство, что в течение двух лет в театре не
стало Юры Медведева, Коли Губенко, Борьки Хмельницкого, Виталия Шаповалова,
Веньки Смехова, меня, Давида Боровского, Ефима Кучера, Анатолия Васильева? Эти
люди ушли по разным причинам, и всё-таки причина одна – личность Эфроса.
Теперь
о скандале. Он вырос по законам снежного
кома. Кто был заинтересован в создании прецедента? Конечно же, Эфрос и
несколько его покровителей. По Москве пошли слухи один чудовищнее другого.
Эфрос понял, что его индивидуальная обида не даст достаточного количества пены,
и решил, что упрёк лично в его адрес надо квалифицировать как оскорбление всего
театра. Это породило неуверенность в
рядах театра «Современник». Им исполнилось тридцать лет, целому ряду людей
должны присвоить звания. И вдруг – скандал, да ещё и по вине пришельцев. Не
зная масштабов грядущего наказания и желая сбалансировать ситуацию, ряд
артистов подписались под извинительным письмом. Их можно понять. Ведь никто из
них не ожидал такой громкой реакции. Более того, внутри театра наше выступление
поначалу не считалось чем-то из ряда вон выходящим.
Но
как в этой ситуации понять некоторых артистов театра на Таганке? Обо всех я не
говорю. В каждом театре есть люди, жаждущие крови. Одни это делают по
недомыслию и неинформированности, другие – из желания почувствовать себя человеком, от которого что-то зависит, третьи
– из зависти. Обо всех этих людях речи нет. Но – ты, но – Алла, но – Маша, но –
Татьяна! Где же ваши глаза и уши? Не сошли же вы с ума, в самом деле! О каком
оскорблении театра идёт речь? Прочитайте
хотя бы текст нашего выступления. Он может вызвать негативную реакцию только у
Эфроса, но это его личное дело. Я ушёл из театра по его причине, и имею право
на такое к нему отношение.
Ты
распорядился своей судьбой иначе, и это твоё право. Я не судил тебя за это.
Досадовал, может быть, но не судил. Почему же ты позволяешь себе судить мою
боль, мою тоску, мою жизнь? Я прочитал на этом злополучном вечере одно
печальное стихотворение, из-за которого, видимо, и поднялся весь сыр-бор. Если
в нём и есть укор в адрес моих товарищей, то он в адрес той лёгкости и
беспечности (а у отдельных людей – даже и ликования), с которой вы отнеслись у
нашему уходу. Но это опять же ваше право. У меня нет и не может быть обиды на
ребят. Всё же остальное в стихотворении имеет отношение к главному виновнику
происшедшего – к Эфросу, и только к нему.
Позор
и печаль нашего сегодняшнего с тобой объяснения заключается в твоей обычной неряшливости, Валерий. Прежде
чем подписывать всякого рода бумажные возмущения, ты должен был ознакомиться с
предметом этого возмущения. Ты же писатель, и тебе, как никому, известно, что
стихи не пересказываются своими словами. Их надо либо читать, либо не говорить
о них вообще.
Долгое
время я находил в себе душевные силы в ответ на чьи-то упрёки в твой адрес
категорически заявлять: прошу, мол, в моём присутствии о моём товарище... и т.
д. Мне казалось, что это своего рода порука памяти и уважения – не давать своих
в обиду. Теперь у меня кончились силы защищать тебя от тебя же. Я устал от
твоей двусмысленности и непоследовательности. В Будапеште ты написал мне доброе
и трогательное письмо, и я поверил в твою искренность, а буквально через
полмесяца, находясь далеко от Москвы, ты
без всякой логической связи уже говорил обо мне мерзости. Поверь, я не
обиделся, узнав об этом, я просто устал.
Какой
же ты в действительности, Валерий? Да и есть ли ты? Думаешь одно, говоришь
другое, поступаешь вообще вне связи с тем, что думаешь и говоришь. Я – человек
несовершенный, но в одном упрекнуть меня нельзя – в несоответствии идеи и
поступка. Это и даёт мне силы жить. Даже если мне однажды сломают шею, мне
будет легче умирать. Тебе, я думаю, будет труднее.
Люди
– сложные существа, в них всего намешано в избытке – и хорошего, и плохого. Ты,
видимо, объясняешь свою путаницу сложностью душевной конструкции. Но сложность
рисунка души не может уживаться с примитивной жестокостью и заурядным
прохиндейством. Прощай, Валерий! Я не знаю ответа на все вопросы, да, к тому
же, вообще не люблю давать советов. Каждый живёт в меру своего понимания. Ты
однажды сказал мне: у каждого своя нравственность. Это, конечно, глупость.
Нравственность – одна. И научить ей невозможно. Это в человеке либо есть, либо
нет.
Л.
ФИЛАТОВ
P. S.
Не удивлюсь, если ты покажешь это письмо Эфросу. Я теперь вообще ничему не
удивлюсь.
апрель
86
6.
Леонид ФИЛАТОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ (до 1986 г.)
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, темно-синей пастой)
Дорогой
Валерий!
Поздравляю
с самой точной, искренней, высокой вещью, которую ты когда-либо писал. Это
настоящая проза, скромная и ясная по языку, лишённая досадных стилизаторских
довесков «народности», свободная, раскованная, органичная, делающая лёгкие и
непринуждённые виражи из собственных кусков в описательные и наоборот, живая,
потому что воздействует на душу и заставляет даже меня, человека городского, не
имеющего воспоминаний, похожих (фактологически), ощущать и вспоминать что-то
мучительно сладкое и знакомое. Это очень хорошо!
Обнимаю
тебя
Л.
ФИЛАТОВ
7.
Борис ПОЛЕВОЙ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 15 июня 1973 г.
(Письмо отпечатано на
машинке, а подпись Бориса Полевого и дата письма написаны от руки, чернилами)
Дорогой
Валерий!
Простите,
что называю Вас так фамильярно, но, ей-богу, никто в «Юности» не смог бы
сообщить мне Ваше отчество. Да оно, для людей наших профессий, а общем-то и не
нужно. Бог с ним. Всего только устарелый византизм.
Перечитал
в сигнале Вашу маленькую повесть. Когда читаешь в сигнале, то есть в журнале,
все по-другому видится. Вот теперь могу сказать Вам, что очень неплохое
сочинение Вы создали. И мило, и свежо, и своеобразно.
Мне
бы очень не хотелось наносить какой-нибудь, хотя бы и самый малый, ущерб Юрию
Петровичу Любимову, моему доброму другу, и вообще славному Театру на Таганке.
На такие антикультурные действия я вообще не способен. Но если без ущерба
для основного производства, как это делают московские ударники, Вы сумеете
написать еще что-то, обязательно покажите в «Юности». С интересом будем ждать.
Всего,
всего хорошего и Вам и Вашему милому театру,
Ваш
Б.ПОЛЕВОЙ
15
июня 1973 г.
8.
Валентин РАСПУТИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 6 января 1978 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, синей пастой)
Дорогой
Валерий!
Наконец-то
посылаю «слово» своё. Оно искреннее, хотя, как мне кажется, работа над
рукописью ещё требуется, но, в основном, редакторская. Если что-то в этом
предисловии сказано неверно или неточно – мы обговорим при моём появлении в
Москве (а случится это, вероятно, уже скоро), и я с удовольствием поправлю.
Привет
Нине.
И
обоим – всего самого доброго на Таганке и дома.
В.
РАСПУТИН
6
янв. 78.
P. S.
А. Алексеевой в издательство я отослал 1-й экземпляр. А этот тебе на всякий
случай и на память.
9.
Валентин РАСПУТИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 11 января 1982 г.
(Письмо написано от
руки, очень мелким почерком, шариковой
ручкой)
11
января 82,
Иркутск
Дорогой
Валерий!
Мы
вроде были на «ты» - и вдруг опять «Вы»!
Но
это мне за то, наверное, что уж очень я виноват. Виноват и каюсь, и, как
водится, впредь обещаю...
Впредь
же обещаю наверняка телефона твоего никому не давать и с билетами людям
посторонним не досаждать. Но этот человек, для которого я по неосторожности
сделал исключение, по нашим понятиям и возможностям – человек всемогущий, и
если когда-нибудь понадобится в Иркутске перелететь с одной улицы на другую,
соседнюю, на вертолёте – он это устроит в два счёта, и даже с удовольствием.
Для нас с М. А. Ульяновым он нынче устроил на Байкале такой шторм, что мы на
его катере принялись уж было молиться – это и спасло.
Но
то, что он во второй раз сможет звонить с билетами, я не ожидал и сказал ему об
этом.
За
книжечку спасибо, но ещё раньше я получил её от алтайцев и рассказ прочёл. Рассказ
хороший – из той литературы, которую и литературой неприлично называть и оценки
ей давать неприлично. Это из души идёт и душой принимается – у автора как долг
перед собой и другими, у читателя – как что-то жданное, чего ему не хватало для
какого-то важного восполнения.
Теперь,
после этой книжки, можно, очевидно, вернуться к разговору о Союзе писателей.
Если ты, конечно, не передумал связываться с этой подозрительно-правильной
организацией. Я в январе – феврале собираюсь быть в Москве – тогда и поговорим
определённей.
Тамаре
и Сергею кланяюсь.
В.
РАСПУТИН
10.
Валентин РАСПУТИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 9 января 1986 г.
__________________________________________________________________
(Письмо написано от
руки, очень мелким почерком, шариковой ручкой, синей пастой)
9
янв. 86.
Дорогой
Валерий!
А
уж после – уважаемый
Валерий
Сергеевич!
Спасибо
за добрые новогодние слова. Я же, несчастный, воротясь домой только в последний
день старого года и безнадёжно опоздав с поздравлениями, помянул друзей и всех
близких мне людей, как в молитве, пожелал им, и тебе среди них, мужества и сил
в наступающем, судьбу попросил не лишать меня друзей и единомышленников, не
разрывать наш незримый оборонительный союз – и на том утешился. Вернее, думал
утешиться, утешения, однако, не было. Всё-таки раз хотя бы в году надо эту
оборону поддерживать дружеской перекличкой. И спасибо тебе за оклик, в мои годы
это уже трогает без дураков.
Иногда
вижу тебя по ящику, иногда слышу – талантлив, бодр, кипуч и могуч. Вы там в
столицах живёте в другом темпе, который мне недоступен, но, быть может, и я
порой заражаюсь вашей энергией, и на вас насылаю смиряющего и здорового
провинциального духа, чтоб отдохнули.
Словом,
ваш и с вами! Надеюсь в новом году на встречу.
Обнимаю,
В.
РАСПУТИН
11.
Валентин РАСПУТИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 6 декабря 1987 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой авторучкой, синей пастой)
6
декабря 1987.
Дорогой
Валерий Сергеевич!
Спасибо
за книгу. Взял её с собой на дачу, где после больницы прихожу в себя, и в первый
же вечер перечитал. Мал золотник, да дорог. Мне всегда было обидно, что так
мало тебе удаётся писать, и в этот раз перечитывал с тем же чувством. Вон
Евтушенко тоже актёр, а пишет, и много. Правда, он, кажется, ещё не открывает
кооперативную пельменную (или шашлычную?) на ул. Бакинских комиссаров, и ему не
надо убивать время на выращивание бычков.
Наша
беда и утешение: мы во всём пытаемся спасать не только народ, но и государство,
а оно знает лишь мешать своему спасению. Как бы то ни было, а пельменей, в
которых председатель? кооператива знает толк, отведать при случае надо.
Я,
признаться, вскрывал конверт с книжечкой с опаской. Боялся, что там, в
конверте, очередная вырезка из газеты, в которых подают меня ярым сторонником
Катунской ГЭС. Наполучал я этих вырезок с разных концов страны штук пятнадцать
с вопросами: правда ли? и как такое может быть?
Фокус,
который проделал со мной корр. ТАСС по Алтаю В. Садчиков хоть в хрестоматию
подлости заноси. Я слыхивал, что такое бывает, но к себе это приставить не мог.
И ведь не по глупости, не по бесшабашности он сделал это – сознательно. Сейчас
они так и начинают действовать. То же испытал на себе С. П. Залыгин.
Безнаказанным
оставлять подобное внимание, разумеется, нельзя. Я как раз сейчас и занят
очерком, в котором и Садчикову найдётся место. А при первом же случае скажу и
по ящику.
С
наступающим Новым годом, Валерий!
Здоровья
тебе, сил и удач за столом и на сцене, а уж в пельменной – как Бог даст!
Поклон
и поздравления с пожеланиями Тамаре.
Обнимаю
В.
РАСПУТИН
12.
Валентин РАСПУТИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 3 мая 1990 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, черной пастой)
3
мая 1990,
Иркутск
Дорогой
Валерий!
Спасибо
за письмо, почта действительно огромная, но почти не стало доброжелательных писем
– или жалобы, или недоумения по поводу каких-то слов, а в последнее время по
поводу моего нового положения, или проклятия как «фашисту»,
человеконенавистнику и т. д. Последние постепенно начинают убеждать меня, что я
исчадие ада и что мне остается рассчитывать на понимание только таких же, как
я. Не знаю, каков ты, давно не разговаривали, но я был рад твоему письму,
дорогой Валерий, его дружескому, понимающему и точному тону. Каков ты – я,
разумеется, знаю, поэтому и радуюсь привету от тебя. Сегодня, когда едва ли не
все, кажется, посходили с ума, чтобы не понимать друг друга и порывать друг с
другом, доброе слово и признание, что мы вместе, значит очень многое. Ты,
думаю, тоже удивился моему шагу в этот самый президентский совет. И я понимаю
прекрасно, что это больше, чем хомут, что, может быть, петля, но не попытаться
хоть по малости что-то сделать и оттуда, я не мог. Я не рассчитываю влиять,
выскочить, иметь вес и т. д., да и дело это совершенно для меня чужое, но надо
же кому-то замолвить словечко за вновь терзаемую со всех сторон нашу Расею.
Лучше
увидеться и поговорить. Буду в Москве, а буду скоро, позвоню. Вижу потребность
в разговоре.
Обнимаю
тебя
В.
РАСПУТИН
13.
Виктор АСТАФЬЕВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 24 марта 1986 г.
(Написано от руки, авторучкой,
чернилами, большом листе в клеточку)
Дорогой
Валерий!
Я
воспринял твой рассказ, как хлёсткую пародию на нашу экзальтированную
декламационную лже-литературу. Неужто ты задумывал его иным?
Желаю
доброго здоровья!
И
в Сибирь твою родимую докатилось наконец-то! первое дыхание весны. Днем
солнечно, первая капель, каркают вороны, трещат сороки, справляя свадьбы, и
тренькают синицы, хотя и знают, что яички ихние и птенцов малых пожрут совсем
осатаневшие вороны.
Кланяюсь
– Виктор Петрович
(В.
АСТАФЬЕВ)
24
марта 1986 г.
Красноярск
14.
Борис МОЖАЕВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 10 июля 1987 г.
(Рекомендация
отпечатана на машинке, подпись написана от руки, синей шариковой ручкой)
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Валерий
Золотухин давно знаком мне и как артист, и как литератор. В 1966 году я передал
в театр на Таганке инсценировку своей повести «Из жизни Федора Кузькина»
(«Живой»), где он играл главную роль. Во время репетиций я узнал, что Валерий
еще и пишет. Первые рассказы выдавали в нем литературную одаренность и... неопытность.
Живые естественные сцены перемежались подражательством известным образцам. Я,
может быть, с излишней прямотой и суровостью, сказал ему, что писать надо
только о том, что хорошо знаешь, и о том, что сам пережил. Валерий Золотухин –
этот театральный летописец (он ведет дневники с момента основания театра на
Таганке) понял, что то, чем он занимается, и есть прежде всего литературное
дело.
Вскоре
стали появляться его повести и рассказы на страницах журнала «Юность»: «На
Исток-речушку, к детству моему», «Дребезги», «Мой Лемешев», «Клоуны»,
«Земляки», «Комдив четырнадцатый» и другие. Затем вышли книги «На
Исток-речушку, к детству моему» (1978 г.) и «Печаль и смех моих крылечек» (1984
г.).
Самой
привлекательной чертой его, как писателя, является, на мой взгляд,
достоверность событий и характеров, о которых он пишет. Он не стесняется писать
о родственниках, о друзьях-приятелях, о земляках. Жизнь родного Алтая,
театральная жизнь – все это органично и живописно переплетается в его жизни и в
его творчестве. Превосходное знание русского языка, и литературного, и «матерого», так сказать,
придает особую прелесть и оригинальность его произведениям. Удаются ему и вещи,
созданные по документам и воспоминаниям людей старшего поколения. Примером тому
служит «Комдив четырнадцатый». Это произведение говорит о значительном
писательском потенциале В. Золотухина.
Короче
говоря, Валерий Сергеевич Золотухин – писатель состоявшийся; у него свой
оригинальный стиль, своя популярность. Принимать в Союз писателей его нужно. Я
горячо рекомендую сделать это.
(Б.
МОЖАЕВ)
чл.
Б. № 01164
10.07.87
г.
15.
Юрий НАГИБИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ
(Написано авторучкой,
чернилами)
Дорогой
Валерий!
Спасибо
за книгу. Прочел ее с большим удовольствием
и подписываюсь под каждым добрым словом Распутина из его серьезного и,
как всё у Грошевой, ответственного предисловия.
В
книге я кусок о Лемешеве исправил. В сборнике Грошевой сниму, когда она
вернется, в журнале уже ничего сделать не мог.
Но
вот какая штука: Лемешев никогда не пел «Степь да степь кругом». Он пел
многие ямщицкие песни, не лучшие, кроме двух: этой – про степь (ее пели тенора
из ансамбля Александрова), и «Колокольчик, дар Валдая» (ее пела Русланова и
др.). Наверное, бессознательная память об этом и требовала меня переменить
песню. Теперь песня просто не будет названа, чтобы не противоречить нашему
варианту. Будет госпиталь, безногий и голос певца.
С
уважением
Ю.
НАГИБИН
16.
Георгий БАКЛАНОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 15 мая 1987 г.
(Письмо написано от
руки, авторучкой, чернилами)
Дорогой
Валерий Сергеевич!
Спасибо
Вам за поздравление, за хорошее письмо. Отвечаю не сразу, т. к. живу за городом
и не часто заезжаю на почту, где оставляют всё.
И
мне было грустно в тот вечер 23-летия Таганки. Собрались многие из тех, кто
бывал ранее, но тогда была молодость, а сейчас пришли все сильно постаревшие. И
убедился, на всех на нас глядя, что нужно театру новое качество, восстанавливая
старые спектакли, далеко не уедешь. Ну, да Вы сами знаете это.
Жму
Вам руку и обнимаю.
Ваш
Г.
БАКЛАНОВ
15.05-87
г.
В.
Золотухину
P. S.
Срочно позвонить.
17.
Георгий БАКЛАНОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 15 июня 1986 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, голубой пастой)
15.06-86
г.
Дорогой
Валерий!
Я
прошу простить меня, что не отвечал так долго, но в семье моей были сплошные
болезни и операции, и ни мысли, ни руки уж ни до чего больше не доходили.
О
Вашем рассказе. Да, в нем много и неточностей и незнания, всё это, как Вы
правильно пишете, не простилось бы и Льву Толстому. Но Лев Толстой себе этого и
не позволял.
Мне
хочется о другом сказать: зачем Вы пишете о том, что ни Вами, ни Вашим
поколением не пережито, не было Вашей жизнью? У Вас есть своя жизнь, своё
время, которое очень значительно и о котором никто, кроме Вашего поколения, так
написать не сможет. Все наиболее значительные писатели (возьмем только наших
дней), кого Вы чтите, не стремились выходить за границы своего времени, оно
содержало и содержит так много, что жизни не хватает рассказать. Думаю, что
если Вам дано сказать своё слово, так только о своем времени. Ну, а если
это слово сказано глубоко и талантливо, оно способно вместить многие времена.
Не
обижайтесь. Я Вам добра желаю. Жму руку.
Г.
БАКЛАНОВ
18.
Валентин РЕЗНИК – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 16 февраля 1986 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, темно-синей пастой)
Дорогой
Валерий Сергеевич.
Только
что прочитал «Комдив четырнадцатый». Бросился к телефону. Никто не берёт
трубку. Хотел хоть как-то разрядиться впечатлением. Вещь сильная и по тому, о
чём, и как. Мне показалось лишь чуть-чуть затянутым самое начало рассказа. А
всё остальное зверски талантливо. Язык. Интонация. Допрос!!! И оттого, что ОН
есть на свете, этот Иван Зыбкин, реален, - вещь бьёт ещё сильнее. После «Русского
характера» А. Толстого не много я читал вещей такой силы. Поверьте, я мужик
начитанный. И со всей ответственностью заявляю. Вы написали вещь
хрестоматийную. О ней будут говорить и писать. Галя говорила, что это кусок
повести.
Спасибо
за откровенные замечания по Высоцкому. Все они в точку. Без дураков. Так не
часто приходится сталкиваться вот с таким вот строгим без скидок отношением к тому, что делаешь.
Поверьте,
о рассказе всё, как на духу. Я не виноват, что он меня так взволновал. С
удовольствием прицепился бы к какому-нибудь изъяну, да вот не нашёл. Всех благ.
Вал.
РЕЗНИК
16.II.86
г.
19.
Валентин РЕЗНИК – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 23 января 1993 г.
(Письмо
отпечатано на машинке)
Дорогой
Валерий Сергеевич!
Собрался
с духом и решил, хотя и с опозданием, а попробовать сказать несколько слов, а
точней - попытаться выразить впечатление от Ваших дневников. Последний раз я
прочитал их медленным, волнующим залпом с полгода назад. Так что пресловутая
дымка времени имеется в наличии. Разумеется, многие подробности, да еще при
моей дырявой памяти – ушли со сцены. Но здесь есть и свой плюс. То стойкое
впечатление, которое, вероятно, так и сохранится.
Довольно
начитанный во всякого рода дневниках и мемуарах (наиболее любимые и
перечитываемые: Монтень, Герцен, Короленко, Бунин, Гонкуры, Руссо, Коровин), я
почти не вспомню, так вот с ходу, аналогов. Может, бунинские «Окаянные дни»?
Тоже какая-то необязательная обязательность, срельстонность, переход на
личности, зашифрованность иных действующих лиц, что придает дополнительный
«нездоровый» интерес. Да и то, что они были напечатаны при жизни – чем-то
сродни Вашему дневнику. Но «Окаянные дни» - история. А в Вашем случае – это то,
что чуть не происходило на глазах. Не скрою, начиная читать и зная Вашу
искренность, я ожидал, как, впрочем, и все, что уровень Вашего откровения будет
много выше положенной нормы. Но «зашкаливать» начало уже с первых страниц.
Убежден, что больше всего повезло даже не Высоцкому, а Любимову. Такого живого
Режиссера (может, только Мейерхольд в записках Юрьева) в театральной литературе
– не припомню. Несколько коробит Ваше комплексование по отношению к иным своим
поступкам. Смертельно интересно читать, как Вы сами оцениваете свою работу над
ролями (вся эпопея с фильмом, который, как знает читатель, ляжет на полку. И
это знание задним числом тоже увеличивает драматизм этих страниц. У меня
ощущение, что дневники почти не тронуты ханжеством никакого порядка. А в такого
рода исповедальных записях избежать этого греха трудно. Не знаю, сократят ли
Ваши дневники количество рвущихся в артисты, но тот быт, муки творчества –
ничего, кроме уважения, лично у меня, к племени актеров не вызывают. Читать их
временами (Ваши дневники) было
невыносимо. Каково же писать и печатать.
Спасибо.
РЕЗНИК)
23/1-93
г.
Просьба,
ежели получите цидулю, звякните: 311-32-72
20.
В. ДГУСЬ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 19 апреля 1977 г.
(Письмо написано от
руки, на тетрадочном листе в клетку, шариковой ручкой, темно-синей пастой)
Уважаемый,
Валерий Сергеевич!
До
сих пор я думал, что ящуром болеют только парнокопытные животные (коровы, овцы,
свиньи, олени и т. д.). Из журнала «Сельская молодёжь» № 7, стр. 46, узнал, что болеют ящуром и лошади. И
что удивительно! Теперь и профилактику знаю против этой заразной болезни.
Спасибо Вам за такую новость, вместе с журналистом Олегом Белявским! Прямо
докторская! Только боюсь, а что? дойдет эта новина до Быстрого Истока? Ведь там
все лошади иржать будут.
С
приветом помощник ветеринара
В.
ДГУСЬ
19/IV-77
г.
21.
Владимир ГОГОЛЕВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 20 апреля 1979 г.
__________________________________________________________________
(Письмо отпечатано на
машинке)
Милостивый
государь, Валерий Сергеевич!
Я
полагаю, что в книге Вашей, которую мне случилось прочесть, Вы написали то, что
смогли, и, по всему вероятно, - то, что хотели. Каково бы ни было предстоящее
нам в творчестве – принуждающее, вдохновляющее, восторгающее, осиливающее нас –
в соединение с ним мы вступаем свободно.
Стилистическое же как, на сколько выставлять в качестве
критерия пред лицо Ваших произведений было бы непредусмотрительно. Во-первых,
содержательность их (произведений) не того рода, которая и в зародышевом
состоянии замысла существует
как нечто неотступное, почти полувоплощённое в некоей цельности, как нечто
припривязчивое и сжившееся с сознанием автора, который так и эдак (может быть,
и многократно) пытается преодолеть ее в должном словесном воплощении. Этим
знаменуется срединность, а точнее периферийность стилистических усилий. Окрай
этого – сомнамбулическая одарённость гениев, - они – не в границах
индивидуальной памяти и судьбы – призваны творить Воспоминание, понуждаемые
самой природой дара проницать за скорбной маской явлений онтологическую
красоту. Стилистика их – правда свидетельства, отчётливость видения, любовное
приятие его. Содержание так преобладающе, так таинственно, так порой цельно и
отчетливо, что главное поневоле заключается в возможно точной передаче его. И
вот рядом те, кому не дано непосредственного приобщения к Памяти, но кому не
отказано в стремлении к этому приобщению. Каждый призван осуществить в себе
приобщение к Воспоминанию, стало быть, осуществить свою гениальность. Мне
кажется, Вы идете именно этим путем, на котором, надо сразу сказать, отблески
Воспоминания лишь смутны и отрывочны («дребезги»), почти неуловимы для
воплощения, поэтому, как я настаиваю, перевес лежит на том, чтобы хоть как-то
донести это смутное и неуловимое до бумаги, а уж стилистическое выражение
неизбежно и даже нарочито остается второстепенным.
Во-вторых,
с этим отчасти перекликается Ваша сознательная установка на то, что можно
назвать хроникальностью. Пусть это не хроника движений и содроганий всего
народного тела, каковые гениально отразили русские летописи, но и «хроника
одной семьи» все равно остается хроникой. Летописать и живописать семью –
любовно отмечать отпочкования и ветвения его (народа) телесности, следить
извивы памяти народной, совершать, наконец на ней отблеск иной Семьи. Путь
познания родины Небесной, к счастью, лежит через познание и любование «родиной
малой», как бы ни была она действительно мала. «Этнографическая»,
«экзотическая» или еще какая-либо возможная «беллетризация» только уводят с
правого пути. Художественны ли летописи? Смешно было бы отрицать это. Они вовсе
не описывают какую бы то ни было данность, не стенографируют действительность,
но развертывают ее как миф. Но именно это –
было, прочее же не казалось, мнилось, присочинено.
Сознание народа требует хроники, летописи, словесного мавзолея. Земляки и
родные автора были правы, когда описанное приняли на свой счет – автор же
неправ, снижая свою задачу до психологического воспроизведения былых эмоций. Не
психология душевных движений ищется, даже не их цвет, запах и вкус, но их правда. Хроника, летопись и вот
эта психологическая беллетризация находятся в вопиющем противоречии на всем
пространстве Ваших произведений, что вздыбливает и корежит их художественную
ткань. Скорее всего, это противостояние, размежёванность русского онтологизма и
(назовем это так) западного психологизма образует болезненный разлом в сознании
самого автора, чем и объясняется наличие комплекса «интеллигенции». Ниже я
попытаюсь точнее выразить только что сказанное.
В
повести «Дребезги» в студенческом общежитии происходит столкновение отца и
главного героя с «некой группой лиц». Вы описываете их отменно неприятными
чертами, думаю, напрасно. Вот это я бы и назвал «беллетризацией». Кто,
собственно, перед нами? Некие люди, которых можно условно назвать
«идеологами». Идейно, подчеркиваю
это, они столь же чужды и даже враждебны мне, и с ними, очевидно, придется
вести смертельную борьбу, хорошо, если бы только с их «идеями». Однако, их
лживость проистекает как раз из их «идейности», а не от того, например, что они
несерьезно относятся к своим идеям или только на словах выражают их. Даже если
данность такова, то художественная правда выше данности. Изображать же своих
идейных противников пустословами, болтунами, вообще чем-то поверхностным,
словом, снижать их, - это и будет ложной беллетризацией. На другой стороне
«баррикады» стоит отец главного героя. В нем есть некая правда, но она вовсе не
«идейного» порядка, ибо его уж никак «идеологом» не назовешь. У него, пожалуй,
есть то, что можно назвать «идеями», но «идейным» человеком он все-таки не
является, ибо не наличествует требуемая для этого свобода выбора идей. Таким
образом, Вы сталкиваете внешнюю неправду с внутренней правдивостью, тем самым
оставаясь в границах психологизма, ибо требовалось обличить как раз внутреннюю
неправду противостоящих идей.
Как
раз в этом месте намечается особенно резкий крен в сторону этого психологизма,
в частности, вся сцена с «причащением» навеяна им. Написана она чуть не в
фрейдистском духе. Доходит даже до «надругательства», «до предательства отца
сыном». Вопрос же гораздо яснее и проще. Либо это студенческая не очень ловкая
хохма, либо опять-таки не очень адекватно выраженная, но действующая жажда
культового общения. В любом случае, даже в случае «комедийного осмеяния» это не
столь уж осудительно. Но, на мой взгляд, автор в этот момент настолько
основательно увязает в психологизме, что она заслоняет от его взора простую и
самоочевидную правду факта. Иначе нельзя ничем объяснить ту приглушенность, с
какой проходят на этом фоне «посшибленные с Сенькой Рваным церкви». Не цензурой
же? Я, во всяком случае, со своей стороны должен оговорить отсутствие у меня
подобного критерия при оценке словесных произведений.
В
заключение хочу пожелать Вам скорейшего самоопределения,
а точнее духовного возвращения на родину. Думаю, что это не может быть
воспринято как дидактическое, сверху идущее пожелание, ибо я не знаю ничего
другого, чего бы я мог больше пожелать и самому себе. И всякому русскому
человеку мне остается пожелать именно этого.
На
этом пожелании позвольте откланяться.
В.
ГОГОЛЕВ
20.
4. 1979
22.
Владимир ТУРБИН – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 15 декабря 1980 г.
(Письмо отпечатано на
машинке)
Глубокоуважаемый
Валерий Сергеевич,
дорогой
Моцарт,
принадлежа
к типу педанта, Сальери, прямолинейно считая любое обещание математически
непреложным, я вчерась весь день ждал Вашего звонка, за которым должно было
последовать приглашение на «Дом...» («Дом на набережной». – Ред.). Такового не
последовало. Если Вас не отравили, если Вы здоровы и если приглашение остается
в силе, - дайте, пожалуйста, знать о себе.
С
уважением
В.
ТУРБИН
15.12.1980.
23.
Евгений ШИФФЕРС – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 10 декабря 1987 г.
(Дата письма и
подпись написаны от руки, черной авторучкой, письмо отпечатано на машинке)
10
декабря 1987 г., М-а
Дорогой
мой,
я
пишу на машинке, потому что почерк мой уже не могу сам разбирать. Я получил
твой подарок, - спасибо тебе за нежное внимание, - и даже прочел кое-что (не
всё! «попорхал», как говорил Вас. Вас. Розанов). Ты не сердись, - медитация и
«молитва» отучают от чтения художественных выдуманных историй, если только
сквозь них, то есть сквозь бумагу и буквы, не проступает огонь Креста, как,
скажем, у Достоевского... хотя и его читать трудно, - но «Земляков» я прочел, и, по-моему, это сделано хорошо.
Читал ли ты, скажем, «Опавшие листья» Розанова? Экзистенциально-художественный
дневник, не «выдуманные» персонажи, а переплав слез жизни с художественным
даром, - такая «путаница жанров» могла бы только приветствоваться, на мой вкус.
Посему, еще раз, - по «Землякам» не только порхал, но прочел от-и-до, и считаю
хорошей прозой, и советую так вот и писать дальше, хотя, конечно же, смерть
любимых не будет уж слишком часто кормить нас, грешных, для творчества, а?
...я
недавно видел Карякина, известного специалиста по Достоевскому, на семинаре по
Достоевскому в Ленинграде, куда меня неосторожно какой-то сумасшедший тоже
позвал, - я там сильно на них покричал, а Юрий Федорович как бы тоже
стал на мою сторону, - ну, это детали, суть не в этом, а в том, что я перед
поездкой перечитал «Братьев Карамазовых» (тема моего доклада, превратившегося в
крик, была «агиократия», «власть святых»: как самобытная модель систем
управления, то есть не автократия, не демократия, а «агиократия» и даже
Мариократия, если не помнить, что русские святые старцы свидетельствуют, что
Мария Богородица так же воскресла, как и Иисус, и Живая по Успении правит
миром: тихо и скромно, лишь иногда являясь также «тихим» святым, - так вот я
перечитал роман и поразился до слез главой «Похороны Илюшечки»...
действительно, Инквизитор, Бердяев, Шигалев и т. д., - все эти взрослые вещи
как-то больше занимают раньше... раньше чего? Ну, вот этой самой молитвы... да
и старость физическая уже при мне: Вл. Сергеевич Соловьев на шесть лет ранее
меня, если заберут в этом году, ушел, - ну-с, вот что я подумал (сейчас, когда
прочел заключение «Земляков»): если бы ты взял на себя труд и охоту
решить все промежуточные дела с театром
вашим, то я бы с тобой повозился, как со штабс-капитаном Снегиревым, да
еще и поучившись вместе над Достоевским (тот же Розанов: если перечитать и
передумать Достоевского, то можно стать Сократом). У меня есть кое-какие
идеи... но, может быть, и это суета, так что предоставим все благой воле
Богородицы.
Обнимаю
тебя и твоих кровных,
Свет
Распятия светит во всех сердцах,
надо
только не полениться подставить себя Ему.
+
Евг.
(Евгений
ШИФФЕРС)
24.
Лев АЛЬШИЦ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 1990 г.
(Письмо отпечатано на
машинке, первый экземпляр с подписью Льва Альшица, от руки; судя по тексту
письма, оно написано через десять лет после смерти Владимира Высоцкого, то есть
дата письма - 1990 г.)
УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ.
С
чувством глубокого удовлетворения прочел вашу статью в «Лит. газете». Как вы
понимаете, я перед этим прочел статью и Смирнова о том, что творилось на
Шукшинских чтениях, и как еврей был огорчен. Помню тогда знакомый мне
литературовед с неким злорадством бросил: «Вот он какой, твой Золотухин»...
Но,
во-первых, я не склонен к скоропалительным суждениям. Во-вторых, склонен верить
лишь тому, чему сам был свидетель. И, в-третьих, а это самое главное, ваша
книжка, что вы мне подарили, ваши письма говорили совсем о другом настрое вашей
души и ума. А теперь с вашей статьей все разъяснилось и встало на свое место.
Вы как были для меня, так и остались. Всяческих вам удач.
А
теперь я хотел бы поделиться с вами одной мыслью, вызванной вашим замечанием,
что наши «ребята» не любят слушать «Камаринскую», «Калинку» и т. д. Понятно,
что для каждого народа самые лучшие песни – это его песни. Но это же их
субъективная оценка. Мало ли народов, чьи песни нравятся только ему самому, а
больше никому.
Я
почти не встречал людей, которые бы любили старинные народные песни подобные
тем, что поет хор имени Пятницкого. Очень многие, в том числе и я, выключают
телевизор, радио, когда он поет. Почему? Не знаю. Может, уж очень архаическая
манера пения или мелодии некрасивые. Кстати, нигде эти песни не получили
распространения, кроме России. Ни один народ их больше не поет. А, между
прочим, по всему миру разошлись «Очи черные», «Катюша», «Подмосковные вечера».
Иначе говоря, русский романс, советские песни полюбились всюду, а наши народные
песни – нет. Или настрой у них специфический, или они объективно не так уж
хороши. Но есть же такие народные песни, что полюбились всем народам, скажем,
неаполитанские... видимо, они и объективно прекрасны.
Понятно,
что русским дороже «Камаринская», а грузинам – лезгинка. И все же лезгинка мне
представляется грациозней. Лезгинку везде любят, а «Камаринскую» - не везде.
Видимо, у них разное качество, или, точнее, разная степень их доходчивости.
Но
симпатии или антипатии человека к тем или иным танцам, песням ничего еще не
говорят о нем. Был на моем курсе истфака ЛГУ Георгий Цейтлин, который лучше
всех танцевал вальс-бостон. И был некий Николай Тимберг, комсомольский «вождь»
курса, который на комсомольских конференциях лихо отплясывал в перерывах «камаринскую», а то и
«цыганочку». Началась война, и Цейтлин в числе первых ушел на фронт и погиб.
Тимберг не пошел, а позже был расстрелян за дезертирство.
Иные
полицаи в войну, залившись самогонкой, лихо отплясывали «русского», а потом шли
и убивали русских людей, не щадя никого...
P. S.
Извините, что своими мыслями оторвал вас от дел, которых у вас прорва. Все еще
читаю лекции о Высоцком, но реже. Добавилась такая мысль: хотите знать, что
значит всенародная тропа?.. Придите на могилу Высоцкого. Десятый год она плывет
в море живых цветов. Народ их приносит сюда столько, что хватило бы, да еще с
избытком, на всю кремлевскую стену бессмертия...
Успехов
и благ вам, вашей семье.
Лев
АЛЬШИЦ
25.
Юрий ЛЮБИМОВ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 7 апреля 1992 г.
(Письмо написано на
стандартном листе бумаги, поперек листа, от руки, авторучкой с сине-голубыми
чернилами)
Дорогой
Валерий.
Ситуация
в театре требует твоего исполнения.
Прошу
приехать (сделать блокаду и играть – выхода нет.)
Твой
Ю.
ЛЮБИМОВ
P. S.
Пишет старый блокадник.
26.
Леонид ХЕЙФЕЦ – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 4 сентября 1992 г.
(Письмо написано от
руки, шариковой ручкой, синей пастой)
Дорогой
Валерий!
Испытываю,
поверь, чувство вины перед тобой – не видел тебя давно. «Павла» не смотрю – в общем,
погряз я в круговерти, а, главное, страшно вымотал меня «Маскарад» - до сих пор
очухаться не могу.
По-прежнему
слышу хорошие отзывы о тебе и, не скрою, счастлив.
Желаю
тебе добра и здоровья.
Любящий
тебя
Лёня
ХЕЙФЕЦ
4/XI-92
г.
27.
Татьяна Ю. «ФОРУМ» – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 5 октября 2004 г.
(Распечатка текста из
Интернета)
Театр
на Таганке: Сообщение
из
1
ФОРУМ
ЗОЛОТУХИНУ
В. С.
Ю.
Татьяна, 5 октября, 21:05
Уважаемый
Валерий Сергеевич. Хочу обратиться к Вам, как к замечательному артисту и человеку.
Выражаю Вам свое огромное к Вам уважение, симпатию и благодарность. Этим летом,
в свои еще 18 лет, я впервые увидела передачу о Высоцком В. С. Была поражена
силой характера, слова, таланта. Меня парализовала его манера исполнения –
сумасшедшая, бешеная, и при том некая скромность, что ли, между прочтением
стихов и исполнением песен. Весь остаток лета собирала о нем матерьял –
скудный, надо сказать. И вот купила Вашу книгу – «Секрет Высоцкого». В ней Вы
писали, что кто-то купит Вашу книгу, чтобы найти любимые имена. Вы были правы.
Но нашла я Вас. Еще, конечно, Театр, Любимова. Теперь я Ваша «поклонница».
Читая «Таганский дневник», все больше и больше окунаюсь во всю атмосферу Вашей
жизни и жизни Таганки. И это, надо сказать, потрясающе. Стыдно признаться, но
только благодаря Вам я начала перечитывать наших писателей и читать то, что и
не знала. Вы, я думаю, примерно представляете, что читают сейчас. Хотя я и
избирательна. Плюс ко всему я стала больше писать сама. Раньше я только
пописывала – под настроение, теперь это как-то серьезнее стало. И все впереди.
Вы
потрясающий человек! Ваше отношение к жизни, к людям меня очень изменило. Даже
где-то Бога стала вспоминать и «под ним», так сказать. Трудно самому себе
сказать «все будет хорошо», поэтому мы ищем кого-то, кто скажет это нам.
Странное дело, но я нашла этого человека именно в Вас. Очень радуют Ваши роли в
кино. Смотрела пока очень мало. Недавно случайно наткнулась на «Интервенцию».
Очень смеялась, улыбалась. Хочется жить – вот что. Спасибо огромное. Теперь вот
одна у меня мечта – Вас увидеть «в деле». Юрия Петровича. Большие вы люди,
здоровья Вам, счастья. Скорее бы в Москву, раз в Питер Вы не собираетесь пока.
Жаль. От всего сердца – спасибо! Всего Вам хорошего!
Ответить
на сообщение
http://taganka.theatre.ru/forum/message62617.html
09.11.2004
28.
Наталья КРЫМОВА – Валерию ЗОЛОТУХИНУ
__________________________________________________________________
(Письмо отпечатано на
машинке)
Валера!
Прости,
что долго не откликалась на рассказ – долго и не читала его, хотя и положила на
должное место. Сейчас прочитала и, хотя работа очень напряженная и дома тяжело,
второй день уже то и дело вспоминаю – не выходит из головы. Сообрази сам, - это
при нашей-то жизни, при моем теперешнем крайнем напряжении рассказ твой
сидит в голове! Для меня это лучшее доказательство, что кто-то написал
настоящее, и я это беру в себя. Хотя гораздо больше и чаще чего – не беру,
отпихиваю и забываю безо всяких усилий.
Почему
так? Знаешь, он (рассказ) напомнил мне лучшие Володины песни – ткань реальная
предельно, но где-то за ней, под ней, не знаю, где – какая-то странность,
какая-то загвоздка. То ли было, то ли приснилось, все могло быть так, но и почти
не могло. В этом «почти» и есть поэзия, в данном случае особенно замечательная,
потому что описано страшное. Потому и пристраивается этот рассказ к тем песням.
О войне ни читать, ни слушать не хочется. И надоело, и всякими соплями и
демагогией тема окружена, и грядущее, мягко говоря, не мирно. А тут читаешь и
читаешь, и почти сидит в тебе и не покидает. Единственное, что слегка резануло
– это береза в финале. Но, м. б., я и не права. Я не люблю таких жестов, хоть
они и считаются «народными». Слишком часто считаются – это уж береза виновата,
ее к этому делу приспособили.
Ты
не просто молодец, ты просто – писатель. И не «ручеек не иссяк», а течет речка.
Обнимаю
тебя и поздравляю. Т. к. литература – мучительное дело, я верю, что ты не
заважничаешь. Слишком нелегко достаются нам слова с какого-то момента. Я их
сейчас просто отвоевываю у быта, у всяких забот и у того, что ощущаешь иногда
как предел сил. Тем они (слова) дороже – это я не о своих, а о твоих.
Наташа
КРЫМОВА
P. S.
Так как мы с тобой редко видимся, хочу сказать тебе, что собственными усилиями
(буквально) что-то мы очень значительное сделали с этой «комиссией» по делам
Володи. Будто открыли какую-то дверь. В нее успели войти и чинуши, и всякая
дрянь, но ведь и положение изменилось. М. б., на время.
Я
завалена работой, нервничаю от ответственности, иногда хочу все бросить, но
знаю, что нельзя. Иначе будет хуже. А что-то есть в этом такое, над чем он там,
сверху, посмеивается, я уверена. А на западе говорят, что все это – «признаки
либерализации режима». Значит своей рукой эти мнимые признаки мы и породили.
Вот где реальная правда, которая никогда никому не нужна. Дальше время и эту
преобразует.
Н.
29.
Сергей БОРТНИК – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 29 марта 2000 г.
(Письмо набрано на компьютере,
подпись Сергея Бортника написана авторучкой, синими чернилами)
Среда,
29 марта 2000 г.
Любезный
Валерий Сергеевич!
Прочитал
я «На плахе» и еще раз подумал, что публиковать дневники вообще – дело
неблагодарное. Эти материалы пусть изучают исследователи эпохи или жизни
персоны, для читателя беллетристики это не подходит. Хотя в «Плахе» есть letters, по-моему,
действительно, belles,
как, напр., картинка о шмеле и стрекозе, приколотых булавками. Мое общее
впечатление от книги очень устойчивое, сильное, и, главное, непонятно, откуда
взявшееся – впечатление того, что все,
решительно все – в невозвратном прошлом. К тому же и твоя надпись с намеком
на какие-то надежды. 13 лет тому мне
подарили Торо и Эмерсона с надписью с тем же намеком – и что же?
Всю
«На плахе Таганки» прочитал единым духом, спасибо тебе и мои поздравления тебе.
Книга хороша, но не для всех поголовно, что ясно поголовно всем, надеюсь. Хотел показать
Раките, как выглядит его фамилия, напечатанная в настоящей книжке, да Ира без
спросу отдала кому-то читать, за что схлопотала выговор с занесением.
А
зачем тебе ССП? ССП не та же ли ИПП – Имперская Палата Писателей при Гитлере?
Как ФСБ=SD (Sicherheitsdienst). Почти в точности одно
и то ж. Казалось бы – совершенно различные, конечно, организации, а по
«сверхзадачам», которые перед вами поставлены, абсолютно один черт.
Расскажу
про свою жизнь. Жизнь моя плохая. Ходить практически не могу, всячески избегаю,
руки тоже далеки от совершенства, поэтому не пишу, а печатаю – так мне проще.
Это все последствия инсульта, кот. тяпнул меня чуть более года назад. У меня
есть собака черного цвета, довольно бестолковая, ризен-шнауцер. Толку от нее не
очень много. Основные занятия – чтение, ожидание гостей (напрасное), телевизор
и компьютер без интернета. Нашел интересного писателя – Иван Наживин,
эмигрант-антисоветсчик. Хорошо бы почитать, да хрен достанешь. За последнее время перечитал 9 т. Бунина, 12 т. Тургенева, 1 т. Золотухина и несметное
количество всякой туфты, в т. ч. Хулио Кортасара, нечто толстое про домашние
растения и про издание творений В. И. Ленина на монгольском языке и еще
много-много всего, а мой читательский голод все не удовлетворен, да и не будет
никогда.
Боюсь
сказать, что хочу тебя видеть, а боюсь потому, что такое заявление, бывает,
воспринимается чуть не как оскорбительное, ей-ей. А все-таки хочу. Адрес:
Москва, 117571, ул. 26-и Бакинских комиссаров, д. 1, кв. 49 в 4-м этаже. Тел.
935-33-59. Это в 4-х шагах от метро «Юго-Западная». Иван все знает, Иван все
расскажет. Поклон несравненной Томке. А чтой-то ты ко мне на ВЫ? Будто не
ссорились ведь. Как говорится, Je reste avec respect
et une amitié
énternelle Ton trés humble et trés obeisant serviteur С. П. Бортник.
P. S.
Очень хорошее сообщение – трол. 62, что бежит прямо до меня по Ленпроспекту и
поворачивает на этих самых Комиссаров. Надумаешь – приезжай во всякий день,
кроме 6 апреля, это мой день рождения, будет родня. Во всякий день!
С
любовью, С. П. БОРТНИК
30.
Сергей САПОЖНИКОВ, Ирина ПРОКОФЬЕВА – Валерию ЗОЛОТУХИНУ, 2007 г.
(Письмо набрано на
компьютере)
День
Высоцкого
Дорогой
Валерий Сергеевич!
Вчера,
25 января, мы с женой метались между первым и третьим телеканалом, пытаясь
успеть выловить твои с Ирочкой Линдт выходы. Чудится мне, что до этого дня так
обстоятельно и серьёзно телепрограмм о Высоцком ещё не делалось, а вот
впечатление о программе «Своя колея» ключевым образом определилось, благодаря
твоему царственному ведению этого вечера в дуэте с полнокровной (не худосочно
вторящей барину-лидеру), реактивной и многоликой Ирочкой Линдт. Разумеется, как
положено, и здесь традиционно мелькали ярлыки, наклеенные на участников
программы, – «Друг Высоцкого», «Сын Высоцкого», «Свидетель поведения
Высоцкого». Но достоинством программы стал уважительный тон, устоявшееся
общественное понимание, что Высоцкий – не просто жертва идеологии, но гений,
ставший в эпоху духовного дефолта и девальвации личности полярно
противоположным символом этого странного прекрасно-безобразного времени, в
которое нам с тобою суждено было родиться и воспитаться.
Значимость
твоя была не только в замечательном артистическом исполнении своих номеров, ты
был истинным хозяином на артистическом Олимпе, спокойным, как сапёр, готовый к
любому взрыву, уверенным, как капитан корабля, в многобалльный шторм, считающий
валы, в ожидании девятого, хитрым, любопытным, неравнодушным к иным участникам
концерта, как Одиссей, привязавший себя к мачте, дабы послушать манящие
завораживающие песни сирен, но не попытаться их, соблазнительных до скрежета
зубовного, трахнуть ценою собственной жизни... Да, собственно говоря, о чём тут
говорить, господа-товарищи? Какие там сирены? Когда в твоей антрепризе была
представлена соблазнительная и сладкоголосая Ирина Линдт!
Каждый
твой выход на арену был значимым, серьёзным и запоминающимся. Например, мы,
развесив уши, слушали космонавта, поведавшего о том, как в обесточенном,
плывущем во тьме космическом корабле с появлением солнца начала возрождаться не
только электроэнергия, давшая живительный свет, но и зазвучало: «Чуть
помедленнее, кони...», встрепенувшее душу. Чудесная аллюзия: солнце – Высоцкий!
И в это время показали твоё распахнутое навстречу рассказу лицо, дающее
телезрителям тоже энергетическую подпитку, для их собственного любопытства. То
бишь, твоё лицо стало образом
любопытства, поскольку ты великолепно ощущаешь даже в действиях второго плана и
уровня свою артистическую, публично замеченную роль в этом шоу. Это пустяк: Да
нет! Большинство артистов, например, на вечерах Швыдкого, расскажут какой-либо
случай и, исчерпав суть, беспомощно толкут
воду в ступе, буксуют, заполняя образовавшееся свободное время,
подтверждая истину, что актёр – пустой сосуд, заполняемый извне содержимым. Иное
дело – Золотухин! В тебе, как в дорогом элитном автомобиле, избыток энергии
двигателя позволяет мгновенно выполнить любой манёвр в неожиданной ситуации.
Кроме того, ты как лидер программы правильно ориентировал публику. Например,
прекрасно усилил значение аплодисментов зала, воздав должное балетной паре,
воплотившей цыганскую истовую смертную тоску «Коней», поставил акцент на
замечательном запойно-угарном исполнении этой песни Гариком Сукачёвым.
Мне
пришла после вашей телепрограммы, казалось бы, неразрешимая разгадка парадокса,
которого, правда, для большинства людей вообще не существует, а именно:
ощущения противоречия в Высоцком творце-исполнителе и актёре. Издревле ведомо,
что творить стихи и песни и исполнять их – это разные роды искусства.
Ахмадуллина свои гениальные стихи скулит монотонным невнятным голоском, закинув
голову к луне; у Вознесенского каша во рту и склеротически невнятная мимика;
Евтушенко имеет странный внешний облик состарившегося стиляги, противоречащий
его замечательным стихам; Бродский произносит свои стихи заунывно, как
уволенный из синагоги за политику кантор. Как поют свои песни даже хорошие
композиторы – за редкими исключениями (Женя Мартынов), лучше не вспоминать. Но
Высоцкий, когда показали фрагмент его исполнения песни крупным планом на
большом экране, - совсем другое дело! Его голос и мимика в соответствии с
каждым добрым, гневным, ироничным, весёлым найденным собственным словом
собственной песни, переливаются, бликуют, флоресцируют... Крупный план
раскрывает гениальное соответствие творца и исполнителя.
А
чужое в его артистическом исполнении? На этом вечере показали маленький
фрагмент из пушкинского Каменного гостя
в исполнении Высоцкого – гениально произнесено и мизансценически оформлено
каждое слово! И понятно, почему. Донжуановские страсти – часть натуры и образ
жизни самого Владимира Семёновича. Другой пример: Жиглов из фильма «Место
встречи изменить нельзя»? Никакого образного противоречия – это близкий
Высоцкому персонаж его ранних песен! Однако, на мой взгляд, могучая, страстная
творческая натура Высоцкого не пропускает в свою актёрскую душу многие великие
произведения, словно бы его организм отторгает чужую группу крови. Он страстно
переходит на крик, движения становятся чрезмерно порывистыми, актёрская
многослойность восприятия себя на сцене словно парализуется в нём – он, забывая
законы лицедейства, превращается в вышедшего из себя от гнева человека! Шоковый
удар для зрителя происходит, но это скорее победа ярости над флегмой, чем
результат воздействия художественного образа. Я лично так воспринимаю и Гамлета,
и Хлопушу в его исполнении. Другое дело – Дон Жуан, а образе которого - управляемая страсть, рыцарское
самопожертвование, владение разума над болью...
Вот
такие странные мысли родились после созерцания передач, посвящённых дню
рождения Высоцкого. Надеюсь, это письмо – твоё личное достояние, без
всенародного обсуждения его и нанесения болезненных уколов поклонникам
Высоцкого, каковым я и являюсь во веки веков.
Поздравляем
ещё раз -
Сергей
САПОЖНИКОВ,
Ирина
ПРОКОФЬЕВА
Нина
Краснова. Комментарии к письмам из архива Валерия Золотухина
Нина
Краснова
КОММЕНТАРИИ
К ПИСЬМАМ
ИЗ
АРХИВА ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
Я
попросила Валерия Золотухина дать мне какие-то свои материалы для «Эоловой арфы».
Он дал мне часть своего эпистолярного архива: письма писателей Виктора Астафьева, Юрия Нагибина, Валентина
Распутина, Бориса Можаева, главного редактора журнала «Юность» Бориса Полевого,
главного редактора журнала «Знамя» Георгия Бакланова, поэта Валентина Резника,
письмо-записку главного режиссёра Театра на Таганке Юрия Любимова, артиста
Леонида Филатова, брата артиста Ивана Бортника – Сергея Бортника, композитора
Сергея Сапожникова, богослова и специалиста по Достоевскому Евгения Шифферса,
филолога Владимира Гоголева, Леонида Хейфеца, Льва Альшица, жены режиссёра
Анатолия Эфроса Натальи Крымовой, читателя В. Дгуся из Быстрого Истока,
читательницы Татьяны Ю. из Петербурга, а также письмо своего сына Дениса
Золотухина и своё письмо своему сыну Сергею Золотухину. 30 эпистолярных единиц.
Все
эти письма я набирала на компьютере и читала с большим интересом и энтузиазмом
и удовольствием, как в пору своего студенчества и постстуденчества, когда
печатала на машинке «Оптима» вещи для Владимира Солоухина и Виктора Астафьева и
сознавала, что выполняю высокую миссию служения литературе.
Валерий
Золотухин хотел и собирался сделать свои комментарии к этим письмам, как только
немного освободится. Но я поняла, что освободится он не скоро, поскольку он всё
время находится в цейтноте и то снимается в фильмах, то играет в спектаклях и
выступает в концертах, то записывается на ТВ, то даёт интервью журналистам, и
всё время разъезжает с гастролями по стране и по миру, то уезжает в Барнаул, то
в Киев, то в Калугу, то в Ярославль, то в Сибирь, то на Дальний Восток, то ещё
куда-то, то за границу, да ещё при этом каждый день ведёт свои дневники, по
принципу Юрия Олеши «ни дня без строчки!», и я решила написать свои
комментарии... К тому же вчера Валерий Золотухин спросил у меня: а как ты сама
смотришь на эти письма и что ты сама можешь сказать о них, как можешь
прокомментировать их (какие свои комментарии можешь сделать к ним)? И я поняла,
что ему хочется узнать моё мнение об этих его письмах... И я стукнула себя по
голове и сказала себе: «Что ты ждешь каких-то комментариев от Валерия
Золотухина? Сядь и напиши свои, от своего лица, как от лица читательницы этих
писем...» И я села и написала.
...Все
эти письма очень ценны, каждое по-своему, как документы жизни Валерия Золотухина,
и не только его жизни, но и тех людей, которые окружали и окружают его. Эти
письма ценны и как документы эпохи советского и постсоветского времени, на
которую пришлась и с которой совпала жизнь Валерия Золотухина, и по которым мы
видим, «что случилось (что происходило) на его ВЕКУ», и на ВЕКУ тех людей,
которые «жили в одно время с ним и его знали», если говорить словами доктора
Живаго из спектакля в Театре на Таганке, где Валерий Золотухин играет роль
доктора Живаго. Эти письма ценны и как документы каких-то отрезков и каких-то
этапов развития истории нашей страны, нашей литературы и нашего искусства. Эти
письма, каждое со своей стороны, со своего ракурса показывают отношение к
Валерию Золотухину его друзей, собратьев по перу и партнёров по сцене, читателей
и зрителей и его детей как к человеку и как к творческой личности и его
отношение к ним, и его и их отношение к каким-то явлениям и проблемам нашей
жизни и раскрывают и самого его, и этих людей с их характерами. И все эти люди
выступают в этих письмах как персонажи большой повести жизни с главным героем
этой повести Валерием Золотухиным, артистом, писателем и философом.
...Письмо
своему сыну Серёже Валерий Золотухин написал 17 января 2001 года, когда Серёжа был ещё жив и искал себя в этой
жизни и строил большие творческие планы на будущее, как музыкант, «барабанщик»
из группы со страшным названием «Мертвые дельфины», которые он хотел
осуществить, и когда ни он, ни его отец и никто не знал, что его земной путь,
едва начавшись, скоро закончится, меньше, чем через 6 с половиной лет, когда
Серёже будет всего 27 лет. Серёжа впадал в уныние оттого, что был слишком
требователен к себе, и понимал, насколько труден путь в большое искусство,
которому он хотел посвятить свою жизнь, и не чувствовал в себе сил реализовать
себя. А его отец Валерий Золотухин старался поднять его дух и говорил ему, что
уныние – это грех и что нельзя поддаваться ему, потому что жизнь не
ограничивается только «барабанами», в ней много другого, ради чего стоит
жить... И написал Сереже: «Храни тебя Бог!» Но не надеялся только на Бога, а
действовал по пословице «На Бога надейся, а сам не плошай», и сам всеми силами
старался сохранить своего сына, спасти его, и начертал в своём письме программу
жизни для него. И когда я читаю это письмо, я думаю, что, если бы Серёжа
следовал этой программе, то с ним не случилось бы такой беды, которая
случилась. Это письмо должно было стать его охранной грамотой. Оно и было для
него много лет этой грамотой, талисманом... Но не смогло уберечь его от беды,
которая стала не только его бедой, но и бедой Валерия Золотухина, которую я и
не знаю, как он только перенёс... Не дай Бог ни одному отцу перенести такое.
Валерий Золотухин писал Серёже: «Пока я с тобой, тебе нечего бояться»... Как
жалко, что отца не было рядом с сыном в тот момент, когда он решил проститься с
жизнью... и что Бог покинул его в тот момент. Или не покинул, а решил забрать
его к себе, чтобы он не мучился, потому что кто сам себя спасти не может, того
никто не может спасти. Какой страшный удар нанёс своему отцу этот
ангелоподобный ребёнок с ангельским лицом и с ангельским характером и доброй,
чистой душой... он убил не только себя, но едва не убил и отца своего (о матери
я не говорю)... Я была на поминках Сергея Золотухина во Дворце молодёжи, куда
Валерий Золотухин пригласил меня 11 августа 2007 года, с Петром Кобликовым,
видела группу «Мёртвые дельфины», видела «барабаны» Серёжи, на которых он не
играл в тот день, видела атмосферу, в которой он работал, полутьму с тяжёлым
металло-роком, с шумом и грохотом, от которого глохли уши, атмосферу
наркотического кайфа, транса и психоза публики, раскрашенный огнями
цвето-музыки дым преисподней, криво висевшие на стенах страшные зеркала и
свисавшие с потолка огромные, грубые петли из верёвок, и подумала, но не
сказала тогда Валерию Золотухину, чтобы не травить его душу и не увеличивать
его боль, что Серёжа работал в аду с чертями, которые завлекли, затащили,
втянули его туда, в свою преисподнюю, в свой вертеп, и довели до суицида и
набросили на него верёвку как бы его же руками, когда он был не в себе... он
погиб от рук нечистой силы и едва не угробил и самого Валерия Золотухина.
...А
другой сын Валерия Золотухина, Денис, священник, вернул своего отца к жизни,
возродил его... Своим письмом, которое написал ему в феврале – марте 2009 года.
Отец родил сына, а сын родил отца, то есть возродил его к жизни, то есть родил
его заново. Денис написал своему отцу Валерию Золотухину покаянное письмо, в
котором признался ему и покаялся перед ним в том, что когда-то «позволил»
другому человеку, своему отчиму, артисту Леониду Филатову, занять в душе Дениса
часть места Валерия Золотухина, отца своего, позволил Леониду Филатову
разделить там с Валерием Золотухиным место Валерия Золотухина.
Денис
пишет о том, как он, Денис, открыл в Валерии Золотухине своего отца и обрел его
как отца, не тогда, когда только-только родился, а тогда, когда уже вырос и
пришёл из армии, и поговорил с ним по душам, как не раз и раньше, до этого
разговаривал, но тогда он как бы не слышал отца, и когда отец простил его за
всё, и когда Денис почувствовал, как Валерий Золотухин любит его. Денис пишет,
как через своего отца Валерия Золотухина он увидел Бога, как Бог открыл Денису
самого Себя в Нём, в Валерии Золотухине, в Отце своего Сына и в Сыне своего
Отца... и как Денис увидел своего Отца в Боге, а Бога - в своём Отце, и
повернулся лицом к Богу и к Отцу своему.
Письмо
Дениса – яркий исповедальный документ души, которая была слепа, но прозрела и
увидела Бога... в своём отце, писателе, артисте, «театральном летописце», как
назвал Валерия Золотухина Борис Можаев, авторе книг «На Исток-речушку, к
детству моему», «Дребезги», «Печаль и смех моих крылечек» и других.
«Если
бы я был художником (но очень талантливым! иначе ничего не вышло бы)... то я бы
написал картину под названием «Богоявление», - говорит Денис в своем письме
отцу, Валерию Золотухину. И... пишет эту картину, «почти икону», своими
словами. Рисует комнату, в которой маленький мальчик, сам Денис в детстве,
спокойно засыпает в своей кровати, потому что его отец, Валерий Золотухин,
сидит за столом при свете настольной лампы и, согнувшись над листом бумаги,
пишет повесть о своем детстве, «На Исток-речушку, к детству моему» или
«Дребезги»... Макает перо в чернильницу (хотя тогда уже выпускались шариковые
ручки) и пишет... «творит в тишине», как творящий Бог. И эта повесть получается
не только о детстве Валерия Золотухина, но как бы и о детстве Дениса, которую
Валерий Золотухин пишет не только для себя, но и для него. А «Исток-речушка» -
это сердце, откуда и есть исток всего.
Я
читала письмо Дениса и изумлялась тому, как он написал его! На каком высоком
накале любви к своему отцу Валерию Золотухину, с какой потрясающей искренностью
и с какой виноватостью, и с каким
преклонением перед ним, своим отцом, Валерием Золотухиным, и каким
высоким стилем и слогом, и какими неординарными словами, то есть еще и с
«художеством»! Таких писем ни один сын никогда не писал своему отцу. Сам Бог
водил рукой Дениса и диктовал ему слова, когда он писал это письмо своему отцу,
которое нельзя читать без слёз и в котором слышится «Хованщина» Мусоргского и
зов-кликанье из «Тараса Бульбы» Гоголя, летящий от сына к отцу: «Батя, батя,
выйди к нам» (к кому, к нам? к детям, к чадам своим, одного из которых уже
нет)... Это письмо «блудного сына», который было ушел от отца, но пришел,
вернулся к нему. И через него пришел к Богу.
Одного
сына Валерий Золотухин потерял, зато другого обрел, которого как бы еще раньше
потерял... Бог таким образом пощадил и спас Валерия Золотухина для жизни, чтобы
он не предавался тому самому унынию, от которого старался уберечь Сережу.
В
этих двух письмах поднимается проблема отцов и детей не времен Тургенева, а
нашего времени, острая, жгучая, драматическая и трагическая, которую артист и
писатель Валерий Золотухин ощутил сам на себе, на примерах из своей собственной
жизни. И проблема – как спасти и сохранить новое поколение, и связь между
отцами и детьми, и разрывающиеся соединительные звенья между ними, и как спасти
и сохранить наши глубокие корни, от которых мы все идём, и наши чистые истоки,
которые питают нас.
...Письма
Леонида Филатова к Валерию Золотухину говорят о том, что не только писатели
пишут письма друг другу, но и артисты, как когда-то дворяне, то есть сейчас-то
почти уже и не пишут, но раньше, ещё и не так давно, каких-то лет 20-30 назад,
писали.
В
письме за 8 февраля 1982 года Леонид Филатов посылает Валерию Золотухину свое
стихотворение «Муха, Муха, Золотуха, / Музыкальнейшее Ухо!..» Шутливое, легкое
и весёлое, проникнутое дружелюбной симпатией к Золотухину как к певцу «с
музыкальнейшим ухом» и как к писателю, ухо которого «к словесности не
глухо».
А
в двух своих письмах за апрель 1986 года он всё выясняет свои отношения с
Валерием Золотухиным, как артист с артистом и как не чужой, а родной ему
человек, второй муж первой жены Золотухина артистки Нины Шацкой и отчим первого
сына Золотухина – Дениса, и говорит (пишет) Валерию Золотухину, что любит
Валерия Золотухина, и что и Денис любит его, и что им всем по жизни всё равно
надо идти вместе и работать в одном театре... И тут же Леонид Филатов
высказывает Валерию Золотухину свои обиды на Валерия Золотухина из-за того, что
тот, в отличии от Филатова, не ушёл из Театра на Таганке куда-то на сторону,
после того, как главный режиссёр Таганки Юрий Любимов был лишён советского
гражданства и уехал за границу, а на его место в Театр пришёл главный режиссёр
Анатолий Эфрос, с которым Леонид Филатов не ужился, не сработался и от которого
ушёл в театр «Современник», прихватив с собой и Нину Шацкую... И Смехов ушёл
туда же. И за то, что Валерий Золотухин с артистами Таганки накатал
коллективное письмо против них, наехал на них с этой «телегой», потому что они
на юбилее «Современника» оскорбляли Эфроса и Театр на Таганке.
В
этих же письмах Леонид Филатов ругает, критикует и клеймит Эфроса и говорит,
что не любит его и не скрывает этого, и говорит, что Эфрос неприятен ему как
человек, как «человеческая индивидуальность» и как режиссёр, и что Эфрос плюет
на историю и традиции Театра и на всё, что было там до него, и что он презирает
людей и актёров и что в этом и в его «гипертрофированном равнодушии» к ним
кроется корень всех бед Театра и «неуспех спектаклей, и скука в труппе...» и
что этим объясняется то, что в течение двух лет из театра ушли многие актёры –
Юрий Медведев, Николай Губенко, Борис Хмельницкий, Виталий Шаповалов, Вениамин
Смехов, Давид Боровский, Ефим Кучер, Анатолий Васильев, «эти люди ушли по
разным причинам, и всё-таки причина одна – личность Эфроса».
Леонид
Филатов пишет свои письма с максимализмом и перехлёстом, в свойственных ему,
как он сам признается, «агрессивных и беспощадных формах», в яростной и
истерической манере, которую оправдывает своим неравнодушием к Валерию
Золотухину и его судьбе.
Эфрос
в письмах Леонида Филатова выглядит каким-то монстром. Но в уникальных
книгах-дневниках Валерия Золотухина «Эфрос на Таганке» (2007) и «Отношусь к
тебе с нежностью» (2008) и в блестящем предисловии к ним Бориса Хвостова этот
режиссёр выглядит совсем не таким, а альтернативным тому образу, который
нарисовал Леонид Филатов.
За
три года, в отсутствие Юрия Любимова, Анатолий Эфрос, который в течение всего
этого времени был главным режиссёром Таганки, вопреки советам некоторых
административных «товарищей», не снял с репертуара ни одного старого спектакля,
из тех, что ставил Юрий Любимов, не сократил старую труппу, не выбросил фамилию
Любимова из буклетов Театра, не сказал о Любимове ни одного плохого слова, и
писал и говорил о нём всё только хорошее, и относился к каждому человеку и к
каждому актёру с большим уважением и «выказывал чудеса терпения» в работе с
актёрами. И за четыре года поставил шесть новых спектаклей на сцене Таганки,
выпустил шесть премьер – «На дне»
Горького, «Мизантроп» Мольера, спектакли по пьесам Чехова, Уильямса, Можаева,
Алексиевич... И три спектакля собирался поставить, в том числе «Гедду Габлер»
Ибсена...
И
в своем прощальном слове Эфросу 17 января 1987 года и в своей речи на
гражданской панихиде памяти Эфроса, которые есть в дневниках Золотухина, Золотухин
говорит о нём как о благородном человеке и как о выдающемся режиссёре, который
«пришёл на Таганку в горький для театра час... и спас театр...» ...А то, что
Золотухин не ушёл с Таганки в этот горький час и в другие горькие часы, во
время раскола Таганки, ни в «Современник», ни в какой-то другой театр, хотя у
него были свои причины уйти оттуда, и стал, по словам Любимова, Домовым
Таганки, всё это говорит о Золотухине в его пользу, а не в пользу Леонида
Филатова, который набрасывается на него в своих письмах и учит его, каким ему
быть и как ему поступать в том или в другом случае...
А
в третьем письме (без даты) Леонид Филатов не выясняет никаких своих отношений
с Золотухиным и не занимается никакими дрязгами и мелкими разборками с ним и не
ругает никакого Эфроса, который у него, как мозоль на ноге, а поднимается выше
всего этого и признает Золотухина как писателя, как художника и мастера
слóва и хвалит прозу Золотухина с его воспоминаниями о своём детстве и о
своей юности в Быстрых Истоках, которая, проза эта, проняла даже такого
«городского человека», как Леонид Филатов, и воздействует на его душу и
заставляет его ощутить всё, о чём там пишет автор, как нечто очень дорогое для
себя, хотя он не имеет таких (фактологических) воспоминаний о селе, как Валерий
Золотухин. Филатов в этом письме признает победу Золотухина-писателя и
поздравляет его с ней. И снимает перед Тобой шапку или шляпу и закрывает все
старые конфликтные темы своих старых писем. И сразу вырастает в глазах читателя
как личность и как человек, который умеет порадоваться за своего товарища, за
его успех. ...Правда, это письмо Леонид Филатов, оказывается, написал не в 1986
году, а на много лет раньше, когда ещё был в хороших отношениях с Золотухиным
(как сказал мне сам Валерий Золотухин).
...Лев
Альшиц в своем письме 1990 года говорит о русской песне и в связи с ней не
только о ней, но и о русских и евреях и о людях других национальностей. Он
пишет, что ему и многим «нашим ребятам», евреям, не нравится «Камаринская» и
«Калинка» и не нравятся песни хора Пятницкого, и что он, например, выключает
телевизор и радио, когда слышит песни этого хора... и не только ему и им не
нравятся эти и многие другие русские песни, но и людям других национальностей и
других стран, а вот советские песни «Катюша», «Подмосковные вечера» и старинный
цыганский (он же и русский) романс «Очи чёрные» любят все во всём мире, во всех
странах. Но, говорит Альшиц, если кто-то не любит русские песни, это не значит,
что он не любит русских, и если он при этом гражданин России, а не любит песен
хора Пятницкого, это не значит,
что он не патриот России: один еврей не любил русские песни, а пошёл за Россию
на фронт и погиб там, а другой еврей, комсомольский вожак, лихо плясал под
«Комаринского» и под «Калинку», а во время войны служил у немцев и убивал
русских.
...Кстати
сказать, моя матушка, Мария Петровна Краснова (в девичестве Аношкина), уроженка
села Солотча, частушечница, некоторые частушки которой пела Мария Мордасова,
моя матушка, русская из русских по своим корням, душа которой была кладезем
русского фольклора, старинных песен, потешек, пестушек, закличек, корилок,
пословиц и поговорок, прибауток, частушек, не раз говорила мне, что она не
любит, как хор Пятницкого поет русские песни, и как многие русские советские
певицы, в том числе и очень известные, поют русские песни, она говорила, что
они поют их неправильно, по какой-то одной советской псевдонародной выучке, по
одной общей колодке, без вариаций и импровизаций, без эскпромтов, без побочных
линий от главного мотива, без подголосков, не так, как пел их русский народ...
что их надо петь не так... и она показывала мне, как их надо петь. А когда хор
Пятницкого пел их, она тоже, как Альшиц, выключала радио... и говорила, что
если слушать это, то можно разлюбить русские песни, а кто не любит русские
песни, тот никогда и не полюбит их, если будет слушать их в исполнении хора
Пятницкого. Это я говорю к слову. Это, так сказать, мои «закорючки на полях»,
если пользоваться терминологией Валерия Золотухина.
...Когда
я на моноспектакле «Анна Снегина» в 2005 году услышала, как Валерий Золотухин
поёт русские песни, я вся обомлела... Я подумала: «Вот как надо петь русские
песни – как поет их Валерий Золотухин! и как ни один певец не сможет их спеть».
Я тогда впервые в жизни услышала в исполнении артиста, в исполнении Валерия
Золотухина, как надо петь русские песни. А еще раньше я слышала, как он поёт
«Ой, мороз, мороз, не морозь меня...», «Ходят кони...», «Наплявать, наплявать,
надоело воявать», «Барыня речка, сударыня речка...»... И думала: «Почему больше
никто из артистов, никто из певцов не умеет петь русские песни так, как Валерий
Золотухин? Почему никто из артистов не владеет вот таким искусством исполнения
русских песен, как Валерий Золотухин?» А когда я потом, на своем авторском
вечере в ЦДЛ услышала, как он поет мои частушки, я подумала: «Вот как надо петь
частушки, если петь их не на солотчинский мотив...» И когда я услышала, как
артисты Таганки поют частушки в спектаклях... в «До и после» и т. д., я
подумала: «Это Валера Золотухин научил их так петь частушки». Но это я говорю
опять к слову. Может быть, даже лишнее для моих комментариев к письмам Валерия
Золотухина. А может быть, и не лишнее.
...Фамилии
адресатов писем – Альшиц, Шифферс, Хейфец, Нагибин, Распутин, Астафьев и т.д. –
говорят о том, что Валерия Золотухина любят как русские, так и евреи, как
«патриоты», так и либералы. И все хотят считать его своим. Альшиц в своем
письме за 1990 год беспокоится о том, правда ли, что Золотухин на Шукшинских
чтениях спелся, съекшился с «патриотами» в кавычках, которые, как я поняла,
катили бочку на евреев, или на либералов, и радуется, что нет. А Распутин хочет
знать, в какой лагерь Золотухин попал в период реформ и рыночной политики, и
как бы спрашивает его об этом между строк своего письма за 3 мая 1990 года: «Не
знаю, каков ты (сейчас), давно не разговаривали (мы с тобой)...» И дальше:
«Каков ты – я, разумеется, знаю, поэтому и радуюсь привету от тебя...» И
объясняет Золотухину, почему он, Распутин, решил войти в президентский совет и
надеть на себя «хомут» члена этого совета: «Я не рассчитываю влиять (на
что-то), выскочить (куда-то), иметь вес и т. д.
...но надо же кому-то замолвить словечко за вновь терзаемую со всех
сторон нашу Расею». Вот он и хочет замолвить кому-то словечко за Расею...
Господу Богу надо замолвлять (замолвливать) словечко за Россию... а не кому-то
ещё.
...Настоящий
художник, мне кажется, не должен примыкать ни к какому лагерю, ни к лагерю
красных, ни к лагерю белых («стадность есть прибежище неодарённостей», не так
ли? говорит персонаж спектакля «Доктор Живаго» на Таганке). Он должен быть сам
по себе, вне стада, вне групп, вне ограничительных рамок, сковывающих его
индивидуальность. И он никому ничего не должен, кроме как Господу Богу, перед
которым перед одним он должен держать отчёт, а больше «никому отчёта не
давать», ни в чём. И должен быть «над схваткой», над всеми, как Бог, или как
Григорий Мелехов, или как Максимилиан Волошин, который молился и за красных, и
за белых, «за тех и за других», или как Доктор Живаго в спектакле на Таганке,
которого играет Валерий Золотухин и который и есть такой художник, артист и
писатель, который находится над схваткой... и который во всех своих делах и
поступках даёт отчёт одному только Господу Богу. За что все и любят Золотухина.
И за что и я его люблю, то есть не только за это, но и за это.
...Некоторые
письма некоторых адресатов к Валерию Золотухину состоят всего из нескольких
строк. Но эти несколько строк иной раз говорят очень много об отношении к нему
самых разных людей. Леонид Хейфец пишет, что он слышит хорошие отзывы о нём и
радуется этому.
...Юрий
Любимов пишет Золотухину 7 апреля 1992 года, что «ситуация в театре требует»
присутствия там Золотухина, «исполнения» им какой-то роли в каком-то спектакле.
И просит Золотухина приехать в Театр, «сделать блокаду и играть»... Сделать
какую «блокаду»? Антиалкогольную? Золотухин что – в это время находился в
запое? Или просто болел? Об этом Любимов не пишет, но в P.
S.-е добавляет: «Пишет старый блокадник». Ленинградский
блокадник или какой? Любимов тут играет семантиками слов? Шутит? Но в то же
время дает понять Золотухину: без тебя нельзя обойтись в спектакле и в Театре,
тебя некем заменить, и никто не спасет спектакль, если не ты.
...Филолог
Владимир Гоголев пишет Валерию Золотухину о его книге «Дребезги», говорит, что
русские летописи – это хроники государства, а книга Золотухина – это «хроника
одной семьи», самого Золотухина, и что в этой книге автор стремится запечатлеть
свои воспоминания не обо всей своей стране, а о своей «малой родине» и таким
образом «осуществить свою гениальность». Но так же, как летописи – это не
стенография действительности, а в них есть присочинения летописцев от самих
себя и мифологизация действительности, так и
«Дребезги» - это тоже не стенография жизни автора, а произведение
художника, где есть и отступления от каких-то фактов, и беллетризация каких-то
моментов, и какие-то свои присочинения... Правда, он считает все это не всегда
обоснованным, как и психологизм прозы Золотухина, с чем я не могу согласиться с
этим Гоголевым. Он, по-моему, в этом своем письме чересчур много умничает и
впадает в дидактику... То есть он учит Золотухина, как ему писать... А ему ли
учить ученого? Кто он – Лев Толстой, что ли, чтобы учить и поучать Золотухина?
Да и Лев Толстой – не каждому может быть указом. Например, Достоевскому он был
не указ. Гоголев анализирует книгу Золотухина по каким-то своим законам, а у
него – свои законы как у художника, как у писателя.
...Гоголев
обращается к Валерию Золотухину на старинный манер: «Милостивый государь,
Валерий Сергеевич!» - В этом слышится некоторый юмор автора, но и хороший
подтекст, который говорит о том, что «корреспондент» в своих отношениях с
адресатом соблюдает традицию высоких отношений воспитанных людей ХIX
века, утраченную и забытую в наше время, и считает, что адресат заслуживает
того, чтобы говорить с ним – как автором своих произведений - высоким слогом,
по большому счету.
...Некоторые
детали в письмах «корреспондентов» играют роль художественных деталей, которые
расширяют пространство общения между героями писем и говорят о том, что место
действия героев писем и место их общения друг с другом не ограничивается только
Россией, а выходит за ее пределы.
...Филатов
пишет Золотухину: «...конечно, ужасно, что мы не увиделись с тобой в Италии.
Честно говоря, я надеялся». Из чего следует, что и Золотухин и Филатов не
просто сидят в Москве и пишут письма друг другу из Москвы в Москву (что уже
само по себе обо многом говорит), но еще и разъезжают по миру и думают друг о
друге, как говорится, где бы ни были.
В
другом письме Филатов пишет Золотухину: «В Будапеште ты написал мне доброе и
трогательное письмо...» Это опять – очень яркая художественная деталь, которая
очень много говорит об обоих «корреспондентах».
...У
Валерия Золотухина есть одно прекрасное качество, то есть у него много прекрасных
качеств, в том числе и вот какое: он не боится публиковать какие-то материалы,
какие-то страницы своего дневника или страницы чьих-то писем к нему, которые
ставят его как бы в невыгодное положение перед людьми, показывают адресата в
невыгодном для него свете и ракурсе и которые кто-то может воспринять как
компромат на самого себя...
В
спектакле «Владимир Высоцкий» Валерий Золотухин говорит, какую фразу больше
всего любил Высоцкий, когда кто-то спрашивал его, какой он есть как человек по
своему характеру: «Разберутся другие». Вот и Золотухин, когда публикует какие-то материалы, которые
кто-то может воспринять как «компроматы» на него и которые как бы могут бросить
какую-то тень на него, то есть навести тень на плетень, или дать людям
отрицательное, искаженное представление о нём, надеется на то, что люди
разберутся во всем этом. И так и получается.
И
получается, что если кто-то в дневниках Золотухина и в своих письмах к нему
говорит и пишет о нём что-то такое не очень лестное и не очень хорошее, всё это
оборачивается против того, кто говорит и пишет это.
...По
тому, что один человек говорит и пишет о другом человеке, и как он ругает или
хвалит его, можно судить о самом этом человеке...
...Письма
писателей к Валерию Золотухину, как я понимаю, являются для него предметом
особой литературной гордости (не гордыни, которая по Библии есть грех, а –
гордости).
Валерий
Золотухин сказал недавно на вечере журнала «Юность» в центре эстетического
воспитания, да и в книгах своих писал, что ему всегда хотелось, чтобы люди
считали его не только артистом, но и писателем. И что ему больше всего хотелось
бы, чтобы его все считали в первую очередь писателем, а потом уже артистом. И
поэтому для него, как я понимаю, очень важно знать, считают ли его писателем
сами писатели. И вот как раз письма Бориса Полевого, Валентина Распутина,
Георгия Бакланова, Юрия Нагибина, Виктора Астафьева, моего земляка Бориса
Можаева говорят о том, что – да, считают, и не какие-нибудь, а очень
авторитетные писатели своего времени. Полевой хвалит Золотухина за «сочинение»,
которое Полевой напечатал в журнале «Юность», и ждет новых сочинений от автора,
которые он писал бы «без ущерба» для профессии артиста. Бакланов советует
Золотухину писать о том, что Золотухин знает лучше всего, о том, что пережил он
сам и его поколение. Бакланов говорит, что если Золотухину дано сказать «свое
слово, так только о своем времени», которое способно вместить в себя «многие
времена». Распутин пишет Золотухину теплые, дружеские письма и предисловие к
его книге, в которой говорит свои добрые слова о нём как о писателе, мечтает
попробовать пельменей в его пельменной (которую он собирался открыть, но так и
не открыл). Нагибин в своем письме к нему подписывается «под каждым добрым
словом Распутина», которое тот написал в предисловии к книге Золотухина.
Астафьев шлёт Золотухину свои весенние приветы и поклоны и пишет, что воспринял
его рассказ как «хлёсткую пародию на нашу экзальтированную декламационную
лже-литературу». Можаев пишет Золотухину рекомендацию в Союз писателей и
говорит в ней, что Золотухин – «писатель состоявшийся», у которого есть «свой
оригинальный стиль, своя популярность» как у писателя. Поэт Валентин Резник,
«мужик начитанный», пишет о «Комдиве
четырнадцатом» Золотухина, что это «зверски талантливо», что это «вещь
хрестоматийная», в которой Резник не видит ни одного «изъяна» и «о которой
«будут говорить и писать» (и получается, что Бакланов был неправ, когда
говорил, что Золотухину надо писать только о том, что он хорошо знает). А о
дневниках Валерия Золотухина тот же Валентин Резник, читавший Монтеня, Герцена,
Короленко, Бунина, Гонкуров, Руссо, Коровина,
пишет, что он не видит и не может вспомнить в русской и мировой
литературе никаких аналогов этим дневникам, восхищается драматизмом страниц
этих дневников, «уровнем» откровения
автора и его искренностью, исповедальностью, неханжеством и пишет, что всё это
«смертельно интересно».
Закорючки на полях
(это я пародирую «Закорючки на полях» Валерия Золотухина (об Андрее
Максимове), которые мне нравятся,
перенимаю стиль этих «Закорючек...»).
...Распутин
в одном своем письме к Золотухину передает привет Нине... Это значит его первой
жене Нине Шацкой... А в другом письме и в других письмах он передает привет уже
не Нине, а Тамаре, его второй жене... Как говорится, жён у героя эпистолярной
повести может быть много, а герой один. Жены, как правительства, приходят и
уходят, а герой и его культурное пространство, в котором он живет,
остается.
...Для
Валерия Золотухина важны не только письма от писателей, но и от своих коллег из
Театра на Таганке... и от брата артиста Ивана Борника - Сергея Бортника,
который тоже «мужик начитанный» не меньше, чем поэт Валентин Резник, читающий
Бунина, Тургенева и Золотухина. Он пишет Золотухину о его «Плахе» как о книге,
которая «хороша, но не для всех поголовно», и это «ясно поголовно всем», потому
что многим персонажам дневников не понравится то, что он пишет о ком-то из
них... о том же Иване Бортнике... но при всём при том Сергей Бортник
восхищается книгой автора и зовёт его к себе в гости... и не затем, чтобы
отравить его ядом, как пушкинский герой Сальери отравил Моцарта.
...Для
Валерия Золотухина важны и просто письма от читателей, от людей, которых он
знать не знает... которые и не писатели, и не артисты, а просто его читатели.
Как, например, какая-нибудь девочка Татьяна Ю. из Питера, которая написала
Валерию Золотухину о том, что она купила его книгу «Секрет Высоцкого», чтобы
найти там «любимые имена», в первую очередь – Высоцкого, а нашла
Золотухина, и стала его поклонницей, и
пишет, что теперь она читает все его книги и смотрит все его фильмы, и что его
отношение к жизни, к людям изменило её в лучшую сторону...
...Читатель
Владимир Турбин прислал Валерию Золотухину «записку в несколько строчек» (15
декабря 1980 г.) и называет его в ней Моцартом, из чего я делаю вывод о том,
что он видел фильм, в котором Золотухин играл Моцарта, а Смоктуновский играл
Сальери. Корреспондент обыгрывает образ Моцарта и спрашивает у Золотухина: не
отравил ли Вас, Моцарта, Сальери, иначе почему же Вы не звоните мне и не
приглашаете меня в «Дом на набережной»... Каждый корреспондент Золотухина
оригинален по-своему и каждый строит с ним свои эпистолярные отношения, а кто-то,
как читатель Владимир Турбин, даже пытается строить их по какому-то своему
сценарию, который ему видится.
...Евгений
Шифферс - богослов, специалист по
Достоевскому, живёт, как он сам признаётся в своём письме Валерию Золотухину,
медитациями и молитвами, которые отучают человека от чтения художественных
выдуманных историй, если только «сквозь них, то есть сквозь бумагу и буквы, не
проступает огонь Креста, как, скажем, у Достоевского... хотя и его читать
трудно». Но повесть Валерия Золотухина «Земляки» богослов и специалист по
Достоевскому Евгений Шифферс прочитал, и не просто «попорхал» по страницам,
если пользоваться термином Василия Розанова, а прочитал «от-и-до» и считает эту
повесть «хорошей прозой» и советует Тебе «так вот и писать дальше», «хотя, конечно
же, смерть любимых не будет уж слишком часто кормить нас, грешных, для
творчества, а?»...
Чтобы
понравиться богослову, это надо быть Богом или по крайней мере ангелом.
Шифферс
увидел в прозе у Валерия Золотухина не только Божью искру, но и огонь Креста,
как у Достоевского.
Дальше
он пишет о «Братьях Карамазовых», которых он перечитал, и о теме своего
доклада, который он читал на семинаре Достоевского в Ленинграде, о «власти
святых», об «агиократии» по аналогии с автократинй и демократией, но в противовес
им...
Такие
вот у Валерия Золотухина читатели. Есть среди них и юные, неискушенные
читатели, которые только мало что читали и мало что знают, а есть такие,
которые перечитали всю русскую и мировую литературу, и Достоевского, и
Толстого, и Чехова, и Розанова, и Бог знает кого... и вот даже богословы,
теологи есть.
...Композитор
и музыкант Сергей Сапожников в своем письме пишет об участии Валерия Золотухина
с Ириной Линдт в телепрограмме о Владимире Высоцком «Своя колея», и делает это
блестяще, как человек, который обладает не только способностью тонко
воспринимать и чувствовать артиста на экране или на сцене, но и анализировать
его поведение, передавать все нюансы этого поведения, причем говорить об этом
художественно выразительным, образным языком, каким Сапожников и говорит и о
Валерии Золотухине, и об Ирине Линдт, и о Владимире Высоцком. О Валерии
Золотухине он говорит: «...ты был (в «Своей колее») истинным хозяином на
артистическом Олимпе, спокойным, как сапёр, готовый к любому взрыву, уверенным,
как капитан корабля, в многобалльный шторм, считающий валы, в ожидании
девятого... и как Одиссей, привязавший себя к мачте, дабы послушать манящие
завораживающие песни сирен, но не попытаться их, соблазнительных до скрежета
зубовного, трахнуть ценою собственной жизни...». А об Ирине Линдт он говорит:
«реактивная и многоликая Ирина Линдт», «соблазнительная и сладкоголосая»... А о
Владимире Высоцком он говорит: «Высоцкий – не просто жертва идеологии, но
гений, ставший в эпоху духовного дефолта и девальвации личности полярно
противоположным символом этого прекрасно-безобразного времени, в которое нам с
тобою суждено было родиться и воспитаться...»
Дальше
он рассуждает о таком парадоксе, как противоречие между талантом сочинителя
своих произведений, и талантом исполнителя своих же сочинений сочинителем, и
делает это на примере Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, Бродского, у
которых, по его мнению, сильное несоответствие между их стихами и исполнением
этих стихов самими авторами, а у Высоцкого – стопроцентное соответствие... и в
исполнении им своих песен, и в исполнении им своих ролей в спектаклях и
фильмах, но... не всех ролей, а только тех, которые близки ему и у которых с
ним «одна группа крови», например, роль Дон Жуана в пушкинском «Каменном госте»
или роль Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя». А в тех ролях,
которые ему не близки, там тоже есть несоответствие между ролью и ее
исполнением, например, в роли Гамлета(!), да-да, в той самой роли, к которой он
ревновал всех других артистов, в том числе и больше всех - Валерия Золотухина,
и в роли Хлопуши.
Гамлета-Высоцкого
я не видела на сцене, только на фотографии, но я видела Моцарта-Золотухина на
фотографиях и могла бы сказать, что он и есть Гамлет. Вот кто Гамлет! А
Высоцкий, я думаю, потому и ревновал Золотухина к этой роли... чувствовал, что
Золотухин – больше Гамлет, чем Высоцкий (или – не меньше Гамлет, чем он). Это
мое мнение, которое у меня давно возникло и которое я держу при себе и которого
я никому не хочу навязывать.
Если
один артист сыграл какую-то роль в спектакле или в кино, это не значит, что
другой актер не может играть ее. Тем более – «на вводе», как это всегда бывает
в каждом театре: артист подменяет другого артиста, если тот заболел и не может
играть.
Если
Ирина Линдт играет Шарлотту де Корде в «Маркизе де Саде», это не значит, что
Александра Басова тоже не может играть ее. Они обе играют одну роль. А зрители
пусть смотрят, кто из них лучше в этой роли.
Высоцкий
боялся, что Гамлет Золотухина получится лучше, чем Гамлет Высоцкого. И никто не
переубедит меня в этом. Даже если я и ошибаюсь. Как говорится, простите меня,
Владимир Семенович.
А
Хлопушу-Высоцкого я видела когда-то по телевизору, и не один раз. И всегда
думала и говорила, что это – не Хлопуша. То есть - что Высоцкий в этой роли мне
не нравится, хотя он очень нравится мне в роли того же Жеглова...
Все
(ну не все, а некоторые из всех) в «ужасе мне затыкали рот», когда я пыталась
сказать то, что я думаю обо всем этом.
И
вот нашёлся человек, Сергей Сапожников, с которым у меня совпали взгляды и на
Хлопушу-Высоцкого, и на Гамлета-Высоцкого. Валерий Золотухин, может быть,
захотел бы вычеркнуть эти абзацы моих комментариев к письмам, если бы прочитал
эти абзацы. Потому что он сам ни разу не говорил мне, что Высоцкий – плохой
Хлопуша и плохой Гамлет (или не такой уж хороший, как это принято считать). И
всегда отмалчивался и переходил на другую тему, если я заговаривала об этом.
Или строго говорил мне, защищая Высоцкого: «А ты видела его в этих ролях? Нет?
Тогда как же ты можешь судить о том, хорош он был в них или нет (это всё равно,
как судить о какой-то книге, которую ты не читала: я её не читала, но я о ней
скажу)?» Но всё же я останусь при своем мнении, которое к тому же, оказывается,
совпадает с мнением Сергея Сапожникова, который, кстати сказать, написал
прекрасную книгу о Золотухине – «Он – Золотухин! Он – мой друг!» И я знаю, что
есть и ещё зрители, из числа давних и искренних поклонников и друзей Таганки,
которые в отличие от меня видели Высоцкого во всех его ролях, придерживаются
такого же мнения, что и Сапожников.
...Когда
я читала письма корреспондентов Золотухина, я думала вот о чём. О том, как
хорошо, что у людей есть потребность писать кому-то, в данном случае –
Золотухину, письма, высказывать в них своё мнение и о нём самом, и о его книгах
или фильмах или спектаклях, или о ком-то и о чём-то в связи с ним, то есть
говорить с ним не в устной форме (если в устной в данный момент нельзя по
какой-то причине), а в эпистолярной форме... то есть общаться с ним на
духовно-телепатическом уровне. И даже если выяснять какие-то свои отношения с
Золотухиным, как Леонид Филатов, который высказывает ему какие-то свои обиды на
него, то опять же – в эпистолярной форме и надеяться на то, что тогда он лучше
поймешь тебя, своего адресата, чем если тот выскажет ему что-то в устной форме.
...Жена
Анатолия Эфроса Наталья Крымова садится за стол и пишет Золотухину письмо о его
рассказе, который она прочитала. Она вся загружена бытом и делами «комиссии по
делам Володи» (Высоцкого)... и ей, наверное, ей было бы проще взять и позвонить
Золотухину и сказать ему своё мнение о его рассказе - по телефону... Нет, она
садится и пишет Золотухину письмо. И хвалит там Золотухина за его рассказ, а он
у него, между прочим, о войне, и она говорит, что тема войны в нашей литературе
настолько окружена «соплями и демагогией» и настолько надоела всем и ей, что «о
войне ни читать, ни слушать не хочется», но Золотухин написал такой рассказ,
что он «сидит» у неё в голове и чем-то напоминает ей лучшие песни Высоцкого, с
которыми этот рассказ стоит в одном ряду, и что в рассказе Золотухина есть
что-то такое странное и страшное, что есть и в песнях Высоцкого, то есть что-то
такое, что не может не воздействовать на читателя и не волновать его (тут
Наталья Крымова как бы невольно вступает в полемику с Баклановым, который
советовал Золотухину писать только о том, что он хорошо знает, то есть не
писать о войне, поскольку он, как, кстати сказать, и Высоцкий, – не участник
войны), Наталья Крымова говорит Золотухину: «...ты не просто молодец, ты просто
– писатель», - и поздравляет его с этим его рассказом...
Это
всё очень и очень трогательно... Причем когда люди пишут Валерию Золотухину
письма о нём и о его книгах, они попутно пишут много ещё о ком и много ещё о
чём, и у всех писем есть какой-то такой свой фон, на фоне которого эти
«корреспонденты» пишут ему и на фоне которого ярче проявляется всё, о чем они
пишут, и всё, что они не только говорят, но и хотят сказать...
...И
очень трогательно то, что Валерий Золотухин хранит все письма. В том числе и
те, которые кто-то на его месте и не стал бы хранить, а порвал бы и выбросил
бы. Допустим, те, где его кто-то ругает и говорит о нём что-то не очень лестное
для него. Нет, он хранит все письма. Как архивариус и как предок дворян,
которые умели хранить письма и передавать их из рода в род членам своей
семейной династии.
Закорючки на полях.
...Когда
я читаю дневники Валерия Золотухина и вот письма его «корреспондентов» к нему и
знаю, как он радуется, когда кто-то из его собратьев по перу говорит ему: ты –
писатель, и очень хороший писатель, - и когда кто-то из них хвалит его прозу...
и когда он смотрит на некоторых из них как на небожителей и ждет, когда кто-то
из них пришлёт ему письмо, или записку, клочок бумаги в две строчки, и напишет
своё мнение о его прозе, я иногда думаю, что многие из них, из этих
литературных шишек (я говорю сейчас не конкретно о ком-то из авторов тех писем,
которые Валерий Золотухин дал мне для «Эоловой арфы», а вообще) стоят намного
ниже Валерия Золотухина как писатели, а он смотрит на них как на небожителей, а
некоторые из них вообще ничего интересного из себя не представляют, даже если
обрели громкое имя в литературе... а он относится к ним с благоговением,
трепетом и любовью... в то время, как сам он – куда больше писатель, по всей
своей «строчечной сути», чем они, и написал книг больше, чем все они, притом
таких, каких им никогда не написать, сколько бы они ни пыжились. А какие книги
они написали, их и писать не стоило, они никому не нужны.
...Письмо
В. Дгуся за 19 апреля 1977 г. ветеринара из Быстрого Истока, говорит о том, что
почитатели Валерия Золотухина очень внимательно следят за ним и его
выступлениями в прессе и за каждым его словом, и находят Золотухина везде, как В.
Дгусь нашёл его, то есть его материал в журнале «Сельская молодёжь», где автор
говорит о том, что ящуром болеют не только «парнокопытные животные (коровы,
овцы, свиньи, олени и т.д.)», но и лошади... Ветеринар, специалист в своей
профессии, говорит, что Твой материал на эту тему – это «прямо докторская»
диссертация! И он беспокоится о том, как бы эта «новина» не дошла до Быстрого
Истока, где над ней «все лошади иржать будут», потому что лошади –
никогда не были парнокопытными животными и никогда не болели и не болеют ящуром.
Это
письмо вносит весёлую ноту в подборку серьёзных писем из эпистолярного архива
Валерия Золотухина, «крестьянского сына», который не знает (не знал – теперь
знает), что лошади – это не парнокопытные животные. А я, «крестьянская дочь»,
тоже этого не знала, но, правда, я родилась и росла в городе... Откуда мне было
знать о лошадях, что они не парнокопытные? Между прочим, «крестьянский сын»
Сергей Есенин тоже не всё знал о животных. Например, когда он писал стихи про
корову, что она старая и у неё выпали зубы («старая, выпали зубы»), он не знал,
что у коров вообще нет и не бывает зубов, у них вместо зубов – пластины,
которыми они перетирают траву и сено.
...Поскольку
все эти письма я набирала на компьютере сама, то очень многое теперь могу
сказать о каждом из авторов этих писем по их почеркам, в том числе и не по
почеркам, а по стилю оформления писем, включая и те, которые писались не от
руки, а печатались на машинке. Но я не буду здесь делать этого. Скажу только,
что у Нагибина и Астафьева почерк витиеватый, кудреватый, и, я бы сказала, если
говорить в стиле «изящной словесности», «за...бонистый», который на трезвую
голову не каждый разберёт. У Леонида Филатова – почерк по-своему
каллиграфический, твёрдый, острый, не рассыпанный, каждая буква читается и
прочитывается без трудностей. У Валентина Распутина – почерк рассыпанный, с
зазорами между буквами, и очень и очень мелкий, каждая буковка – с долю
миллиметра, мельче, чем у него, я ни у кого не встречала, а мне приходилось в
студенчестве печатать тексты многих писателей, критиков... без лупы и в самом
деле не каждый его разберёт, только люди
с большой близорукостью, как я, а с дальнозоркостью – едва ли. Да и то одно
слово я у него не разобрала: «смиряющего» (духа).
Не
буду говорить, как корректор, про ошибки, которые есть у кого-то, ошибки бывают
разных типов: у грамотных людей – одни, у неграмотных другие, а кроме того у
людей бывают просто описки и опечатки, которые не есть ошибки... но которые
тоже могут много сказать о человеке, как и оговорки по Фрейду.
Кстати
сказать, я умею разбирать почерки самой разной сложности. Но ещё лучше умеет
это делать Валерий Золотухин, в чём я уже убедилась, когда не могла разобрать
какое-то слово у Астафьева и какое-то слово у Распутина, а Валерий Золотухин
разобрал, расшифровал его с легкостью. А кто разбирает почерки людей, тот
разбирается и в людях.
Марк
Твен рассказывал о графологии вот что. Один товарищ показал ему письмо
какого-то мальчика, с очень плохим почерком, и сказал: «Попробуй по почерку
определить характер этого мальчика. Какой он?» Марк Твен посмотрел письмо и
сказал, что автор этого письма – очень плохой мальчик, двоечник, лентяй, врун и
обманщик, мелкий воришка... и вообще никуда негодный мальчик,
недисциплинированный, неорганизованный, несерьёзный... из которого никогда
ничего путного не получится... А это оказалось письмо самого Марка Твена. Но,
может быть, писатель сделал вид, что не знает автора письма? И когда давал
характеристику этому мальчику, просто шутил?
...Наверное,
я чересчур длинно ответила Валерию Золотухину на его вопрос о том, как я смотрю
на письма, которые он дал мне для «Эоловой арфы». Он спросил у меня об этом
просто так, между прочим. И не ждал и не требовал, чтобы я отвечала ему на это
подробным материалом в 16 страниц на компьютере (1 а.л.! с ума сойти!).
Наверное, мне надо было ответить Валерию Золотухину короткой врезкой к ним: так
и так, Валерий Золотухин дал мне для «Эоловой арфы» 30 писем из своего архива,
и эти письма очень интересны, поэтому я сочла нужным напечатать их в альманахе,
читайте их, дорогие читатели, и размышляйте над ними. А я начала чересчур
длинно отвечать Валерию Золотухину на его вопрос. И, мне кажется, перестаралась
и в какой-то степени уподобилась герою какого-то анекдота, у которого (у героя
этого) просто для проформы спрашивают: «Как ваши дела?» - и рассчитывают на то,
что он ответит двумя словами: «У меня всё хорошо, всё в порядке», - а он
начинает три часа рассказывать, как у него идут дела и что он думает обо всем
этом. Или я уподобилась тому мужику, которого заставь Богу молиться, он и лоб
расшибет, чего от него совсем и не требовалось.
...Я
вот сейчас написала свои комментарии к письмам из архива Валерия Золотухина,
как читательница. И думаю: а зачем ему напрягаться и писать свои комментарии к
ним, когда они по идее есть во всех его книгах-дневниках, в строках и между
ними, в тексте и подтексте, причем более подробные, чем он сейчас мог бы
написать на одной-двух страницах? Не лучше ли отослать читателей «Эоловой арфы»
прямо к дневникам Валерия Золотухина? То есть в Театр на Таганке, где он перед
спектаклями продаёт свои дневники? Пусть каждый читает его книги и ищет в них
комментарии ко всему, о чём и о ком он пишет, и о чём и о ком пишут ему люди,
писатели, артисты, композиторы, студентки и школьницы, богословы и
ветеринары...
10
– 11 и 16 – 17 апреля 2009 г.,
23
июля 2009 г. (окончательная редакция),
Москва
К
45-летию Театра на Таганке. Татьяна Николина. Стихи
__________________________________________________________________
Татьяна
Николина
Татьяна
Николина родилась в Москве. Училась в Московском педагогическом институте им.
Н. К. Крупской. Печаталась в журнале «Детское чтение для сердца и разума», в
альманахе «Эолова арфа». Автор книг для детей «Улыбка рассадой», «Для чего?» и
книги стихов «Поле притяжения Таганки» (Москва – Вашингтон, изд. «Ритвелд
Паблишинг», 2008).
БУКЕТЫ
ОТ
ЗРИТЕЛЬНИЦЫ ТАГАНКИ
ТЕАТРУ
НА ТАГАНКЕ
Юрию Петровичу
Любимову
к 23 апреля 2009 г.
Беспредельный
простор не объять,
Принимаю
как дар ощущение,
Но
стараюсь запомнить-понять
Ваше
к зрителям обращение.
Нераздельно
Таганки убранство
С
тем, что сцена в себе таит,
Водоноса
живое пространство
Всех,
кто жаждет, всегда напоит.
РУКОПОЖАТИЕ
Ю. П. Любимову
Рукопожатие
рукопожатью – рознь,
А
Ваше – теплотою поразило,
В
нём – красота и сила,
Его
я увезла и сохранила.
Рукопожатие
рукопожатью – рознь.
Иное
лицемерное объятие -
Как
пыль в глаза.
Куда
честней-важней - рукопожатие.
Декабрь 2008
КАТАЛИН
ЛЮБИМОВОЙ
К 45-летию Московского
Театра на Таганке
под руководством Ю.
П. Любимова
Не
просто – гения любить:
Его
принять, своё забыть,
Не
жертва – сердца посвящение,
Вам
мой букет и восхищение!
ТАГАНКЕ
– 45!
Ю. П. Любимову в год
45-летия Театра на
Таганке
Возрадуйся,
ликуй, мой современник,
Таганке
нынче сорок пять!
Любимов
– царь её и пленник,
Москвы
– важнейшая печать.
Почти
ровесник «Черному квадрату»,
Впитал
и классику, и авангард,
Дань
отдаёт и Кафке и Сократу,
При
нём прославился Высоцкий – Гамлет – бард.
Преодолев
и бюрократов, и политиков,
Пытался
он за рубежом творить,
Не
уважая слабаков и нытиков,
Уступок
избегал просить.
C
семнадцатого года со страной,
По
жизни «зайцем» не катается,
И
только музе, ей одной,
В
том, что не сделал, кается.
Двоюродный
из Сезуана брат
С
ним разделяет все дела-заботы,
А
зритель просто откровенно рад
Плодам
его, Любимовской, работы.
Апрель, июль 2009
МОСКВА
ТАГАНКА
ЗОЛОТУХИНУ
К 45-летию
Московского Театра на Таганке
под руководством Ю.
П. Любимова
и 45-летию работы в
нём писателя и
народного артиста
России
Валерия Золотухина
ВАЛЕРИЮ
СЕРГЕЕВИЧУ
Художник
создаёт автопортрет,
Не
для того, чтоб получить ответ
От
зрителей, пришедших на него взглянуть,
И
«распознать» создателя и человека суть.
Стараясь
избежать оценки и разбора,
Ненужной
критики и обойтись без сора,
Читая
Золотухина, я делала закладки
И
собрала заметки-реплики в тетрадке.
«Всем
я обязан матери своей, Матрёне Федосеевне...»
В. Золотухин. «На
плахе Таганки»
«Да,
уж видать, лети сыночек,
Лети,
сизый голубочек.
В
молодости по поднебесью не покружись,
Потом
и вовсе хвост от земли не оторвёшь...»
В.
Золотухин. «Дребезги»
Да
от любви-то кто рождённый,
Да
спрос-то от того особенный,
Да
пронести и передать её он должен
Через
любые испытания-невзгоды.
На том-то и земля
держится.
Да
родила-то его матушка
Да
от любви к сурову батюшке
Да
во краю раздольном со чистым воздухом
За
день до страшной вражеской напасти.
Ох,
уж как болел мальчоночка во младости,
Как
уж матушка слезами умывалася,
Да
как притчами и песнями народными
Та-то
болюшка ночами утешалася.
А
у матушки любови-то немерено,
Уж,
наверно, Богом ей подарена.
Да
не стал сыночек инвалидушкой,
А
вот сладился с гармошкою да с песнями.
Да
пошёл-пошёл твердёхонько
По
земле родимой да в столицу-град,
Чтобы
песнями да словом собранным
Во
народе да прославиться.
Да
учился он старательно,
Будто
знал, того не ведая,
Что
зерно в него посажено,
Чтоб
растил, позднее спросится.
От
села-то до Москвы большой
В
один день не обернутися,
Да
любовь-то доброй матушки
Знать
не знала расстояния.
Он
трудился да по совести.
Стал
артистом, со душой играл,
Много
ездил да дорог исколесил
Но
одну - в село родное не забыл.
Ах,
уж друг какой у него был!
Песнями
народ растормошил,
Все
о чем молчали, он пропел,
Но
уж больно сильно он болел.
Да
и нынче друг-то за спиною,
Руки
в стороны стоит горою.
И,
похоже, им не разойтись,
На
Таганке жизни их сплелись.
Уж
как лет прошло немало да с тех пор,
Да
известным стал артист на всю страну.
Народил
сынов, и внуков увидал,
Да
признание людей нашло его.
Но
как будто не спокоен он душою,
Будто
бы передохнуть не может,
Пишет,
пишет строки да в страницы,
Что
душа о времени диктует.
А
ещё задумал храм построить
Во
селе, где был рождён когда-то,
Трудно,
трудно дело то даётся,
Да
у Бога лёгкой нет работы.
Не
горюй о сыне ты, не плачь, Матрёна,
Оберегом
для него любовь твоя.
Помнит
он блиночки кружевные,
Пироги
в печи, протопленную баньку.
А
спасибо, что держать не стала
Молодого
сиза голубочка,
Но
кружить его пустила в поднебесье.
Многим
радость он работою доставил.
Пусть успешны будут все дела твои,
Пусть Господь убережёт тебя от бед,
Пусть любовь от
матушки да перейдёт
К детям, внукам и
народу твоему!
С днем рождения, дорогой
Валерий Сергеевич!
Июнь 2005
ВЧЕРА КУПИЛ ТЕТРАДЬ
«...книга – это состояние души –
качели, нашего, моего поколения-возраста...»
В.
Золотухин. «Таганский тупик»
«Вчера купил тетрадь,
сегодня – перо и свежие чернила...»
В.
Золотухин. «Мечта о Тихом океане»
Вчера
купил тетрадь,
Сегодня
– свежие чернила,
А
к ним перо,
Чтоб
вместе с ним творило,
И
пишет он о том,
Что
было, происходит,
А
мысль о завтра рядом бродит.
На
склоне длинного метущегося дня
Работает
он, голову склоня...
Дневник
и книга –
состояние
души –
Качели
–
взлёты
и падения в тиши.
«И
слезу матери в копилку...»
В. Золотухин.
«Дребезги»
У
каждого своя копилка.
Он
собирает слёзы, смех, походки,
Актёрская
– особенная жилка,
Бесценны
для него находки.
Не
всякий их раздарит: «На, бери!»
Быть
может, кто-то поменяет на рубли,
Он,
собирая, что не продаётся,
Богатством
делится, с ним расстаётся.
«Я сплавлю скважины замочные...»
А.
Вознесенский. «Ода сплетникам»
Двери
открыты
для
современников,
входите
и
поднимайтесь
наверх,
хватит
места
для
соплеменников,
сегодня
здесь
принимают
всех.
Не
припадайте
ухом
к стене
и
к замочной
скважине
глазом,
снят
занавес
на
окне,
чтобы
всё
вы
увидели разом.
«Со
свечкой, именно со свечкой... Она горит,
и
я переношусь в другой мир, может быть, век...»
В. Золотухин.
«Таганский дневник»
Средь
гор страдающей от глупости бумаги
Страницы
говорящие нашлись
Словами
откровенности, отваги,
Что
многим по душе пришлись.
За
томом том, в них лет собранье,
Имён
известных череда
И
каждодневное старанье,
Друзья,
спектакли, города.
Свеча
горит, в чернилах палец,
Сыночек
рядышком сопит,
Искусства
истинный скиталец
Один
в тиши ночной не спит.
Дай
Бог Вам так всегда трудиться!
Пусть
освящённый классиками слог
Ручьём
живым из-под пера струится.
Желаю
Вам как можно больше строк!
Январь
2006
В. Золотухину в
роли Живаго
на стихотворение Б.
Пастернака «Гамлет»
Господи,
подай мне сил,
Пронести,
не выронить из рук
Чашу,
что когда-то Ты вручил,
И
убереги меня от мук.
Поддержи
и помоги в пути,
Освети
передо мной дорогу,
Без
Тебя по ней мне не пройти,
Без
Тебя слабею понемногу.
Но
Ты рядом, чувствую и знаю,
На
подмостках происходит действо,
Замысел
упрямый принимаю,
И
уходит в бездну фарисейство.
повредившему
ногу
Не
ищите причин,
Не
ищите в себе изъяна,
Вы
там же в фойе,
У
фортепьяно.
А
мы вокруг
И
Вам рады,
Наш
тесный круг –
Пусть
будет преграда
От
врагов и печали,
От
самокопанья,
Настало
время
Для
врачеванья.
Будем
книги Ваши
С
нетерпением ждать,
А
Вам терпения
Хочу
пожелать.
Для
писателя и актера
Нужно
время для созерцания,
Наше
дело – молиться за Вас.
Любим,
ждём свидания!
6
июня 2007
«Мети только у своих ворот...»
В.
Золотухин. «На развалинах личной жизни»
Мети
у своей избы,
Чтоб
краше сделать её,
Коль
нет другой судьбы,
Гони
метлой вороньё.
Мети
у своей избы,
Чтоб
чисто было вокруг,
Не
жди другой судьбы
В
покое не складывай рук.
Мети
у своей избы,
Пусть
пыль столбом стоит,
Другой
не желай судьбы,
В
работе день пролетит.
Мети
у своей избы,
Осядет
пыль, прибьётся,
Не
нужно другой судьбы,
А
солнце к тебе пробьётся,
Мети
у своей избы
И
в холод, и в дождь, и в зной.
Не
будет другой судьбы –
У
каждого по одной.
«Фомин-Степаныч
меня заправил тем горючим,
которое
позволило мне оторваться от земли…»
В. Золотухин.
«Таганский дневник»
Увидела
В. Золотухина с тростью-посохом
перед
премьерой фильма «Птицы небесные...»
Т. Н.
Ну,
а посох для чего?
Чтоб
солидным оставаться,
Чтоб
не петь и не плясать,
От
земли не отрываться.
«Вот найду себе Черткова...»
В.
Золотухин. «Таганский дневник»
Нам
Ваше мнение важнее.
Нам
без Черткова всё виднее.
Нам
нужен тот, кто Бумбараш,
Чужой
не нужен карандаш.
«Я
– человек Валерий Золотухин, и я – художник (писатель, артист). Этот второй
живёт отдельно от человека. Они иногда соприкасаются, а иногда находятся в
очень сильном противоречии между собой. Стремление каждого человека
гармонизировать эти начала...»
В. Золотухин. «Пляши,
брат, где-нибудь играют»
( из предисловия)
Дневник
открыт, бумага манит руку,
И
зазвенели «дребезги»-мгновения –
Наследство
зрителю и внуку –
Плоды
ночного вдохновения.
Чернила
превращают день в слова:
Портреты,
споры, диалоги,
Становится
яснее голова,
Отчётливей,
увереннее слоги.
Художник,
человек и золотая нить
Их
держит на концах своих,
Её
ничем нельзя переломить.
В
одном – соединение двоих.
«Я
их объединил в одну...»
В. Золотухин (из беседы)
«Два дня пьянства. Даже дома не ночевал...»
В.
Золотухин. «Таганский дневник»
Две
Матрёнушки одной
Станьте
за него горой,
Дайте
голос, чтобы петь,
Дайте
волю всё терпеть,
Дайте
силушку не пить,
А
писать, играть, творить.
Дайте
силу для детей,
Для
любимых сыновей.
Две
Матрёнушки одной
Станьте
за него горой,
Станьте
за него горой,
Станьте
за него горой!
Есть
одна страница,
что
мне не по душе.
Т. Н.
Слово
может обрезать,
Может
грязью облить,
Может
жизнь искалечить,
Может
даже убить,
Слово
может одобрить,
Слово
может спасти,
Может
помочь и вылечить
И
до небес вознести.
Что
же такое слово?
В
руки его не возьмёшь.
Слово
– всему основа,
А
вылетит – не вернёшь.
«Жизнь
– это профессия такая».
В. Золотухин. «На
развалинах личной жизни»
Как
это ни звучит парадоксально,
Мы
жить должны профессионально,
Как
дилетанты не рубить с плеча
И
ничего не делать сгоряча.
Ваши
страхи – душевная буря,
А
зачем она малышу,
Помолитесь,
глаза зажмуря,
Помолитесь,
я Вас прошу.
После прослушивания
аудиозаписи
«Сказки о царе
Салтане» А.С. Пушкина
в исполнении В.
Золотухина
Несите
детям наш язык,
Несите
Пушкина со сцены,
Кто
с детства к классике привык,
Традиций
знает цены.
«Если
меня Ю. П. Любимов называет
Домовым
Таганки, то это касается
Домового
артиста, Домового кулис...»
В.Золотухин.
Из книги А. Трутнева
«От «Живого» до «Живаго»
Когда
в фойе Вас у рояля нет,
Таганка
кажется пустой,
И
понимаешь в чем секрет,
Что
означает - Домовой.
ПОРТРЕТ ТАМАРЫ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
На фотографию от 21
июня 2006 года
Скучны
мне ваши толки,
Пустая
болтовня,
Слов
острые осколки
Не
трогают меня.
Моё
пространство свято:
В
нём память и любовь,
Что
некогда распято,
Уже
воскресло вновь.
Для
вас оно закрыто,
Вам
нет туда пути,
Вам
в царство пережитого
Дорогу
не найти.
Тамаре
Тамаре
я не написала и не позвонила,
Как
будто дело не завершено.
Довольно
долго я себя корила,
Хотя,
быть может, выгляжу смешно.
Вот
результат – моё стихотворение
И
благодарность за слова: «Пиши...»
Я
говорю сознательно, не в упоении:
«Благодарю,
Тамара, от души...»
11 ноября 2008 года
На событие 2 июля
2007 года
Две
Матрёнушки одной
Станьте
за него горой,
Дайте,
дайте силушку
Одолеть
кручинушку.
Будьте
с ним и день, и ночь
И
врагов гоните прочь,
Подарите
лёгкий сон,
Чтобы
вылечился он.
Две
Матрёнушки одной
Заслоните,
как стеной,
От
словес пустопорожних,
От
вопросов невозможных
И
от «дружеских стараний»,
Что
ужаснее терзаний.
Две
Матрёнушки одной
От
земли его родной
Поддержите,
сохраните,
Господа
о нём молите!
Рану
смажьте вы елеем,
Миром
за него радеем.
Свечи
в храме засветите,
Утешения
просите!
Две
Матрёнушки одной
Станьте
за него горой,
Заслоните
как стеной
Две
Матрёнушки одной...
3 июля 2007 года
Серёжа
есть. Он жизни вечной
Отдал
пред грешной и земною предпочтение
И
молодости беззаботной и беспечной
Другое
выбрал назначение.
Оставил
память, но не осуждение,
И
радость светлых дней,
Любовь
оставил в утешение,
Себя
отождествляя с ней.
7 июня 2008
«С
Тамарой нормально расстались,
в
дорогу не надо зло прихватывать...»
В. Золотухин. «Эфрос
на Таганке»
Не
бери с собою зло в дорогу -
Слишком
тяжела обуза,
Зла
и так повсюду много,
Легче
путешествовать без груза.
Нет
в книге поднятых знамен,
Нет
лозунгов и нет призыва,
Но
множество названий и имён.
Читаю
день за днём без перерыва.
Без
притч, нравоучений, назиданий,
Без
злобы на прошедший миг,
Но
свежестью воспоминаний
«Таганский»
полнится «дневник».
Зеркальная
стена, а перед ней – толпа,
Лицо,
мелькает отражение.
С
годами успокоится молва,
Но
вряд ли остановится движение.
2006 – февраль 2009
В. Золотухину в роли
маркиза де Сада
и зрителю в первом ряду
со слов рядом с ним
сидевшего Ю. Д.
на спектакле «Марат и
маркиз де Сад»
25 октября 2008 года
«Только
сцена выдаёт тайну об актёре,
меру
его таланту...»
В. Золотухин. «Эфрос
на Таганке»
Один
на один со зрителем. В первый ряд
Его
устремился пронзительный взгляд.
Внимание
полное. Монолог,
Но
есть собеседник, и с ним – диалог.
Маркиз?
Золотухин? Который из них
Читает,
встревожив даже «глухих»?
И
вот уже зритель не знает, где он.
Артистом
великим заворожён.
В
спектакль вошёл и в действо включился,
Ах,
как бы с ним обморок не приключился!
Контакт
на запредельных частотах,
С
актёром они на таганских высотах.
А
зал, замирая, не понимает,
Кому
монолог Золотухин читает.
На
лбу выступает пот у соседа.
Ещё
бы! Впервые такое изведал!
А
что же наш зритель в первом ряду?
Восторженных
чувств испытав череду,
Подарок
со сцены принял достойно,
Но
спать он не смог в эту ночь спокойно.
6 ноября 2008
«...пока
«тюбик» не засох...»
Из предисловия Нины
Красновой
к книге В. Золотухина
«На развалинах личной жизни»
Тюбик
краски –
Можно
испачкаться,
Можно
картину написать.
Только
старайся не обольщаться.
Всё
зависит, как с ним обращаться,
И
хочешь ли художником стать.
ПЛАТОК
«Живаго
слёзы утирал
Моим
платком...»
Нина Краснова. Из
книги «Четыре стены»
Нина
вышила платок
Юрию
Живаго,
Подарить
его решилась –
помогла
отвага.
Дорог
зрителю артист,
дороги
и роли,
К
Золотухину идут все
по
доброй воле.
«Торгую книгами...»
В. Золотухин. «Таганский дневник»
Актер по духу от
рождения
В фойе среди толпы
стоит,
Его питают
наблюдения,
Он ищет их, он ими
дорожит.
Довольны люди и на
память фото
С артистом знаменитым
увезут,
А он работает,
запоминает что-то,
Пока дневник и свечи
дома ждут.
Вот подошла гражданка
из Сибири:
- Что? Золотухин
книги продаёт?
Со всех сторон его
затеребили,
Автограф спрашивают –
он даёт.
С Алтая с
благодарностью за театр
Приехали с улыбкой и
добром,
Артист классический,
в делах новатор,
Относится ко всем с
теплом.
Седой, красивый,
скромный гражданин,
Шепнула спутница:
«Военный, генерал»,
Сказал: «Валерий с поколением
един».
Сфотографироваться
рядом встал.
Рабочие, пенсионеры,
школьники
Непринуждённо все
вокруг толпятся,
«Дозоров» иностранные
поклонники
Стараются по-русски
изъясняться.
Артист на сцене, и в
фойе - не зритель,
Работает и от людей
не устаёт,
И, как
старатель-просветитель,
Он не от них, он к
ним идёт.
Июнь 2007 - февраль 2009
«В созвездии
Близнецов
открыта
малая планета,
которой
присвоено имя «Валерий Золотухин».
А. Трутнев «От
«Живого» до «Живаго»
Слово
их соединило
Книжным
переплётом,
За
планету «Золотухин»
Слава
зведочётам!
Из книги «Поле
притяжения Таганки»
Попала
в поле притяжения Таганки,
Где
любо все: от входа до изнанки,
Где
люстра непонятного дизайна
Шепнула
как-то:
«Здесь
хранится тайна».
Я
не хочу ее открыть,
Хочу
к семи туда прибыть
И
просто быть,
И
просто быть.
Здесь
пожилым легко помолодеть,
А
молодые могут повзрослеть,
Здесь
русский сохраняется язык,
Здесь
зритель к уважению привык.
Здесь
Пушкин вас в фойе встречает
И
вольности Любимову прощает,
По
Вознесенскому, актрисы
выше,
чем богини,
Есть
голос, блеск в глазах,
фигурность
линий.
Здесь
сорок лет играют гениально,
Легко,
с достоинством, профессионально.
Но
в легкости видна работа,
По
результатам – до седьмого пота.
Взглянув
в фойе на бюст-хранитель,
Благодарю
я каждого и всех,
Пусть
здесь живет успех,
Татьяна
Н. –
таганский
зритель.
ВСЁ ТАМ ЖЕ,
в фойе Таганки:
-
Валерий Сергеевич, подпишите, пожалуйста:
Михасику.
-
А сколько лет Михасику?
-
Два месяца.
-
...........?
-
Да. Вот хочу приготовить ему Вашу книгу на будущее.
К
45-летию Театра на Таганке. Сергей Телюк. Заметки об улице Владимира
Высоцкого
__________________________________________________________________
Сергей
Телюк
Сергей
Телюк родился 26 марта 1956 года в Москве. В 1978 году окончил Московский
автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и получил квалификацию инженера-строителя
по специальности «Мосты и тоннели». Работал по этой специальности. Служил в
армии. Занимался в литературном объединении «Весы» у А. Викторова, где
занимались также В. Коркия, М. Пластов, А. Гедымин, А. Саед-Шах, А. Добрынин,
А. Шацков и др. После распада «Весов» занимался в литературной студии «Высота»
у М. Беляева. Работал в газете «Литературные новости», в
редакционно-издательской фирме «РОЙ», был членом редколлегии альманаха
«Истоки», занимался переводами с белорусского языка для «Литературной газеты».
Автор книг стихов «Сказание о сколотах» (1996), «Сказание о праславянах»
(1997), «Кое-что о Юливанне» (1998), «Страна родная» (1999), «Предначертание»
(2003) и др.
АГА!
ТАК «ВОТ В ЧЕМ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ»!
(О переименовании
улицы Шверника в улицу Высоцкого)
Когда-то
телевизионный центр предполагалось возводить не в Останкино, а в районе Новых
Черемушек. И там заранее, в 1958 году, появилась улица Телевидения, сама по
себе короткая, протяженностью не более полутора километров. А в 1971 году, в
связи с изменением планов, ей дали другое название, в честь советского
государственного партийного деятеля Николая Михайловича Шверника (1888 – 1970
гг.). При этом надо сказать, что он к этой улице никакого отношения не имел…
Но
с 1962 года по 1975 год на этой улице в доме № 11, корп. 4, кв. 41 (обычной
хрущевской пятиэтажке, снесенной в конце 1998-го) был прописан у матери и
фактически проживал Владимир Семенович Высоцкий…
В
ноябре 1997 года нам позвонил Андрей Таль (художник, участник печально-известной
«Бульдозерной выставки») и, немного поговорив с женой Ириной (художницей) об
общих для них «малярских» делах, вдруг попросил ее заняться переименованием
улицы Шверника – неподалеку от которой мы жили – в улицу Высоцкого… И тут же
сообщил, оказывается, чуть ранее этим вопросом занимался сын Владимира
Семеновича, Никита, но в верхах ему отказали, ссылаясь на то, что инициатива
должна исходить снизу… До него та же участь постигла Юрия Любимова, из-за
«малого срока», прошедшего после безвременной кончины Высоцкого, хотя в случае
со Шверником – прошел всего лишь один год… Да и позже: с Ельциным – изменилось
название улицы в Екатеринбурге в его честь аккурат за несколько дней до первой
годовщины смерти; а с Солженицыным – вообще московскую Большую Коммунистическую
улицу, берущую начало от Таганской площади, переименовали, через четыре месяца
после кончины Александра Исаевича… Это я к тому, что закон у нас по-прежнему
«что дышло: куда повернул – туда и вышло»…
Но
делать нечего – попытка не пытка…
До
праздников Ирина успела: побывать на приеме у главного архитектора
«Академического» округа, где ей объяснили, что с этим надо обращаться в Мэрию;
и, затратив немало времени, дозвониться в комиссию по переименованию улиц
города Москвы, где ее отчитали за незнание законов…
Хамство,
конечно, и вранье… Ведь нам (естественно, я – не мог оставаться в стороне) было
известно, что на тот момент не подлежали изменению только исторические названия
улиц, находящихся, в основном, в пределах Садового кольца. Такое, собственно
говоря, правильное ограничение категорически не позволяло поднимать вопрос по
поводу Большого Каретного переулка, или Малой Грузинской… Впрочем, мы об этом и
не задумывались.
Наступил
1998 год, в котором Высоцкому могло бы исполниться шестьдесят…
Мы
с Ириной занимались сбором подписей жителей улицы Шверника… Андрей Таль с
друзьями готовил проект оформления улицы в виде грифа гитары со скульптурами,
символизирующими семь нот… Кроме того, нам вместе казалось уместным
использование в новых условиях близлежащих кинотеатра «Улан-Батор» и сквера для
всевозможных бардовских концертов, фестивалей…
В
общем, все шло своим чередом. И в июне я отвез в приемную Мэрии три письма на
имя Ю. М. Лужкова (от инициативной группы, от «Дома Высоцкого на Таганке» и,
благодаря содействию Андрея Вознесенского, от Русского ПЕН-центра), с просьбой
о переименовании улицы Шверника…
Прошел
месяц. В преддверии годовщины смерти Владимира Семеновича я обзвонил
информационные программы TV, с предложением
темы… Откликнулся Борис Соболев из «Времечка» – снимали 23 июля (интересно,
когда в завершение, часа через два, Борис прямо на улице стал допытываться у
случайных прохожих о Швернике – кто он? – никто так и не смог толком ответить)…
Получившийся 4-минутный сюжет показали на следующий день…
И
в «Московском комсомольце» Сергей Мнацаканян опубликовал материал под названием
«Где же ты, улица Высоцкого?»…
А
в годовщину смерти около могилы общенародного любимца на Ваганьковском кладбище
мы с помощью Нины Красновой и нашей соседки по лестничной площадке Иры
Кочетковой в поддержку дополнительно собрали множество подписей…
Но
дальнейшее от нас уже не зависело… Рассмотрение вопроса в Мэрии, отложенное на
осень, состоялось 30 сентября 1998 года…
Заседание
должна была проводить заместитель Городской межведомственной комиссии по
наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города
Москвы, Майя Федоровна Симонова, с которой я вел предварительные телефонные
переговоры… Ее точка зрения сводилась к тому, что в столице память Высоцкого
увековечена достаточно, и, кроме того, она утверждала, что кем-то собираются
подписи в защиту имени выдающегося государственного деятеля Н. М. Шверника
(последнее – звучало бредом сивой кобылы: уж мы-то, включая «Времечко», изучили
его биографию)…
Созвонившись
накануне мероприятия, я спросил у Симоновой: можно ли привести еще кого-нибудь,
имея в виду, гендиректора Русского ПЕН-центра Александра Ткаченко или TV?
И получил отказ по причине: комнатка маленькая, а комиссия большая…
Вновь
мы столкнулись с враньем… Площадь «комнатки» № 308, в которую меня пригласили,
была порядка сорока метров, внутри находилось всего лишь десять человек… Там,
на фоне собравшегося кворума (из него – восьмерым было далеко за шестьдесят?!),
пребывавшего как будто в дреме, председательствующая Майя Федоровна, коротенько
изложила суть дела… Надо сказать, все говорилось с откровенно язвительной
интонацией, подчеркивающей тщету чаяний инициативной группы… Когда же речь
зашла о письме-поддержке писателей, то прозвучал следующий перл: «… Ахмадулина…
Битов… Вознесенский… ну и все остальные…» Потом, почти без паузы: «Отказать,
из-за противоречия закону!»
Я
– остолбенел… Но, быстро придя в себя, попросил дать мне слово… И попытался
объяснить собравшимся, что, во-первых, «мы» – это несколько тысяч москвичей,
проживающих по улице Шверника, а, во-вторых, «мы» – просим вернуть улице
старое, так сказать, историческое название, а затем, в виду его нелепости,
переименовать…
И
тут в руках у Симоновой появилось письмо (явно домашняя заготовка), смысл
которого заключался в том, что Некто просил назвать московские улицы
прилагавшимися ниже именами заслуженных людей… Из чего якобы следовало: «Дав
одной из улиц название «Улица Владимира Высоцкого», комиссия принизит
достоинства вышеперечисленных людей…»
В
репликах же я услышал: и то, что «смешно звучит: Высоцкий жил на улице
Высоцкого»; и то, что в названиях московских улиц еще не отражены имена всех
Героев Советского Союза; и многое-многое другое…
Резюмируя,
Майя Федоровна обратилась ко мне: «А есть ли у вас деньги на переименование
улицы? У Мэрии – нет…»
Ага!
так «вот в чем собака порылась»!
Лично
я таких денег, конечно же, не имею, но думается, что горожане нашли бы их с
лихвой, ведь Владимир Высоцкий – коренной москвич…
К
45-летию Театра на Таганке. В пространстве «Таганки». Поэты Таганской сцены.
__________________________________________________________________
ПОЭТЫ
ТАГАНСКОЙ СЦЕНЫ
Верно
говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Вот и в мире артистов есть
те, чьи способности проявляются и за пределами сцены, на которую они выходят в
разных ролях. И бывает так, что есть у такого артиста ещё одна роль, не всегда
известная зрителям. И роль эта – поэт...
В
своём очередном выпуске альманах «Эолова арфа» предлагает читателям
познакомиться со стихотворениями, сочинёнными артистами Театра на Таганке.
Дмитрий
Высоцкий
Дмитрий
Высоцкий (р. 1975). Учился в музыкальной школе. Закончил Московское
военно-музыкальное училище, служил в штабе Московского военного округа. Выпускник
Театрального училища имени Б. Щукина. С 2001 г. – артист Театра на Таганке.
Занят в спектаклях: «Антигона», «Горе от ума – горе уму – горе ума»
(Репетилов), «До и после» (Пьеро), «Добрый человек из Сезуана» (Ванг, водонос),
«Евгений Онегин», «Живаго (доктор), «Замок» (Иеремия), «Идите и остановите
прогресс», «Квадратные круги» (Солдат), «Марат и маркиз де Сад» (Глашатай),
«Мастер и Маргарита» (Левий Матвей), «Сказки» (Сказочник Снип), «Суф(ф)ле»,
«Фауст» (Валентин, Гомункул), «Хроники» (Перси; Уорик; Молва), «Шарашка»
(Володин). Снимался в фильмах: «Водитель для Веры» (Рохас), «Русская игра»
(Саша Глов), «Заговор», «Продолжение следует», «Ты мне снишься» и др. Солирует
на трубе в составе группы «Гренки».
«Дмитрий
Высоцкий – яркий, талантливый артист. Он музыкально одарён. Дмитрий хорошо
поёт, владеет музыкальными инструментами... прекрасно двигается, танцует, он
очень пластичен, ритмичен, у него великолепная физическая подготовка,
позволяющая ему с лёгкостью выполнять на сцене сложные акробатические этюды...
Дмитрий – глубокий, начитанный человек, любит и чувствует поэзию. Он
трудолюбив, тщательно отделывает каждую роль, совершенствует своё мастерство,
расширяет палитру средств выражения. У него ярко выраженная творческая
индивидуальность и очень высокая работоспособность. Дмитрий занят почти во всех
постановках театра, во многих у него не одна роль, а несколько, он способен
быстро перевоплотиться и выйти на сцену в новом образе. Он играет увлечённо,
выразительно, он любит свою профессию и получает от игры большое удовольствие,
это подкупает зрителей, и Дмитрий имеет большой успех у публики. Сейчас он (из
молодых) – ведущий артист Театра на Таганке».
(По
материалам Театра на Таганке)
*
* *
Я
буду вспоминать тебя зимой,
Когда
холодный ветер, завывая,
Качает
фонари над мостовой,
И
я, прильнув к окну, мечтая
Увидеть
корабли на рейде, и маяк,
И
звёзды, тонущие в спящем море,
Смогу
увидеть лишь тебя. Вот так
Волна,
лаская берег, на песке
Свой
пенный оставляя след, в тоске
И
одиночестве покинув берег,
Исчезнет,
но у берегов Америк
Или
у Африки когда-нибудь
Родится
вновь в прибое, и ничуть
Не
смогут расстояния и штормы
Разрушить
чувства тайную печать.
И
никогда я не смогу понять,
Зачем,
прильнув к окну, покорно
Зову
твой образ и не сплю опять.
Сергей
Цимбаленко
Сергей
Цимбаленко (р. 1979 г.) окончил актёрско-режиссёрский курс в Киевском
национальном университете, работал в Академическом театре юного зрителя на
Липках в Киеве. В 2004 г. в спектакле «Сократ/Оракул» дебютировал на сцене Театра на Таганке. Занят в спектаклях
«Хроники», «Суф(ф)ле», «Электра», «Горе от ума – горе уму – горе ума», «Сказки»
(Тростничок), «Добрый человек из Сезуана» (Столяр Лин То), «Тартюф» (Дамис),
«Идите и остановите прогресс», «Замок» (Артур), «Шарашка» (Руська),
«Живаго(доктор)» (Студент). Снимается на телевидении.
Сергей Цимбаленко является автором сборника
«Песни-призраки» (М., 2008) – книги, отмеченной своеобразием поэтической
эстетики, соединением различных языковых стилей, а также содержащей неожиданные,
по-хлебниковски необычные слова
(например, «громы-громостуки»). В яркости образов, в цвете звуков и в звуке
красок у стихотворений, помещённых в этом сборнике, есть сходство с живописными
произведениями, а что-то свойственное классической японской поэзии – в строках,
написанных во время поездки автора в Японию на репетиции «Электры» у Т.
Судзуки: «Тихо завтра дремлет у лачуги – /Что оно, змея или дитя?» И
удивительна скромность персонажа-автора: «Лишь пара слов из пустоты, /Как
опечатка – /Средь тьмы томов чужой судьбы /Моя цитатка».
ПЕСНЯ
ПРО ТЕНЬ
Вечерней
порою безмолвной украдкой
Идёшь
ты за мною привычной повадкой.
Зеркальной
фигурой под свет фонарей
Ты
следуешь хмуро в подножье аллей.
Безликий
мой пленник! О, что ты молчишь?!
Мне
дрожью шершавой аукает тишь…
И
мнится мне – я, а не ты – заключённый:
Извечно
ходить пред тобой я рождённый!
Лишь
стоит на миг от тебя отвернуться,
Как
тихо спешишь надо мной ухмыльнуться –
То
дразнишь меня силуэтом кривым,
То
вторить не хочешь движеньям моим,
А
ночью, когда засыпаю – не спишь,
Уходишь
и всем обо мне говоришь:
Как
хворые мухи, разносятся слухи,
И
сплетни сзывают ко мне заварухи.
Душа
для любого моя приоткрыта!
И
имя моё фонарями облито!
Как
вражеский воин – повержен секрет!
И
тайна мертва – потаённого нет!
Во
всякую пору безмолвной украдкой
Идёшь
ты за мною привычной повадкой…
2008
г.
ТЕАТР
Винтовка
у стены
Смутнеет
в зеркалах,
И вялые цветы,
Чьи
венчики красны
От
давнего вина –
Напоминают
стр-р-р-ах.
Обнажено
окно
В
латуневых каймах,
И
взорам холодно,
Как
комнатное дно
Под
тенью потолка –
Напоминает
стр-р-р-ах.
И
голосом немым
Перерождая
прах,
И
помыслом больным
Рассеивая
дым,
Под
сталью топора –
Актёр
пророчит кр-р-р-ах.
Припадки
темноты
В
отчаянных глазах…
В
предвестьи пустоты
Искривленные
рты,
Уродливы
тела –
Актёр
пророчит кр-р-р-ах.
И
буйствует герой
В
невидимых гробах,
И
мёртвою рукой
Буравит
перегной.
Слепой
глашатай сна –
Мертвец
в живых век-ах!
2004
г.
ПОСЛАНИЕ
ЧАЦКОМУ
Воспоминания
упрямо воскрешали
Твой
плащ, твои глаза, твою ходу…
Молва
заискивая вила, словно шали,
Твоих
шагов лихую череду.
Красноречивою
вуалью обличенья
Твой
острый ум просторы обволок,
Так,
утолщая завитки разоблаченья,
Ловил
пороки праведный челнок.
Напрасен
труд, не вспоминай – меня не знаешь.
Я
– очевидец будущих времён.
Смотрю
и ныне, как себя ты прославляешь…
Триумф
же мой – до срока потаён!
Ну
что сказать? Земля – воистину невежда,
И
глас её тебя не разгадал:
Без
веры подлинной, без истовой надежды
Как
срамный трус в карете ты бежал…
Не
трогай истину – она тебя сильнее!
Твой
плотский ум – над миром не судья!
Слова
– ничто, и мудрость в них – душа халдея,
Коль
крен любови жертвенной – в себя.
Любовь
себя не чтит, другими пламенея.
2008
г.
РАЙСКАЯ
ГРУСТЬ
Вижу
я рассвет у водопада:
Неба
свет на вздыбленной воде…
Живописный
край – моя награда –
Не
помочь ему моей беде.
Золото
лучей палящих ранит
Жажду
света в сумраке души;
Звук
ручья бегущего дурманит,
Как
монеты – страчены гроши.
Где-то
иволга запела в чаще,
Как
и я один – она одна;
Только
мне не петь струной звенящей:
Моя
песня сердца – не слышна…
Закипает
зелень по округе;
Паром
поднимается роса…
Близок
рай. Вдали моя подруга:
Нам
очей скрещенье – небеса…
2009
г.
СМОТРЮ
НА СОЛНЦЕ
Вверху
облака маршируют упрямо,
И
шествие их высоко,
Но
эти парады паров белокрылых
Увы,
не приносят тепла.
В
заоблачной выси тепло и уютно –
Мансарда
её далеко,
И,
кажется, туги там тают ручьями
И
грусти сгорают до тла.
В
местах этих чинно и благостно вышит
Заутренний
солнечный шар.
Лучей
его жарких ещё я не чую –
Их
надобно полдню поднять,
Но
солнце всё выше, и полдень уж скоро –
Рождается
пламенный жар…
Звездой
ослеплённый – теплюсь озареньем,
Где
Счастье так просто мне взять.
2008
г.
ПЕСНЯ
ПРО МАМУ
Я
уже не тот, что прежде.
Ты
прости за прямоту:
Знаю,
мама, горьки вести
В
твои помыслы несу.
Для
тебя я как ребёнок,
Защищённый
от времён.
Лишь
меня лелея взглядом,
Дух
твой умиротворён.
Слышишь,
мама, песня льётся:
Пригуби
её, прошу.
Успокойся,
вот он – здесь я,
Никуда
не ухожу!
Вот
слезинка покатилась…
Отряхни
скорей пукой!
Пусть
обидные грустинки
Не
тревожат твой покой.
Помнишь,
подвига искал я –
Ты
мне веру отдала.
О,
всевидящая мама –
Дважды
сына родила!
Торжествуя
и рыдая,
Подвиг
тот, длинною в жизнь,
Я
исполню воспаляя
Образ
твой. Вовек аминь.
Во
Господню Синь!
Во
Господню Синь!
4
– 5 мая 2000 г.
*
* *
Погибель
сердца – то Земля.
Любви
рожденье – гордость Неба.
Кто
ты – моя и с кем я не был,
Скажите,
гордые края?!
Как
шорох чистого ручья
Трепещет
вера: «Слава Богу!»
Во
тле сердец струит дорогу
От
духа в дух. В том мысль моя…
И
Слава Богу!
Слава
Богу!
4
сентября 2001 г.
Руфат
Акчурин
Руфат
Акчурин (р. 1983) закончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. На IX телевизионно-театральном
фестивале «Ожившая сказка» отмечен специальным призом «За талантливое
исполнение мужской роли в дипломном спектакле» (Труффальдино в «Зелёной птичке»
Карло Гоцци). В 2007 г. принят в труппу Театра на Таганке. Участвует в
спектаклях: «Живаго (доктор)», «Марат и маркиз де Сад» (Дюпре), «Фауст»,
«Электра».
ПАРАЛЛЕЛЬ
Окно,
покажи
мне что-нибудь ещё,
кроме
красного неба и жёлтых птиц.
Я
возьму свои слова обратно.
Размотаю
все дороги,
по
которым ходил.
Вынюхаю
все деревья заново.
Снова
буду бросать
все
свои осенние листья на ветер.
Выну
гвоздь из ноги от посылки,
на
которую ребёнком напоролся.
Разорву
себе глаза
всеми
виденными мною сумерками.
И
без конца буду вдыхать
всеми
своими носами
её
аромат, её запах пота, её
что-то
никому, кроме меня, неизвестное.
Вымучаю
в себе светлого бога.
Ещё
раз полезу в шахту с лифтом
и
достану ключ от всё помнящей квартиры.
Насмотрюсь
чёрно-белых,
рыжих
и седых коров.
Воскресну
на время в васильковых обоях,
в
солнце сквозь мокрое бельё на верёвках.
Запахну
весь скошенной травой.
Успокоюсь
деревом над рекой.
Изношу
все отцовские свитера.
Напьюсь
каждой каплей из груди матери.
Поездами
брошусь в ночную тишь.
С
моста внизу булькну розовым камнем.
Исколю
себе стопы еловыми иглами.
Сужу
зрачки до слепоты на солнце.
Выскребу
на белом листе
свою
первую букву.
Взорвусь
звонками в пустых коридорах.
Лягу
на слизанные шпалы бликами.
Вспомню
смотанных мух паутиной.
Ещё
раз вкус неба во рту испробую.
Исчувствую
страх поцелуев, объятий.
Весь
пропахну весенним вечером.
Лягу
тенью собственной в детской.
Голубем
прилечу с перебитым крылышком
и
на лапке с ниточкой в форточку вылечу.
Только
удержи меня за руку.
Только
глазам не дай увидеть.
Только
сердце не оборви на вздохе.
Только
ногам дай сил всё выбежать.
Дай
же нам сил,
Боже,
натяни
горизонт
в
печальную улыбку заката.
ЖАК-ИВ
КУСТО, О КОТОРОМ Я ПОМНЮ,
И
НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН БЫТЬ ПОД ВОДОЙ
Я
не смогу домыслить этой картины.
Стоит
холодильник.
Мы
в
центре мировой паутины.
На
завтрак будильник.
На
ужин водка,
если
хочешь – гашиш.
Седьмая
по счёту
подводная
лодка
уходит
в тишь
воротить
дно,
спасать
мёртвых,
водяных,
русалок.
Кусто?
Где
теперь
твоя
полная дырок «Калипсо»?
Неужель
всё бессмысленно?
Как
и открытая
под
водою дверь,
в
смысле,
как
дверь,
за
которой вода океана
и
ни грамма воздуха.
Странно,
что
у нас есть жабры
и
плавники.
Здесь
в темноте,
среди
водорослей и якорей,
утонувших
надежд,
матросов,
чьи
сны
так
и останутся снами,
ангелы
плывут
без одежд,
и
они
говорят
с нами.
И
чем больше градус,
чем
бессвязнее речи,
чем,
извиняюсь,
за
борт от качки
тянет
сильнее
вас
блевануть,
тем
становится легче
принять
возможность
самому
утонуть.
А
тем более с другом,
что
ходит в принципе
по
такому же кругу,
нарезая
себе
облака
из бумаги
и
спьяну солнце,
покрасив
в луну.
Он
и я достаём
из
всеобщего нам кармана
вину
утопленника
перед океаном,
который
его
ни
о чём не просил,
однако
в который,
немного
подумав,
утопленник
опустил концы.
В
это горькое плаванье
ушли
добровольно,
ничего
не брав.
Разве
только
её
– как икону, как образ,
и
любовь на горбу,
и
пару рубашек,
выданных
в день рожденья.
«Я
что-то вас не пойму?» –
эхом
вопрос продавщицы.
Ответ:
«Я
уплываю и без изменений
всё
откладываю
в долгий ящик».
А
друг меня ждёт
такой
же уставший,
прощаемся
с сушей,
выпиваем
яд. Йод
на
раны
без
сомнения, жжёт.
И
всё же,
так
будет лучше.
Километры
воды над нами,
мокрый
песок,
выносящие
глубину созданья,
и
мы все здесь молчим,
либо
пускаем
пузыри
улыбаясь,
ибо
в
них нет воздуха и
нет
причин
расстраиваться,
что
люди не умеют летать.
Не
нужно больше
ничего
объяснять –
я
открыт.
Иногда
не стоит оглядываться,
тем
более
здесь некуда падать.
Говорю
тебе
и
себе заодно:
«Пей
и забудь,
мы
умеем плавать».
КАПИТОЛИЙСКАЯ
ВОЛЧИЦА
Canis lupus – научное латинское название
волка: «Собака-волк».
Капитолийская
волчица
хромала
на
четвёртую сторону света
с
отрубленным хвостом.
Искала
то
ли своих детёнышей,
то
ли пьяными руками отдыхающих
брошенную
в лесу,
лежащую
за кустом
кость.
Более
человечных,
обезболивающих
глаз,
более
нависших над ними
ушей,
более
хромое
в
этой полосе существо
не
увидишь.
Из
всех фраз
спеленаю
болезненно-прекрасное,
полное
вшей,
совершенно
немое,
лёгкое
воровство
из
моей души.
Капитолийская
волчица,
что
делать,
если
Рима больше нет...
Только
на карте.
Нам
негде лечиться.
Такой
страны нет
ни
в апреле, ни в марте.
Боюсь
сказать,
Вообще
во вселенной.
Давно
стёртые вожжи.
Вместо
–
электрические
провода
с
удовольствием заменяют свет.
Колесница
в небо.
Нет
места?
Что
же?
Окончательно
сгнила.
Ведь
что бы ни происходило –
остаётся
только вода.
Пораненным
нёбом над нами
стремление
вверх
вырастает
перпендикуляром
к
земле.
Ты
столько ходила зазря,
бедная.
Остаётся
только
оголить
клыки
на
своё одиночестВО,
и
хромать по траве,
использованной
во
благо всего,
даже
термин такой
есть:
«человечестВО».
Ты
разносишь,
глядя
исподлобья
на солнце,
свет
по
домам, по почтамтам,
по
окнам –
и
да, и нет –
по
лицам, сквозь стёкла
отчего-то
пустых электричек.
Ничего
не просишь
за
зыбкостью перемен,
не
трогая воспалённых сердец,
ты
несёшь людям свет,
а
взамен,
даже
когда
тебе
самой приходит конец,
ты
просишь,
так
как не можешь иначе,
пронзительно
просто издавая лай,
у
всех людей, идущих по улицам,
отдать
тебе
ни
больше, ни меньше
свою
печаль.
И
оттого-то,
всё
более удаляясь в лесной массив,
я,
чувствуя
себя
немного
пристыженным
среди
плачущих ив,
умираю,
капитолийская
волчица,
твой
последний
римлянин.
Публикацию
поэтов Таганской сцены подготовил
Петр
Кобликов
К
45-летию Театра на Таганке. В пространстве Таганки. Петр Кобликов.
__________________________________________________________________
СВЕЧИ
«ТАГАНКИ»
В
первом выпуске альманаха «Эолова арфа» (2009 г.) помещено эссе Петра Кобликова
«Кеды Водоноса», посвящённое 45-летию Театра на Таганке. С автором, одним из
давних зрителей этого театра, мы договорились о встрече, когда перед началом
спектакля он всматривался в пламя свечей, расставленных на кипенно-белом чехле
рояля в фойе.
А
несколько дней спустя мы побеседовали.
«Эолова
арфа»: Говорят, Вы бываете только в Театре на Таганке?
Пётр
Кобликов: Нет, почему же, в других театрах тоже, стремлюсь попасть и в очень
посещаемые, и в малоизвестные – те, которые называю так: «подвально-чердачные».
«Эолова
арфа»: А как выбираете, куда пойти?
Пётр
Кобликов: Спрашиваю знакомых, вкусы которых знаю. Мне очень помогают их отзывы,
которые иногда заметно отличаются от мнения театральных критиков.
«Эолова
арфа»: Вы ставите под сомнение компетентность профессиональных знатоков театра?
Пётр
Кобликов: Почему-то во все времена у театральных критиков, иногда не без
оглядки на вкусы их тогдашнего начальства, были свои любимые спектакли, в том
числе и те, которые впоследствии оказались безнадёжно забытыми. Но нередко
бывало и так, что критика какой-то спектакль дружно не принимала, а шёл он с
аншлагом. И дело не только в «испорченном» вкусе зрителей, а в том, что именно
такой спектакль был незаурядным, не вписывался в привычные мерки. Только со
временем становилось понятно, что этот спектакль оказался настоящим прорывом в
неизведанное. И получалось, что как раз-то публика и была права.
Подобное,
между прочим, нет-нет, да и со спектаклями «Таганки» случалось в первые годы её
существования: критика новые работы Юрия Любимова и его артистов не всегда
жаловала, а попасть простому зрителю на эти спектакли было невозможно. Правда,
та критика существовала в основном в ненаписанном, неопубликованном виде, она
рождалась изустно на просмотрах-прогонах, где присутствовали разного рода начальники от искусства, коих можно
назвать «критиками по должности».
«Эолова
арфа»: А каково, по Вашему мнению, отношение критики к спектаклям нынешней
«Таганки»?
Пётр
Кобликов: Современная театральная критика, кажется, не такая дружная, как сорок
лет назад. И, хотя иной раз хочется и сегодня вспомнить словосочетание «заговор
молчания», нельзя всё же не заметить, что на премьеры «Таганки» в последние
годы отклики бывают. Ругательных, доносительских отзывов, какие бывали прежде,
вроде бы и нет: то как бы снисходительно, то даже восхищённо хвалят. Но как?
Такое впечатление, что иные авторы статей о новом спектакле смотрели премьеру
«Таганки» случайно, «по верхам», не зная всего репертуара этого театра, не
понимая, какое положение новый спектакль занял среди остальных. Более того, эти
критики приходят на первое или второе представление, когда спектакль только
поставлен, а оценить то, что получилось, наверное, можно лишь тогда, когда
спектакль уже некоторое время идёт.
Да
и курьёзы в появившихся откликах на премьеру бывают: то имена артистов
перепутаны (так было в одном «толстом» журнале про «Антигону»), то вообще ни
одно из имён не упомянуто (так было в другом, «глянцевом», про «Суф(ф)ле»), то
дан пересказ литературной основы, а о самом спектакле – почти ни слова (так
было в одной известной газете про «Горе от ума – горе уму – горе ума»).
«Эолова
арфа»: Но неужели такое может делаться преднамеренно, целенаправаленно?
Пётр
Кобликов: Не обязательно, тут просто следствие невнимательности и такого
невосприятия увиденного, которое так и хочется в шутку назвать «углублённым
непониманием». Хотя, впрочем, и первое не исключается. Возможно, что иногда это
делается с целью увести от сути самого спектакля, от сути самой «Таганки».
«Эолова
арфа»: И у Вас есть основания для этого утверждения?
Пётр
Кобликов: Есть только очень осторожные предположения. Смотрите, премьера
«Сказок» пришлась на сорокапятилетие театра. А какой отклик на эту премьеру был
именно как на юбилейную? Какая реакция была на эту дату у тех, кто могли хотя
бы по должности своей поздравить театр и с годовщиной, и с премьерой? Будто бы
такая: «Не юбилей, вот дождёмся пятидесятилетия, тогда…» А ведь сорокалетие
«Таганки», строго говоря, тоже юбилеем (в точном значении этого слова) не было,
но как замечательно оно было отпраздновано.
Между
прочим, и сорокапятилетие выхода в свет легендарных «Тарусских страниц» почти
никто не вспомнил. А ведь тридцатилетие этого альманаха в девяностые было
отмечено как событие.
«Эолова
арфа»: Разве же тут есть какая-то связь?
Пётр
Кобликов: Есть. Недолгая, иногда с ледяными заторами, «оттепель» рубежа
пятидесятых-шестидесятых подарила и читателям, и зрителям, и слушателям много
нового, свежего и на страницах журналов, и в выставочных залах, и на экране, и
на сцене, и на концертах. Я это хорошо помню, рос рядом с тогдашними
тридцати-сорокалетними творческими людьми, впитывая в себя их дух, их
настроения. И сегодня берусь утверждать, что и «Тарусские страницы», и
тогдашние первые исполнения выдающихся симфонических произведений, и знаменитые
художественные выставки, и кинопремьеры, и «Современник», и «Таганка» – всё это
звенья одной цепи.
«Эолова
арфа»: Но ведь «Таганка» – явление уже середины шестидесятых?
Пётр
Кобликов: Если подойти к её основанию со строгими хронологическими мерками, то
да. Но если вспомнить, что в Щукинском училище работа над ещё студенческим
спектаклем «Добрый человек из Сезуана» началась года за полтора, а то и два, до
премьеры на «взрослой» театральной сцене, то получается, что это по времени
почти совпадает с появлением «Тарусских страниц», с самым началом шестидесятых.
«Эолова
арфа»: Вы видели спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Щукинского
училища? Помните тогдашнего Юрия Любимова?
Пётр
Кобликов: Нет, этот спектакль я увидел впервые года три спустя, уже на «Таганке».
А Юрия Любимова мог видеть на сцене Вахтанговского театра, будучи ещё младшим
школьником. Сейчас пытаюсь найти тогдашние театральные афиши или программки: а
вдруг?..
«Эолова
арфа»: От премьеры «Доброго человека из Сезуана» до премьеры «Сказок» прошло
четыре с половиной десятилетия. «Таганка» та же, что в шестидесятые, или
другая?
Пётр
Кобликов: Если посмотреть на теперешний состав труппы «Таганки», то, на первый
взгляд, другая: очень немного имён, знакомых зрителям шестидесятых. Зато каких
имён! Но главное, что сам Юрий Любимов – тот же: ищущий и находящий, и, как
прежде, умеющий удивить публику неожиданностями. Как в «Добром человеке из
Сезуана», поразившем зрителей отсутствием барьера между ними и сценой, так и в
«Сказках», предлагающих публике погрузиться в круговорот совершенно
непривычного зрелища, причём зрелища в самом высоком смысле этого слова: тут и
прыжки на батутах, и фокусы, и музыканты прямо на сцене, и многое что другое.
«Эолова
арфа»: Разве же тут нет «повторения пройденного» театром и в шестидесятые, и в
семидесятые, и в более поздние годы? Ведь нечто подобное было свойственно
«Десяти дням, которые потрясли мир», отчётливо видно в спектаклях «Мастер и
Маргарита», «Марат и маркиз де Сад»: элементы цирка, балагана, народного зрелища,
не так ли?
Пётр
Кобликов: Да, так: всё это – «родом из
детства» Театра на Таганке. Но это – верность эстетике, положенной Юрием
Любимовым в основу того, что ещё в прологе спектакля «Добрый человек из
Сезуана» было названо «театром улиц».
«Эолова
арфа»: «Таганка», как полагают некоторые знатоки, доступна пониманию далеко не
всех зрителей, какой же тут театр улиц?
Пётр
Кобликов: Если зритель идёт в Театр на Таганке без предвзятости, без
определённой установки («хочу увидеть то-то и то-то»), а с сердцем и душой,
открытыми восприятию именно того, что будет вершиться в спектакле, то это – его
театр. И, образно говоря, не важно, в каких одеждах он входит в театр – в
костюме, в свитере, в шинели или в ватнике. Важно другое: готов ли он
погрузиться в стихию спектаклей Юрия Любимова? И я убеждён в том, пусть здесь
со мной согласятся далеко не все, что зрителю для этого погружения даже совсем
не обязательно знать литературную основу спектаклей «Таганки». Почему я так
думаю? Я уже не раз наблюдал, как восторженно совершенно случайные зрители
(«шли мимо, в кассе были билеты»), люди с улицы, иногда приехавшие из очень
дальних краёв, принимают, казалось бы, очень непростые постановки, основанные,
например, на произведениях Франца Кафки. Вы бы видели лица этих людей, когда
они аплодируют артистам, вышедшим на поклон после спектакля!
А
вот как раз некоторые очень образованные столичные театралы, жаждущие увидеть
на таганской сцене дословное повторение романа или пьесы, даже допустить не
могут того, что спектакль не обязательно должен быть просто расписанным по
ролям чтением текста. Поэтому не удивляюсь, когда в ответ на приглашение пойти
в Театр на Таганке, пусть изредка, но слышу: «Не пойду!» – «Почему?» – «
Мейерхольдовщина, капустник». – «А что именно видели в этом театре?» –
«Ничего». Думаю, это отголоски доверия тем критикам, которые когда-то «Таганку»
не приняли, не поняли.
«Эолова
арфа»: Это – речь о несостоявшихся
зрителях. А как же те, кто пришли, но уходят, не дождавшись окончания
спектакля?
Пётр
Кобликов: Иногда задолго до поклона артистов уходят из зрительного зала
завсегдатаи других театров, каким-то чудом или из любопытства забредшие в Театр
на Таганке – из числа тех, кто всегда желает увидеть «то-то и то-то», и я
говорю в таких случаях: «Так им и надо!»
Забредают
сюда по ошибке и любители расслабиться. Но мне кажется, «Таганка» не для тех,
кто «пришёл отдохнуть», развлечься с пакетом чипсов в одной руке и с бутылкой в
другой. А уходят до окончания спектакля, по моим наблюдениям, большей частью
именно такие. Впрочем, и прежде, даже в шестидесятые, похожие были. Вспомнил,
как их тогда в шутку называли: «Любители искусства и мороженого».
Но
я знаю случаи, пусть и немногие, когда юные любители антрепризных комедий,
попавшие на «Таганку» по ошибке (перепутали вход…) и потрясённые, к примеру,
«Хрониками», признаются: «Какую же муру, какую лабуду мы до сих пор смотрели!»
«Эолова
арфа»: Так что же, по Вашему выходит, что «Таганка» – не развлечение?
Пётр
Кобликов: Скорее, увлечение. Иногда – с первого же увиденного спектакля. Даже
не иногда, а всегда. И ещё, как хорошо мне сказал один давний зритель
«Таганки»: «Сюда приходишь как в храм, здесь место намоленное».
«Эолова
арфа»: И последний вопрос: когда Вы смотрите на свечи, зажжённые на рояле в
фойе, то уж не молитесь ли чему-то?
Пётр
Кобликов: Нет, ничему не молюсь. Глядя на эти язычки пламени, я просто
вспоминаю зажжённые сигареты в «Добром человеке из Сезуана», горящие свечи в
руках детей в «Жизни Галилея» и «Пугачёве», вечный огонь в «Павших и живых»,
свечи, зажигаемые в спектаклях «Братья Карамазовы», «Живаго (доктор)», «Марат и
маркиз де Сад», «До и После», «Идите и остановите прогресс», «Горе от ума –
горе ума – горе уму», фонарики в «Замке», а ещё – настоящее пламя и загадочные
огоньки в «Сказках». Но, согласен, свечи на рояле в фойе делают пространство
«Таганки» похожим на храм.
30
июля 2009 г.
__________
Справка
о Петре Кобликове
Петр
Кобликов родился в 1948 году. Окончил Московский полиграфический институт в
1970 году. Работал в Вечном хранении отдела периодики Всесоюзной книжной
палаты, в издательствах, включая «Прогресс», в редакциях периодических изданий.
Преподавал будущим редакторам и студентам других гуманитарных специальностей,
дважды был проректором высших государственных учебных заведений.
Состоит
в Русском энтомологическом обществе, Московском обществе испытателей природы,
входит в состав Президиума Академии детско-юношеского туризма.
Автор
многочисленных публикаций о природе, о культуре, статей о творчестве В. Набокова,
о театре. Автор предисловия к книге Валерия Золотухина «Помню и люблю» (2004
г.).
В
течение ряда лет был ведущим и участником циклов радиопередач на разных
радиостанциях. Снимается в эпизодических ролях. Как чтец отмечен дипломами двух
международных театральных фестивалей (в 2005 и 2007 гг.). Ему посвящён
телевизионный документальный фильм «Ключ от времени» (режиссёр О. Загорская,
2006 г.).
С
2006 года Пётр Кобликов является главным редактором журнала «Детское чтение для
сердца и разума».
Автор
1-го выпуска альманаха «Эолова арфа», редактор-консультант этого
альманаха.
Зритель
Театра на Таганке с 1966 года.
К
45-летию Театра на Таганке. Сергей Михайлин-Плавский о "До и после".
__________________________________________________________________
Писатель
Сергей Иванович Михайлин-Плавский родился 2 октября 1935 года в поселке Крутое
Больше-Озерского сельского совета Плавского района Тульской области. Окончил
Тульский механический институт. В Москве живет с 1970 года. Печтался в журнале
"Сельская молодежь" как поэт. Автор 6 поэтических книг. Прозу начал
писать по настоянию Юрия Кувалдина. Постоянный автор журнала "Наша
улица". В 2004 году Юрий Кувалдин в своем "Книжном саду"
выпустил большую книгу рассказов и повестей Сергея Михайлина-Плавского
"Гармошка".
Сергей Михайлин-Плавский
МОЕ ОТКРЫТИЕ "ЧЕРНОГО КВАДРАТА"
Каждый раз, когда у меня в комнате раздается
телефонный звонок, я поспешно хватаю трубку и даже немного волнуюсь, а вдруг
это такой знакомый, звонкий и энергичный голос:
- Говорит Кувалдин!
Так оно и есть!
- Сергей Иванович, я жду вас в субботу, 6 января, в восемнадцать двадцать у
входа в Театр на Таганке, хочу, чтобы вы посмотрели спектакль “До и после”,
созданный великим режиссером Юрием Петровичем Любимовым по мотивам поэзии Серебряного
века.
Юрий Александрович Кувалдин, писатель и издатель, “литературный Геракл” по
определению Нины Красновой, человек-учреждение, человек-издательство четко и
полностью выговаривает каждое словечко, словно обкатывает его в жидком яичном
желтке, как это делают некоторые опытные огородники со свежими огурцами, готовя
их для продолжительного хранения. Просьбу метра я беру “под козырек” и начинаю
готовиться к завтрашнему посещению спектакля-бриколажа.
На другой день ровно в восемнадцать часов я появляюсь у парадного подъезда
театра “Содружество актеров на Таганке”, совсем не подозревая, что это не то,
что мне нужно, что настоящий “Московский театр драмы и комедии на Таганке”
расположен несколько правее, если стоять к нему лицом, как раз напротив выхода из
кольцевого метро “Таганская”. За этот мой промах стало особенно стыдно, когда
меня неожиданно окликнул Юрки Кувалдин:
- Сергей Иванович, вы где стоите? Это не тот театр! Настоящий, любимовский,
вон, правее!..
А я-то почти полчаса стоял и удивлялся, как же, мол, так, люди на вечерний
спектакль покупают билеты, тычутся во все три закрытые на замок двери парадного
входа, а войти не могут, начинают метаться, бегут снова в кассу, а потом
куда-то исчезают совсем...
Мои не такие уж тесные отношения с театром вообще начались с рассказов отца
Ивана Сергеевича, вспоминавшего о своем увлечении спектаклями в деревенской
избе-читальне во времена еще начала коллективизации. С деревенскими
активистами-энтузиастами они ставили на маленькой сцене с колченогим столом и
тремя табуретками поучительные и смешные сценки из деревенской жизни.
Представления эти шли под лозунгом ликвидации безграмотности - знаменитого
ликбеза. Небольшая их труппа из пяти, иногда из трех человек объездила все
окрестные деревни со своими постановками и, по словам отца, их везде принимали
“на бис”.
Эти рассказы запали мне в душу, и я, помню, очень жалел о том, что не успел
попасть на эти отцовские представления. Мне было до того обидно, что я где-то в
шестом классе написал пьесу из современной мне колхозной жизни и вполне
серьезно рассчитывал на ее постановку в колхозном клубе, благо отец одно время
заведовал этим клубом. Но, к счастью, постановка не состоялась, после войны в
клуб стали раз в месяц привозить и крутить кинофильмы, а молодежи в деревне с каждым
годом оставалось все меньше и меньше, она потянулась в город на учебу, да и
развлечений там куда больше: и театр, и кино, и парк с открытой эстрадой, и
выставки - что твоей душе угодно!..
На входе в фойе любезный охранник “миноискателем” огладил мою сумку (неизбежная
примета нашего времени) и молча и вежливо вернул ее мне. Народу в фойе пока еще
мало. Юрий Александрович сразу же от дверей видит у белого рояля Валерия
Золотухина и говорит мне:
- Подойдем к Валерию Сергеевичу.
Конечно, мы предварительно сдаем на вешалку (театр-то, известно, начинается с
вешалки) свои осенние куртки и сумки и только потом подходим к Золотухину.
Валерий Сергеевич сдержан и сосредоточен, он продает свои книги, причем, по
желанию покупателей, с автографами. Немногие люди в наш нечуткий, пластмассовый
век покупают книги, даже и у знаменитых людей, даже и с автографами, однако,
молодые пары подходят к столику и просят автограф, кто на книгу, кто на
программу спектакля.
На наших с Кувалдиным программах известный народный артист, друг легендарного
Владимира Высоцкого, тоже сделал надписи. На моей программке он написал:
“Сергею Ивановичу Михайлину-Плавскому в день посещения Таганки! Храни Вас Бог!
И с Рождеством! 6.01.07. В.Золотухин”. Кстати, программа оформлена строго в
соответствии с “Черным квадратом” К.Малевича: на ослепительно чистом, белом
фоне - Черный Квадрат, как символ искусства Серебряного века.
Сейчас, перед началом спектакля, Золотухин немного мрачноват, но в тоже время
деловито раздает автографы. Короткая стрижка очень ему идет и делает его
похожим на задиру-мальчишку с бойцовским характером, а мужественное лицо его
выдает внутренне напряжение, работу мысли над предстоящим спектаклем...
С Валерием Золотухиным я познакомился на встрече авторов журнала “Наша улица”,
проводимой Юрием Кувалдиным в Малом зале Центрального Дома литераторов 24
ноября 2005 года, а немного позже подарил ему свою книгу прозы “Гармошка”.
Потом в мае 2006 года на съемках документального фильма “Юрий Кувалдин. Жизнь в
тексте” и при последующих встречах это знакомство закрепилось, что даже можно
увидеть в том же фильме, когда Валерий Сергеевич радушно за руку здоровается со
мной.
При каждой такой встрече по просьбе Ю.Кувалдина Валерий Сергеевич потрясающе
читает “Пилигримов” Иосифа Бродского, изумляя сердца слушателей мощью своего
голоса и проницательностью стихов, несокрушимой верой в будущее неубитой
России, в ее настоящее и неубитое искусство.
Здесь же необходимо упомянуть и о Владимире Высоцком, учившем меня своими
песнями точности слова и правдивости изложения. Это был какой-то гениальный
прорыв из затхлой атмосферы в струю свежего и чистого воздуха. Его записи на
пленках для катушечного магнитофона появились в Загорске во второй половине
60-х годов прошлого столетия.
Мы с друзьями заслушивались его песнями, исполняемыми с хрипотцой и юморком:
сначала в них звучали сказочные мотивы, а потом пошли песни о войне с
беспощадной правдой и про нашу современность. Он пел о том, чем болел народ, о
чем думал народ, о чем простые люди говорили между собой. Он пел для своего
окружения, для своих друзей, а оказалось - для всех нас. И потому его песни
звучали везде. Помню, как мы, несколько энтузиастов на заводе, вышли с
предложением: пригласить Владимира Высоцкого в заводской Дворец культуры с
концертом. Конечно, это предложение было отклонено с мотивировкой, что, якобы
его искусство недостойно социалистического реализма. “Вы послушайте, о ком он
поет: о бюрократах, чиновниках, откровенных дураках, подхалимах - это же не
наши люди” - убеждал нас высокий партийный чиновник. А нам так тогда хотелось
сказать прямо в глаза этому чинуше: “Это он и о вас поет!”
Но Высоцкий продолжал петь, а мы заслушивались его на своих домашних
магнитофонах марки “Весна”, “Чайка” и др...
До начала спектакля остается немного времени, люди ходят, стоят, сидят в
коридорах, мы с Юрием Александровичем стоим немного в сторонке от Золотухина и
смотрим на галерею портретов артистов театра. Прямо над головой стоящего у
рояля Золотухина в верхнем ряду на стене висят портреты Юрия Петровича Любимова,
Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина и Давида Боровского. Наверно, это
символично: великий режиссер, два великих артиста, великий художник стояли у
истоков создания знаменитого театра, театра Любимова (как его тепло называют
москвичи), 90-летие которого скоро будут отмечать все передовые люди России...
В юности мне нравился “чтецкий” театр, как мы говорили с приятелями из
литературной студии в Тульском механическом техникуме им.С.И.Мосина.
Руководителем этой студии был преподаватель литературы и русского языка Федор
Матвеевич Архангельский, до самозабвения любивший русскую словесность. Для него
был праздник - наши неуклюжие стихи, особенно чтение их со сцены перед
аудиторией или даже перед классом. Он старался ставить нам голос, учил
осмысливать каждую произносимую строчку, “держать интонацию” и в соответствии с
нашими успехами перед каждым студенческим вечером говорил тому или другому
“артисту”:
- Сегодня ты будешь читать Маяковского!
Чаще всего такие выступления доставались мне. Потом я читал Пушкина, Тютчева,
Фета, Некрасова на вечерах в институте, иногда - робко и по просьбе слушателей
- свои стихи, после чего меня долго трепала так называемая “ораторская
лихорадка”.
Эта моя “артистическая, чтецкая” деятельность продолжалась до окончания
института: я выступал в школах, на заводах в Туле и Загорске. На Загорском
электромеханическом заводе у нас была литературная студия при заводской
библиотеке, руководил которой литературовед Горловский Александр Самойлович. Мы
часто выступали в цехах своего завода, выезжали в район в школы и деревенские
клубы.
Особенно удачными были выступления у нас с Валентиной Тимофеевной Маловек,
бухгалтером заводоуправления: она готовила основательное и интересное сообщение
о жизни и творчестве автора, а я читал его стихи. Многих авторов в то время не
было в библиотеке, и мы книги А.Ахматовой, М.Цветаевой, О.Мандельштама,
С.Есенина брали у А.С.Горловского. Цехи наперебой заказывали такие чтения, и мы
с Маловек многие свои обеды провели в красных уголках механических, сборочных,
штамповочных цехов и в других подразделениях завода.
Выступали мы и во Дворцах культуры, городском и заводском. Особенно памятны мне
выступления в городском парке культуры со многими московскими поэтами: Виктором
Щепотевым, Александром Никифоровым, Владимиром Лазаревым, Александром
Филатовым. Александр Филатов особенно запомнился мне крепкими стихами с хорошим
подтекстом и юморком...
Первый, второй и сразу же третий звонок застает нас на втором этаже, где
располагаются буфет и выставка. Кое у кого театр начинается с буфета, а мы
стоим у выставки работ Ольги Победовой. Ее хрустальные фигуры поражают
изумительной тщательностью отделки, неподражаемой фантазией в создании игры
света и форм.
Здесь же к нам присоединяются корреспондент “Российской газеты”, писатель,
эссеист, критик Юрий Крохин и основатель и Президент Академии Русского стиха
Слава Лён.
Дальше все вместе мы направляемся в зрительный зал. Медленно гаснет яркий свет,
становится тихо-тихо и даже немножечко как-то тревожно. Но тревога не успевает
захватить сердце, на сцене вспыхивает Черный Квадрат в светлом, даже, кажется,
в светло-кремовом обрамлении, отчего сам Квадрат становится еще чернее.
По трансляции четко и отчетливо звучит голос Ю.П.Любимова о запрещении во время
спектакля фото- и киносъемок и отключении мобильных телефонов. Потом Главный
режиссер убедительно просит уважаемых зрителей не вмазывать в кресла
жевательных резинок. Зал задвигался, зашевелился, засмеялся, зааплодировал,
выражая свое согласие с просьбой. Контакт со зрителями установлен еще до начала
спектакля.
А потом вдруг сразу ожил Черный Квадрат. Из него в черно-кремовых в полоску
костюмах (а, может быть, в арестантских робах?) под видом масок Арлекина,
Красного Домино, Коломбины, Петрушки и Пьеро выходит, выпрыгивает, вырывается на
сцену Серебряный век поэзии, век нового искусства, временно загнанного в
небытие, в подполье, на кухню, в самиздат, в эмиграцию примитивным
социалистическим реализмом - копиизмом.
Величественная светская дама в черном - вечернем? - платье осторожно вышла из
Черного Квадрата на освещенную сцену, негромким голосом произнося монолог.
- Анна Ахматова! - наклонился ко мне и шепнул Юрий Александрович.
- Сейчас будет Александр Блок! - и он снова все внимание сосредоточил на сцене.
А там разворачивалось действо под стать древне-греческому театру, действо,
переходящее то в коллективную декламацию, то в хоровое пение.
В дальнейшем Черный Квадрат открыл для меня и вывел на свет из небытия А.Блока,
Н.Гумилева, В.Хлебникова, М.Цветаеву, В.Брюсова, С.Черного, О.Мандельштама,
И.Северянина, А.Белого, М.Волошина, И.Бродского, но, к стыду своему, по
незнанию я не уловил ни монологов, ни декламации вещей З.Гипиус, В.Розанова,
Ф.Сологуба и некоторых других.
Один из моментов спектакля был просто символичен до озорства: красное знамя в
руках знаменосца случайно или намеренно развернулось так, что на нем можно было
прочитать непонятную, оборванную надпись крупными желтыми буквами: “Пролетарии
всех... “, а далее ничего не было видно. Но, что интересно: буква “х” в слове
“всех” отступила, отскочила в сторону на один-два просвета, и получилась
полуфраза, вполне теперь уже понятная и озорная: “Пролетарии все х...“
“Черный Квадрат” К.Малевича, мучивший меня всю жизнь своей загадкой,
нераскрываемой тайной, наконец, для меня открылся, благодаря чуткому и
замечательному писателю Ю.Кувалдину и не менее замечательному артисту
В.Золотухину с его монологом “Идут по Земле пилигримы”. Валерий Золотухин в
рыжем парике и гриме (под Иосифа Бродского) трижды обошел сцену, произнося
монолог, как будто трижды обогнул Землю, чтобы его пророческий голос дошел до
каждого ее уголка, до каждой страждущей души.
И быть над Землей закатам,
И быть над Землей рассветам!..
Встает и тянется к новой жизни неубитая Россия и
вместе со своим рассветом призывает к себе из подполья и возвращает из
эмиграции и забытья истинное искусство.
Гоняемся за сложностью вещей,
За тем, что ослепительно и броско.
В непреходящей прелести ночей
Чего уж проще - двое под березкой.
Усыпаны деревья и кусты
Метельною иль звездною порошей:
- Ты слышишь, я люблю тебя, Алеша!
Ты слышишь, я люблю тебя, а ты?..
Чужие кони мчались по Земле,
Но каждый раз в своем рассвете синем,
Настоянном на крови и золе,
Вставала неубитая Россия
И вызывала трепетную боль
Речушкой иль пейзажиком неброским.
И с нею разделенную любовь
Несут извечно двое под березкой.
Теперь я с нетерпением жду любой возможности
посетить новый литературный спектакль в любимовском Театре на Таганке, жду
новых встреч с современным искусством, особенно с живописью молодого художника
Александра Трифонова, нонконформиста, фигуративного экспрессиониста,
“познающего мир своей чувствительностью (термин Малевича)”.
Валерий Золотухин к 30-летию Александра Трифонова написал: “На премьере
спектакля “До и после” ко мне за кулисы зашел молодой человек и передал нечто
плоское, крупное, обернутое в бумагу и аккуратно перевязанное. В нетерпении
развязав и вспоров бумагу, защищавшую это нечто от мартовской сырости, я
обнаружил холст с изображением черного квадрата (картина называется “Конец реализма”
- С.М-П.) с пьяной перед ним бутылкой, готовой растечься, развинтиться,
пуститься в пляс,- дразнящую черную строгость своей вихляющей сутью. Я обомлел.
По спине пробежал холодок совпадения. Я только что вышел из этого квадрата на
сцене театра на Таганке. Не смея отвести глаз от холста, боковым зрением я
видел свое отражение в зеркале гримерки - лицо в белилах, намалеванные на нем
огромные, черные клоунские очки, рыжий огненный парик, фрак и бабочка лауреата
Нобелевской премии Иосифа Бродского, в руках этого господина холст.
На холсте - оклик Малевича в интерпретации Александра Трифонова. “Ни хрена
себе! - сказал я себе. - С ума бы не спятить...”
А дальше В.Золотухин пишет:
“...В этой одной из позднейших своих фантазий на тему стихов “Серебряного века”
Любимов проявляет себя неслыханным новатором, выступая как автор литературной
основы, режиссер-постановщик и балетмейстер, выдумывающий каждому персонажу
свое пластическое решение ... И, может быть, использование мотивов “Черного
квадрата” Малевича 85-летним Любимовым и 27-летним Трифоновым скажет нам и о
том, что квадрат не так уж нелеп, как казалось многим, в том числе и мне, и что
спор он выиграл через 100 лет”.
Лучше не скажешь, и я за это вдвойне благодарен Валерию Сергеевичу.
Памяти
Риммы Казаковой. Сергей Телюк. Воспоминания и стихи
__________________________________________________________________
Сергей
Телюк
«ДАВАЙТЕ
ДРУЖИТЬ!»
…Мне
вспомнился Иуда.
Вот
день. Еще он наш.
Все
хорошо покуда.
А
завтра ты предашь.
Римма Казакова
В
2000-м, 10 июня, исполнилось 45 лет со дня выхода первого номера «Юности»…
Тогдашний
главный редактор, Виктор Сергеевич Липатов, не придавал этому большого
значения… Хотя был выпущен юбилейный номер, где сквозной врезкой проходила
ретроспективная «Антология одной строфы» – цитаты-напоминания о ряде поэтов
(125 имен!), напечатанных в журнале за минувшие годы… А в разных библиотеках
прошли возглавляемые Валерием Дударевым выступления авторов…
Мне
хорошо помнится, как после одного из них, состоявшегося в Дубне во второй
половине июня, разгоряченная от внимания и выпитого на обратном пути, Римма
Казакова выпалила:
–
Давайте дружить!
Уже
стемнело… Наш автобус остановился для дозаправки где-то под Дмитровом… Ирина
(моя жена, художница), Александр Ананичев (бард из Сергиева Посада), Игорь
Михайлов (прозаик, критик, журналист) и все остальные, высыпавшие следом на
улицу, весело стояли своим кругом на освещенном пятачке недалеко от
бензоколонки…
И
– никто не возражал против предложения Риммы Казаковой…
Познакомился
же я с Риммой Федоровной в октябре 1998-го в ЦДЛ, на очередном вечере
«Истоков»… Приблизительно месяцев через пять, отказываясь от повторного
участия, она заявила мне со свойственной прямотой:
–
Зачем? Смысл? Вот я веду аналогичный «Клуб одного стихотворения», а талантов от
этого не прибавляется…
Но
иногда ее мнение менялось… Например, высказав недоумение Лоле Звонаревой по
поводу дружеского одобрения моих творческих стараний – через какое-то время
извинилась перед ней, отметив мое умение учиться… Прошло еще несколько лет и в
середине осени 2005-го, заехав к ней домой на улицу Чаянова, близ метро
«Новослободская», я получил материал для сборного послесловия к книжке «И
отчалит кораблик, привет!..»… В нем, в частности, Римма Федоровна отмечала:
Стихи Сергея Телюка –
очень честные, чистые, достойные… За строками поэта стоит большая работа,
дарящая в конечном счете свои находки, свои открытия… Читать его стихи
интересно, они дают и эстетическое удовлетворение, и необходимые плоды
познания…
Надеюсь,
понятно, что на межличностные отношения наши нередко разнящиеся суждения и
вкусовые пристрастия никак не влияли… Ведь мы прекрасно общались, скажем, и за
год до появления приведенной цитаты, на Международном поэтическом фестивале в
Варшаве, где кроме нас Россию представляли Олег Агринский (с которым я
сблизился благодаря Анечке Гедымин в начале «истоковской» эпопеи), Максим
Амелин (именно там я встретился с ним впервые) и Вячеслав Куприянов (ранее
знакомый мне по различным литературным мероприятиям, в том числе связанным с
журналом «Юность»)…
Когда
в середине августа 2006 года, после моего возвращения из двухнедельной поездки
в Гданьск, в нашем телефонном разговоре речь зашла о внезапно скончавшемся
Александре Щуплове – Римма Федоровна с грустью заметила:
–
Я тогда звонила тебе…
Есть
у меня безоговорочно понравившееся ей стихотворение, написанное в октябре 2005
года:
***
Римме Казаковой
Стоит начаться
осенним дождям –
сумрак, нахлынув,
заполнит пространство.
Дворикам, улицам и
площадям
прежде –
представится, как самозванство.
Будет казаться, что в
жизни все так:
только унынье, да
только ненастье,
да на душе лишь один
полумрак
и никакого намека на
счастье.
Где тут спасительный
дружеский круг,
если мерещится всюду
Иуда?!
И – одиночество,
будто недуг.
И – отголоски
грядущего чуда…
Памяти
Риммы Казаковой. Зульфия Алькаева. Воспоминания и стихи
______________________________________________________________
Зульфия
Алькаева
Зульфия
Алькаева родилась в 1968 году в Ногинске. Живёт и работает в Электростали.
Окончила факультет журналистики МГУ. Член Союза журналистов России. Работала в редакциях
различных газет, сотрудничала с областными и отраслевыми изданиями, журналом
«Мир женщины». Стихи Зульфии Алькаевой печатались в местной печати, в
коллективных сборниках. В 2006 году у неё вышла первая книга стихов «Воздушные
пробки» (М., «Академия поэзии»).
«ПУСТЬ
ПЕРЕЖИТОЕ НАХЛЫНЕТ…»
(Воспоминания
о Римме Федоровне Казаковой)
Время
спрессовывает события, выжимает из них всю воду, оставляя в памяти только суть.
Но мое почти двухлетнее общение с Риммой Казаковой так и живет внутри меня в
несокращенном виде. Помнится почти каждый разговор по телефону, яркий юбилейный
вечер 3 февраля 2007 года в Большом зале ЦДЛ и, конечно, три удивительные
встречи с поэтессой у нее дома. Как в песне получилось: «Три счастливых дня
было у меня…»
Отправиться
в Москву за десять дней до родов я вряд ли бы решилась, если бы не приглашение
Риммы Казаковой, встречи с которой я давно ждала.
День
9 февраля 2007 года был по-пушкински чудесным. Мороз пощипывал щеки, солнце
слепило глаза, а крупные снежинки гнездились на шапках прохожих или задумчиво
плыли над головами.
Станция
«Новослободская»… Отсюда я не раз направлялась на улицу Фадеева, к своему
научному руководителю Л. Ш. Вильчек, когда писала диплом на факультете
журналистики. А теперь несла тортик в профессорский дом на улице Чаянова...
В
квартире Риммы Казаковой все дышало недавно отгремевшим юбилеем. На стульях,
этажерках и на полу стояли пакеты с подарками, для которых хозяйка еще не нашла
постоянного уютного местечка. А стены коридора украшали уже прижившиеся здесь
оригинальные панно и чеканка, привезенные из разных стран мира. Цветочное
царство переместилось на кухню. Все столы были заставлены вазами с огромными
букетами. Изящные сувениры также обитали в тесноте. Они сгруппировались на
холодильнике и столе, и, казалось, соревновались за внимание юбилярши и ее
гостей.
Мне
тоже хотелось выразить восхищение и восторг перед поэтом, чье творчество меня
глубоко затронуло, но Римма Федоровна одним взглядом пресекла этот внутренний
монолог и перевела стрелки на мою персону.
Буквально
с порога она ошеломила меня комплиментом, за который мне еще предстоит
расплачиваться перед читателем: «Сразу скажу вам, Зульфия, поэзия – ваше
призвание!» А после короткой паузы мой учитель тихо добавила: «Надеюсь, я смогу
быть вам чем-то полезной».
Такой
была Римма Казакова. И величественной, и скромной…
Признанный
мастер слова, она часто говорила, что просто была хорошей ученицей хороших
учителей: вспоминала советы собратьев по перу и щедро ими делилась.
В
тот вечер, разбирая стихи из моего сборника, Р. Казакова подарила мне когда-то
сказанную ей красивую фразу Беллы Ахмадулиной о том, что своей концовкой
стихотворение должно уходить в небеса. И еще мне в наследство досталось
замечание относительно так называемой усеченной рифмы. «Старайся по возможности
ее избегать, - говорила она, - усеченная рифма разрушает мелодику стиха».
Ближе
к вечеру в гости к поэтессе заглянула женщина, помогающая ей в издательских
делах, и хозяйка, учитывая мой, по ее словам, «красивый животик», ублажала нас
изысканным зеленым чаем с ароматом ликера «Бэйлис», моим тортом и своим
брусничным пирогом...
Я
вспомнила, как в одной телепередаче журналист интересовался, как можно жить на
мизерную пенсию. Поэтесса ответила, что ее, как и многих российских
пенсионеров, выручает картошка с квашеной капустой. На миг показалось, что в
том разговоре участвовала вовсе не эта, глубоко интеллигентная дама, собирающая
аншлаг на своем юбилейном вечере, а кто-то попроще и поскромнее. Думалось, что
вовсе не она как-то раз жаловалась по телефону, что ждет гостей и уже сломала
голову, решая, чем будет их угощать. Но это была все-таки Римма Казакова.
Королева, умеющая преображать самую безысходную действительность!
Вероятно,
поэтесса многого не могла себе позволить. Но зато всегда позволяла себе быть
Женщиной: интересовалась модными тенденциями в одежде, разбиралась в духах,
умела вкусно готовить...
Итак,
довольно отступлений… Вернемся в наш февральский вечер. Вместе со мной и своей
знакомой Римма Федоровна с удовольствием обсудила чисто женские темы: любовные
романы и способы похудания.
Гостья
сказала, что ей нравится не слишком замысловатое чтиво о любви. За такими
книгами она расслабляется и отдыхает. Римма Казакова и я, напротив, говорили о
том, что если язык неинтересен - роман пуст, он раздражает, а читать только
ради сюжета скучно.
В
общем, любительница легких романов осталась в меньшинстве. Ситуация неловкая. Что делать? Выручила
примирительная фраза Риммы Федоровны: «Какие мы все разные!»
Гораздо
более благодатной стала тема борьбы за фигуру. Знакомая пожаловалась, что
замучила себя диетами, а толку никакого. Спортом вроде поздновато заниматься, да и привычки
нет. Казакова стала уверять, что проблема часто кроется вовсе не в лишних
килограммах, а в неверно подобранной одежде. «У меня, например, фигура
нестандартная, - принялась она описывать, - низ тяжелый, а плечи легкие.
Поэтому я стараюсь шить наряды в ателье. Там учитывают мои особенности».
К
диетам Римма Федоровна проявила недоверие. Обезжиренная пища, по ее мнению,
невкусна - лучше просто ничего не есть. Оказалось, поэтесса испробовала на себе
метод голодания по системе Брега и обнаружила, что совершенно спокойно может
обходиться без еды целых семь дней подряд…
Для
меня вопрос сброса «лишнего веса» должен был решиться в роддоме, поэтому мучил
мало. Но, поддержав беседу, я рассказала о чудачках, которым помогает
самовнушение с помощью фотографий прошлых лет…
В
итоге все сошлись на том, что лучший способ постройнеть – влюбленность. В топке
пламенных чувств бесследно сгорают многие тысячи калорий...
Провожая
меня до двери, Римма Федоровна заключила: «Будем дружить!» В искренности этих
слов я не сомневалась, ведь мою жизнь уже осветила дружба, ощутимая, как
ласковое солнечное тепло!
В
подъезде я с трепетом открыла книгу поэтессы «Мгновение, тебя благодарю!» и
прочла оставленный ею автограф. Специально не стала делать это раньше - боялась
спугнуть легкую атмосферу вечера. Сюрприз был приятный. «Зульфия, ты – талант!
Иди вперед, дерзай, без сомнений!» - написала Р. Казакова, и теперь эти строчки
- самое ценное мое наследство.
Потом
я звонила Римме Казаковой из роддома.
-
Ну, как ты? Кого родила?- расспрашивала она.
-
Ничего, все нормально. Девочка у меня спокойная, дает маме поспать.
-
Девочка - это, вообще, прелесть! Поздравляю! – восклицала Римма Федоровна, зная, что мальчик у меня уже
есть. – Имя придумала?
-
Софья.
-
Надо же! Так звали мою маму... Ну, давай, приходи в себя и, как только сможешь,
приезжай! Почитаем друг другу стихи.
Это
волшебство, действительно, состоялось. Вечер 30 августа мы посвятили чтению
стихов. Мне было приятно сознавать, что темы наших новых творений
перекликаются, хотя при этом я, конечно, продолжала оставаться ученицей
большого мастера. Римма Казакова похвалила меня за плодотворную работу,
сказала, что видит во мне перспективу и надеется, что со временем меня начнут
волновать не только собственные мысли и чувства.
Тут
я, наконец, решилась прочесть посвященное ей стихотворение «Ева выбрала
яблочко», в котором обыгрывается древнееврейское значение имени «Римма». Увы,
оно поэтессе не понравилось. Без тени смущения или какой-либо обиды Римма
Федоровна просто и прямо объявила: «Я не яблочко! Я - пиявка и бандитка!» Затем
последовал рассказ о тех ситуациях в
жизни, где эта экстравагантная женщина проявила характер и экспрессию,
поразившие окружающих... К примеру, Римма Федоровна вспомнила, как дала звонкую
пощечину известному поэту, отменившему однажды ее юбилейный вечер. Поэтесса
говорила, как на одном литературном мероприятии было встречено ее стихотворение
«Дед похоронен на еврейском кладбище». Тогда к ней подошел коллега и с
недоумением спросил: «Римма, мы все считали тебя русской, зачем ты афишируешь,
что твой дед еврей?» «А затем, чтобы знать, кому при встрече руку подавать!» -
заявила в ответ Римма Казакова…
Вскоре
на кухне появился друг хозяйки, поэт и музыкант Геннадий Норд, но присаживаться
к столу не стал. Он торопился на студию записывать новые песни и перед отъездом
хотел посвятить Римму Федоровну в свои планы. Его воодушевление и улыбка на
лице поэтессы говорили о прекрасном творческом союзе!..
Редкой
щедростью обладала Римма Казакова: она искренне радовалась за успехи коллег и
учеников. Многим, как Геннадию и мне, посчастливилось вкусить от хлеба ее
вдохновения! Он делился, ломался, крошился, но не уменьшался в размерах - от
него не убывало!..
После
операции, сделанной Римме Федоровне в середине февраля 2008 года, Г. Норд
настоятельно рекомендовал дней десять не беспокоить ее звонками. Аккуратно
выдержав этот срок, я послала ободряющую эсэмэску.
Римма
Казакова ответила звонком: поблагодарила за добрые пожелания и заверила, что
уже пришла в себя, хоть и чувствует слабость. Я же призналась, что буквально
считала дни, когда можно будет связаться с ней по мобильному телефону.
-
Что ты, Зульфия! Звони мне всегда, когда хочешь! Ты ждала - я тебя понимаю. Мне
вот сейчас тоже так хочется позвонить одному человеку! Могу это сделать, но
говорю себе: «Нельзя! Надо, чтобы он сам позвонил».
Ожидание
любви и пьянящей романтики дорог было в ней непобедимо! Оно стирало возраст,
расстояния и всевозможные проблемы со здоровьем… Когда реальность оказывалась
сильней, Римма Федоровна жаловалась на неожиданные проявления аллергии,
головокружение и боль в ноге и соглашалась с предписаниями врачей. Но если брал
верх спартанский характер, она и слышать не хотела об отдыхе! Это слово
считалось у нее каким-то оскорбительным.
Перед
одной командировкой я предположила, что она едет отдыхать. Возмущению Риммы
Федоровны не было предела: «Да работать я еду, черт побери!» Как говорится, не
в кассу пришлись и мои призывы беречь и любить себя. «Нет! Любить себя я не
буду никогда! – ответила Римма Казакова. – Любить себя – это подло! Любить надо
людей! А к здоровью стоит проще подходить: появился живот – нужно его убирать,
борода выросла – пора бриться...»
Эта
безмерно обаятельная женщина с волнующим низким тембром голоса и выразительными
карими глазами часто демонстрировала критичное отношение к своей внешности. От
некоторых знающих поэта людей я слышала, что «некрасивость» ей внушила мать. Но
лично мне Римма Казакова говорила про диалог с отцом; как в юности спросила у
него, красива ли она, а тот помолчал и хмыкнул: «…зато умная!»
В
общем, непросто было излагать комплименты в адрес известной поэтессы. Скажешь
ей: «Какая вы неповторимая, уникальная личность!» Она в ответ резонно заявит:
«Каждый человек уникален!» Выпалишь в праздник дежурные пожелания и не
обижайся, если вместо «спасибо» получишь недовольную реплику типа: «Все говорят
одно и то же!»
Женщина-поэт,
чье имя так созвучно ее главному орудию - рифме, похоже, понимала и принимала
лишь слова, идущие от сердца собеседника. Надо было, как она, пребывать в
полете, чтобы крылом прикасаться к крылу!..
В
минуту откровения я рассказала, что в юности ее творчество воспринимала как-то отстраненно. Все в стихах
Казаковой было не про меня. Видимо, не хватало жизненного опыта. Сегодня те же
самые стихотворные сборники не выпускаю из рук: рыдаю над ними, как плакала
только над стихами Цветаевой. Поэтесса была тронута таким монологом. Сказала,
что это высокая оценка и что стихи порой кровью пишутся, поэтому задевают...
Однажды
по телефону я радостно сообщила Римме Федоровне, что в продаже появились стихи
Райнера Марии Рильке, к тому же, в замечательном подарочном исполнении. Она тут
же поинтересовалась, кто переводчик, и, услышав в ответ имя уважаемого ею
писателя Вячеслава Куприянова, выразила большое желание иметь эту книгу.
-
Рильке мне самой нужен! Купи и на мою долю экземпляр, - попросила Римма
Федоровна, - сколько стоит? Я заплачу.
-
Чудесно! – ответила я. - Теперь я знаю, что вам подарить!
…Дар
самой Риммы греет меня в прямом и в переносном смысле. Это оренбургский пуховый
платок-шарф малинового цвета. Кладя его мне на плечи, Римма Казакова, как бы
между прочим, заметила, что его можно передавать по наследству. Мрачный оттенок
этих слов, разумеется, не был замечен. Я свято верила в успех лечения. Тем
более что, по утверждению поэтессы, ее никогда раньше не мучили головные боли,
не было проблем с давлением, что именно от природы крепкое здоровье позволяет
ей много работать и путешествовать.
Зимой
и весной 2008 года Римма Федоровна говорила, что готовит к выпуску новый
сборник стихов «Пора». Его название настораживало: я не могла отделаться от
ассоциации с последним стихотворением Цветаевой, где слово «пора» возникает три
раза. Автор смотрела на этот вопрос более оптимистично, и название менять не
стала.
«Р.Ф.
побеждает! Сдавайся добром! Ведь рубит она не мечом, а пером». Это телефонное
поздравление, посланное мной 9 мая, порадовало Римму Казакову. Она с
удовольствием заметила, что один коллега, имея в виду ее инициалы, так и
обращается к ней всегда: «Привет, Российская Федерация!» Потом Римма Федоровна
сообщила, что увидеться сразу после праздников не получается: врачи уговорили
ее поехать в подмосковный дом отдыха.
Через
неделю поэтесса с энтузиазмом перечисляла процедуры, которые ей назначили,
уверяла, что самочувствие уже улучшилось. Я успокоилась и решила, что позвоню
теперь в понедельник, 19 мая.
В
этот ясный солнечный день я отправилась в детский сад за путевкой для своей
дочки. Когда документ был оформлен, заведующая садом доложила, что закупил сад
на родительские средства. «Мы приобрели игрушки, стульчики, кроватки, -
перечисляла она, - а для девочек из танцевальной группы нашли замечательные
купальники с юбочками такого, знаете, небесного цвета!..» На последних словах
что-то кольнуло в висок: я подумала о Римме Федоровне. Так интуиция передала
мне необъяснимую тревогу... В это время поэтесса выходила из бассейна. Она
поднималась по лестнице вверх. И была эта лестница в Небо!..
Рациональная
часть моего сознания, напротив, внушала оптимизм. Я сочинила и отправила своему
Учителю шуточное сообщение: «Будьте бдительны! Не влюбляйтесь в медиков!»
Ответа не было. Я подумала, что Римма Федоровна отправилась в столовую
обедать... Лишь в середине дня с телеэкрана прозвучала трагическая весть…
Как
же так? Что произошло? Ведь лечение давало результаты!..
Вопросы
оставались без ответа и прокручивались в голове снова и снова, точно фразы на
испорченном диске. И тогда, как спасение от ненужной паники, память вдруг
выдала мудрые строки из элегии австрийского поэта, посвященной М. Цветаевой –
Эфрон: «Тем, кто любит, Марина, знать не стоит так много о неизбежном уходе…»
Потом
я взяла в руки книгу и стала дочитывать абзац: «Пусть все им будет впервые.
Пусть их могила взрослеет, пусть ума набирает, темнеет пусть под плакучими
кронами, пережитое нахлынет. Пусть разверзнется их могила; они же гибки, как
лозы, время, сгибая влюбленных, из них свивает венок. Как их майский ветер
колышет! Из вечной своей сердцевины, где ты дышишь и внемлешь, они выходят на
миг. ( О, как ты близка мне, женственный цвет все на том же непреходящем кусте!
Весь я здесь, в ночном ветре, овевающем всю тебя.)…»
Ну,
как тут не вспомнить, что Римма Казакова любила весну и умела ценить невесомые
дуновения Любви?!
-
У меня все в жизни было поздно. По сути, я только сейчас начинаю понимать, что
значит любить, - признавалась Римма Федоровна 5 ноября 2007 года, в день нашей
последней встречи.
Из-за
этого молодого отношения к чувствам Римма Казакова представлялась мне милой
ромашковой девочкой из трогательного стихотворения шестидесятых годов «Я приду.
Я, как когда-то…». Девочкой, в любой момент готовой влюбиться. Даже в свои
последние дни на земле поэтесса оставалась романтичной и загадочной, как
неоткрытая звезда по имени Римма или, может, Рэмо?..
15
мая 2008 года я цитировала для Риммы Казаковой фрагменты видеомы Андрея
Вознесенского «Серп и топор», только что опубликованной в «Московском
комсомольце». С интересом прослушав стихи, она сказала, что Андрей Вознесенский
– великий поэт, его надо изучать, но подражать ему не нужно, потому что он
единственный в своем роде.
-
Между прочим, в молодости Андрей делал мне предложение, - вдруг выдала
поэтесса, - формулировка была потрясающей: «Римма, выходи за меня замуж! У меня
есть трехкомнатная квартира!» Сейчас Андрей Андреевич болеет. Пожелаем ему
здоровья!..
Римма
Федоровна отметила, что с огромным уважением относится к
поэтам-шестидесятникам, особенно к Вознесенскому и Евтушенко, но никогда бы не
стала женой поэта, мол, у Ахматовой с Гумилевым не вышло счастливого брака, и
вряд ли у кого такой союз получится…
Разговор
о сердечных делах Римма Казакова заключила так: «Я всегда любила красивых
мужчин!»
Тогда
я отважилась и спросила: «В своих интервью Вы говорите, что в молодости любили
великого писателя. Это были взаимные чувства, но он не смог оставить ради Вас
жену. Кто же это? Андрей Андреевич?»
-
Нет. А кто – не скажу. Это секрет! – кокетливо объявила Римма Казакова.
В
первое время, когда боль утраты всего острей, очень помогали мне стихи Риммы
Федоровны, написанные в разные годы. В местной библиотеке искусств я неожиданно
нашла зачитанный и заново переплетенный экземпляр сборника «Помню» с автографом
автора: «С добрыми чувствами и доверием. Римма Казакова. 1.Х11.82.» Этот трофей
хранится в библиотеке со дня той единственной исторической встречи известной
поэтессы с электростальскими любителями поэзии.
Переговоры
о новой встрече начались 6 августа 2006 года на блоковском празднике в
Шахматово, но Римма Федоровна не смогла вновь посетить город металлургов и
атомщиков.
Тот
же день для меня стал счастливым. Будучи беременной, я решила на праздник не
ездить. Зато поехала моя знакомая и там, в Шахматово, подарила Римме Казаковой
мой первый стихотворный сборник «Воздушные пробки». На другом экземпляре книжки
Римма Федоровна оставила для меня фразу: «Будь собой!» и передала свою визитную
карточку…
г.
Электросталь Московской области
Зульфия
Алькаева
ПАМЯТИ РИММЫ
КАЗАКОВОЙ
Это
имя, как меткая рифмочка,
Пробный
камешек, шлюпка и грот.
Там,
где рифы, там Римма-Риммочка
Золотые
послания шлет!..
Как
морячка, шальная русалочка,
Альпинист
и турист-пешеход,
Не
боялась она острой галечки!
Не
любила движенья в обход.
Волны
били, а ветры дубили,
И
ферганское солнце пекло.
Рвался
дух на просторы Сибири,
И
в монгольские степи влекло.
Как
писалось? Душевно, не выспренно,
Дел
хотелось заместо пера.
А
страна, что построилась, вызрела,
И
поэта взяла в мастера.
Белокрылочка!
Крымская льдиночка!
Из
когорты крепчайших пород.
Не
сдавалась в борьбе сердцевиночка!
Вот
за это и любит народ.
О,
Мадонна тайги ненаглядная!
Все
отдаст за восточный закат.
Переписывать
прошлое набело,
Помню,
руслами шла наугад.
Не
прельщали поэта рубины.
Серебром
ясных слов дорожа,
Там
жила, где пахали, рубили,
Где
страдала чужая душа.
За
иное, видать, хлебосолье
Поманила
беда за собой.
Не
заметила, как сердоболье
Обернулось
соленой судьбой.
Крепко
Римму ветра продубили,
Да
не стала дубленой душа.
Много
раз юбилеи трубили,
Гордой
строчкой сердца вороша!
Было!..
К проруби шла за водою
Госпитально-белесой
зимой...
Перемешано
детство с войною.
Оттого
и портрет волевой.
Проступили
бровей коромысла.
Стоит
их выразительность скул.
Нам
оставлены чувства и мысли!
На
губах лучший стих прикорнул.
12.11.2006
г.-22.05.2008 г.
***
Легкие
плечи годятся для тяжести крыл.
Легкие
плечи крылами Всевышний снабдил.
С
Риммой и с рифмой взлетается мне. Я парю!..
Снегом
и светом взрывается путь к январю.
Мнится,
что месяц, в который родился поэт,
Полон
каких-то немыслимых тайных примет.
Чтоб
не притягивал горький Маринин янтарь,
Верю,
январь, в колдовскую твою киноварь.
Верю
в звенящий, бодрящий январский почин,
Году
и веку назначивший тыщу причин.
Верю
в седины метели и льда конформизм,
Как
в корневища доставшихся миру харизм.
Снежное
нежное мяла-умяла суфле,
С
пылом январским на встречу спеша в феврале.
Было
оно слаще торта и легче золы!
Снегогоренье.
Возможно такое в любви.
Легкое
лечит, спасает от злого огня.
Легкий
тот вечер, как друга, меня приобнял.
Легкое
перышко, крылышко…
-
На, подержи!
Радостно,
трепетно, больно мне.
-
Ну, не скажи!
09.04.–17.04.2007
г.
***
Дует
в грудь клонированный воздух…
Майский
день… Сказали в новостях,
Что
прервался Ваш короткий отдых.
Вы
теперь у Господа в гостях.
Вам
зачтется то, что научились
Без
телесной помощи любить.
Карие
глаза добром лучились.
Мне
вовек их ласки не забыть!
Ваши
книги я держу, как знамя,
И
портреты в профиль и анфас.
Говорили:
«Я молюсь стихами!»
Помолюсь
стихами я за Вас!
Помогите
Римме Божьи силы
Все
грехи невольные стереть,
Чтоб
в камине неба звезд хватило
Эту
душу светлую согреть!
27.05.2008
г.
В
ДОМЕ БУЛГАКОВА
(О
вечере памяти Риммы Казаковой 3 июля 2008 г.)
В
доме Булгакова мило и тесно.
Шелк
на сиденьях фигурами скрыт.
Кто-то
читает, и всем интересно.
Звуки,
как искры из под копыт!..
Песня
звенит про лукавую фею,
Что
Эвридикою стать не смогла,
Стать
не сумела подругой Орфею.
Чудной
была, но чудесно лгала.
Где
же богиня? - В самой поэтессе!
Эх,
разминулась с Орфеем в пути!
Ей
суждено, как невесте, принцессе,
Ввысь
за волшебной любовью уйти!..
О,
Эвридика! Приди, снизойди-ка!
Бродит
по бренной земле твой Орфей.
Зреет
в лесах без тебя ежевика.
Вскинуты
стрелы гитарных бровей!..
Нервные
пальцы художницы лепят:
Мнут,
округляют бумажный клочок.
Взгляды
и вспышки от камеры терпит
Толстый
кота Бегемота бочок.
В
доме Булгакова мыслям не тесно.
Реки
поэзии – реки, не гать.
Шарик
бумажный становится тестом.
Новый
рисунок пора выпекать.
С
духом поэта негоже прощаться.
Жив
он! Терзает сердца все равно!
С
дружбой и с песней решаем встречаться!
Скромный
фуршет: вот банан, вот вино.
Кажется,
будто музей раскачался,
Рьяно,
как пьяный корабль Рэмбо…
«Памяти
Риммы» тот вечер назвался,
Памяти
Риммы, а может, Рэмо?..
08.07.
- 10.07.2008 г.
***
Твой
зимний воздух сохранится!
Оттает,
чтобы расцвести!
Когда
Любовь вплывает в лица,
Уже
нельзя свернуть с пути!
Сынок
рожден «февральской почкой»,
А
ты в суровом январе
Сияешь
нам весенней строчкой,
Как
солнце в белой кожуре!
Ты
греешь нас лучами Крыма,
Живое
даришь серебро.
Р.Ф.
– Российский Феникс Римма,
Поэт,
поверивший в добро.
Не
зря ушла в такое время,
Когда
проталин нежный шрифт
Родил
зеленых листьев племя!
Май
опустил небесный лифт.
О,
Римма! Наш счастливый случай!
Веселой
памяти зола!
Была
ль ты веточкой колючей?
Нет,
больше ласковой была!
Твой
крымский воздух в нас клубится.
И
не забудет расцвести!
Когда
Любовь вплывает в лица,
Уже
нельзя свернуть с пути!
21.09.
- 30.09.2008 г.
Памяти
Риммы Казаковой. Эдуард Грачев. Этюд
__________________________________________________________________
Эдуард
Грачев
РИММА
- НИНА
(Двойной
портрет)
В России надо жить долго! И это правильно. Когда я думаю о своих друзьях,
ушедших или ныне живущих, то вспоминаю двух поэтов, так или иначе изменивших
мое отношение к творчеству.
Это было давно, в 1962 году, на просмотре фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича».
- Шел эпизод поэтического вечера в Политехническом музее. Вот уже выступила
Белла и выступил Евтушенко. И вдруг появляется незнакомая тоненькая девушка и
начинает читать свои стихи. Выясняю - это Римма Казакова. Так состоялось мое
первое визуальное знакомство с этим удивительным человеком и поэтом.
Позже будут наши встречи друг с другом, реальное знакомство, чаепития, длинные
телефонные разговоры о творчестве, позже, позже... Кто-то сказал, что первое
впечатление самое верное. – Видимо, так и есть.
Не помню, в каком году, но все-таки в недавнем (в 2008-м?), Кирилл Ковальджи
позвал меня на юбилей журнала «Наша улица», издаваемого Юрием Кувалдиным.
Кажется, это было в Литературном музее на Трубниковском.
Вечер как вечер. Пропели осанну редакции, авторам. Идет небольшой банкет.
Разговаривают все со всеми. Рядом со мной женщина рассказывает о журнале.
Вступаю в разговор с ней, хотя, если честно сказать, только пролистал
сигнальный номер и мало кого знаю. Знакомимся. - Поэт Нина Краснова. Имя, о
котором слышал, но опять-таки знал мало. Так я отыскал и открыл для себя
чистое, почти родниковое состояние души, которое навеяли стихи Нины. - Кто знает, что такое чудо? - Теперь я
догадываюсь. А тогда мне казалось, что мы навсегда останемся данниками
прошлого.
Но Нина... Но Римма! Они были и есть некий свет, освещающий нам дорогу в
грядущее. - Быть может, мы никогда не доберемся до него, но пока мы тянемся к
нему - мир прекрасен. И Нина и Римма «ловят» красоту и чистоту сетью метафор,
чтобы, поймав, тут же отправиться в полет над такой бренной и прекрасной в
своей бренности землей. Не стану перечислять даты, книги. Это и так без меня
сделали и делают журналисты от литературы и фотографы.
Риммы нет с нами уже год. Но никуда она не ушла. Вот там, за поворотом в
Арбатский переулок мелькнет ее неповторимое лицо. - Вот откроют окно на третьем
этаже, и мы угадаем в силуэте женщины в окне - Римму. Римма - это Москва.
Когда я думаю о Римме и Нине, то каким-то непостижимым образом улавливаю
внутреннюю связь, их органичное родство, их природу и общность. Две девочки из
провинции. - Два больших поэта... Дистанция...
Что в промежутке? - А в промежутке одно - талант, работа. Повторюсь: талант и
работа. Иного нет в литературе, если все
остальное можно назвать литературой. Конечно, нужно и должно вспоминать или
помнить о незабываемых встречах, о застольях, поездках, выступлениях - не в
этом дело. Ибо сказано главное: и Нина, и Римма - это фантастический, адский
труд. Да о чем тут говорить? - Казакова тащила да и по сути создала Союз писателей
Москвы. Нина тащит на себе трудно подъемный с финансовой стороны альманах
«Эолова арфа». В век нужды литераторов, поэтов и Нина, и Римма помогали,
помогают пишущим обрести уверенность в себе. Когда-то Бродский сказал: «Лучшее,
чем обладает нация, - это ее язык. Лучшее в каждом языке, конечно же,
литература. И лучшее в любой литературе – поэзия». Из этого следует, что
хороший поэт является сокровищем нации, тем более, если этот поэт женщина. - В
нашем случае их две. Как это обычно случается с сокровищами, нация имеет
склонность беречь их для себя (одну не уберегла), и выставляет напоказ только
изредка, во времена крайней самонадеянности.
Такое время, слава Богу, наступило, кажется, в России, поскольку Римма и Нина -
сокровища русской поэзии.
19 мая 2009 г., Москва
Римма Казакова
Нина Краснова
Поэт в России меньше, чем поэт. Я поднимать не буду бабий
вой,
Таков итог последних страшных лет.
Уйду к себе, к бумаге и перу.
Мы не нужны политике, и даже, Но мне, своей подруге
боевой,
Стихи уже не утоленье жажды. - Ты места не нашел в своем
пиру.
Зачем пишу? И, как на турнике, Ты табели о рангах туго
знал.
Подтягиваюсь со стилом в руке? - Конечно, я не Бродский, не
Кокто.
Должно быть, для того, чтоб в мире новом
Меня под лавку, в угол ты загнал,
Знать: славы нет, но и забвенья нет. Не видел чтобы там меня никто.
И
слово остается просто словом. -
Прощай, товарищ верный, Бог с тобой.
Ну а поэт в России - лишь поэт. То тó у нас не так,
то тó не так.
Я больше за тебя не брошусь в бой
И не пойду с гранатою на танк.
(Стихи для поэтической иллюстрации своего материала о Римме Казаковой и Нине
Красновой подобрал автор, Эдуард Грачев.)
Проза.
Рассказ. Леонид Жуховицкий
__________________________________________________________________
Леонид
Жуховицкий
ПЛАЧУ ДОЛГИ
рассказ
У
каждого человека со временем накапливаются долги. И надо успеть расплатиться. У
меня долгов тоже полно, потому что множество людей мне хоть в чем-то, да
помогало. Я давно хотел написать книжечку, которая так и называлась бы:
"Плачу долги". В страшном двадцатом веке без людской помощи было просто
не выжить. А в нынешнем столетии я, может быть, больше всего должен
удивительному существу по имени Кристина. Ласкательно - Кристи…
Перед
полночью зашла жена и сказала растерянно:
-
Собака умерла.
-
Как умерла? - спросил я бестолково.
Как
умерла, подумал я, когда два часа назад она еще гуляла с женой возле дома,
плохо гуляла, неуверенно переставляя больные лапки - но ведь ходила, сама
ходила. А утром, хоть и вяло, съела свой завтрак, два пакетика
"Педигри". Так как же - умерла?...Глупые мысли, глупей не придумаешь:
как будто смерть учитывает, чем занималось живое существо в свой последний день
или час.
А
потом навалилось все сразу - и ужас, и жалость, и нестерпимое чувство вины. За
что? Да какая разница, человек перед собакой всегда виноват. В том, хотя бы,
что живет впятеро дольше, что ест за столом, а ей швыряет на грязную землю
обглоданную кость, что придумал и повторяет подлую пословицу "собаке
собачья смерть". Не за эту ли подлость судьба наказывает едва ли не
каждого третьего двуногого долгой, мучительной, гадостной смертью?
Кристи
была девочкой, малым пуделем, но среди малых особенно малой, почти карликовой.
Мне слово "карлик" не нравилось, и я всем говорил, что она у нас
маленький пудель, так звучало лучше. Кстати, мужчины и женщины лилипутского
роста тоже зовут себя не карликами, а маленькими людьми. Попала в наш дом она
пятнадцать лет назад, крохотным черным
щенком, ее принесла тогдашняя моя жена. Поехала покупать и выбрала одну из
помета. Не знаю, почему именно ее, но выбор вышел на редкость удачным: собачонка
оказалась уникально добрая, веселая, умненькая, ласковая. Всего, что требуем мы
от близких людей, в Кристи было поверх головы. До сих пор помню ежевечернее
ощущение счастья: возвращаешься домой, выходишь у себя на седьмом из лифта, а в
квартире уже кто-то радостно повизгивает, и в приоткрытую дверь тут же
высовывается родной черный нос. С собакой в доме всегда тепло.
Кристи
была маленькая не только по названию породы. Она и весила-то три кило с
хвостиком. Зимой обрастала курчавой черной шерстью, и вид был туда-сюда. А
летом, когда стригли "подо льва", выяснялось, что там и смотреть-то
не на что: размером с тощую кошку, и лапки карандашиками. Я диву давался: как в
таком хлипком тельце умещалась такая уйма доброты? За всю свою жизнь Кристи не
только никого не укусила, но и попытки такой не сделала. Лаяла здорово, это да.
Кто-то пройдет под окнами - и зальется на пять минут звонкий голосишко. Может,
этот талант придавал ей некую уверенность - ведь в любой собачьей компании она
оказывалась самой мелкой. Или так здоровалась с проходящими? Как-то к нам
пришла в гости Галя Кучерская, театральный критик. Кристи зазвенела своим
фирменным лаем, а потом подошла к гостье и сунула нос ей в коленки. Галя
сказала изумленно: "Какая же это собака? Это человечек"!
А
теперь этот человечек ушел, так же деликатно, как и жил, даже неопрятным
процессом умирания не доставив хозяевам никаких хлопот. Легла, уснула - и все.
О такой смерти мечтают миллионы людей, но мало кому она достается. Говорят,
только праведникам.
В
общем-то, страшного часа мы уже года полтора ждали. Кристи стала стареть, и это
было заметно. На улице не бегала, а по-старушечьи семенила, сделав свои дела,
тут же возвращалась к дверям подъезда, просилась домой. Прежде она любила
играть с теннисным мячиком - я кидал, а она мчалась за ним со всех ног. Я и
теперь иногда пытался соблазнить ее прыгучим зеленым шариком. Но Кристи
смотрела на мяч безучастно, и лишь потом из вежливости делала вид, что бежит за
ним. Печален был этот вялый, через силу, бег. Я, естественно, не хотел, чтобы
она старела, по-своему старался, чтобы не теряла форму, и, выпуская на улицу,
ждал, пока сама сойдет по ступенькам. Она же медлила, смотрела на меня. Ну что
мне стоило снести ее на руках? Вряд ли это приблизило бы конец, а зато Кристи лишний
раз почувствовала, что ее любят. Куда мудрее поступала жена: брала собачонку на
руки, гладила, разговаривала с ней. И Кристи, в прежние годы державшаяся меня,
теперь все больше льнула к жене.
Иногда
ночью она тихо скреблась в мою дверь. Я впускал ее в комнату. Кристи подходила
к кровати и молча на меня смотрела. А тихий собачий взгляд бьет прямо по
совести. Я пытался понять, чего она хочет, даже спрашивал - но как она могла
ответить? Я бросал корм в ее миску, открывал дверь на улицу. Кристи не реагировала.
Может, ей просто хотелось, чтобы ее погладили? И эта недоданная ласка теперь,
когда она ушла, рвала мне сердце.
Утром
и днем звонили по разным делам люди, говорить было тяжело, почти невозможно, и
я всем отвечал, что у нас горе, умерла собака. Кто-то не понимал, большинство
сочувствовало - но от их сочувствия становилось еще больней. Говорили,
например, что один собачий год идет за семь человеческих, так что, по сути,
Кристи прожила больше века. Но что мне было от этой арифметики, когда вся ее
коротенькая жизнь прошла на моих глазах! Пятнадцать лет - они и есть
пятнадцать. Еще говорили, что она теперь в своем собачьем раю. Но что это за
такой особый собачий рай? Неужели и на том свете сегрегация, и, как на земле у
номенклатурных чиновников свои дома, санатории, больницы и даже кладбища, так и
за гробом души покойников делятся по сортам, человеку, где получше, а прочей
живности, что останется? Кристи жила с нами, наш дом был ее домом, наша семья
была ее семьей, и если нас пустят в рай, то где же ей быть, как не с нами? Адам
жил бок о бок со всеми Божьими тварями в мире и любви. А новый мир, где друг
друга гонят, грызут и рвут, создали уже сами люди.
Еще
утешали - мол, ты горюешь не о ней, а о себе, и жалеешь себя, это тебе без нее
плохо, а она разлуку уже не ощущает. Но это не было правдой. Чего жалеть себя?
Последние годы с Кристи прибавилось хлопот, и всякий раз, когда, допустим,
собирались всей семьей на отдых, собака становилась проблемой. Ну, куда ее
девать? Отдавали на время бывшей жене. Но ведь и она могла в тот же сезон
собраться на отдых. Существуют, я читал, специальные гостиницы для собак,
дорогие и комфортабельные. Но на этот счет у меня иллюзий не было. Как-то в
Москве, во дворе, женщина, гулявшая с рыжим, средней величины песиком
рассказала мне, что уехала с мужем за границу всего на две недели, а пса
поместила в ту самую гостиницу, задорого, пять тысяч рублей в сутки. А когда
вернулись, собаку не узнала - оказывается, все четырнадцать дней рыжий Гарольд
не ел. Он-то думал, сокрушалась женщина, что мы его насовсем отдали. Все это я помнил
и, конечно же, понимал, что ни о каких долгих отлучках (например, съездить на семестр в европейский
университет для чтения хорошо оплачиваемых лекций) речи быть не может. Это создавало некоторые сложности. А дальше,
ясно, эти сложности будут только возрастать - старые собаки, как и старые люди,
требуют множества специфических забот. Не случайно хозяева, устав от уколов,
лекарств и собачьих памперсов, часто отвозят лохматого друга на усыпление,
чтобы не мучился. Я же точно знал, что ангелам смерти в белых халатах Кристи ни
при каких обстоятельствах не отдам: угасающий член семьи в свой последний миг
должен видеть родное лицо, а не ветеринара со шприцем. Теперь же своей деликатной беззвучной и
бесхлопотной смертью Кристи избавила нас от всех проблем - хоть в Австралию
езжай на полгода. Это не я себя жалел, это она нас пожалела.
Слава
Богу, в доме были снотворные - удалось себя оглушить до утра. А потом встала
проблема: где Кристи похоронить? У нас не Америка, собачьих кладбищ нет. Дача у
нас своеобразная, так сказать, эконом класса, двухэтажный дом на пять подъездов
- кругом поросшие лесом овраги, но личные сотки не предусмотрены. Впрочем, под
окнами есть какие-то метры, ничьи, общественные. Общественные - значит, в
какой-то малой степени и мои. Вот там, на краю оврага, метрах в двадцати от
окон, мы и похоронили члена нашей семьи. А где еще? Жила с нами, значит, и
лежать ей поблизости, будет, кому за крохотной могилкой присмотреть. Приносим
цветы, облегчаем собственные души. А будет потеплей, посадим на могилке куст
шиповника или, пожалуй, можжевельника, чтобы зеленел круглый год. И станет наша
Кристи частью родной природы. Когда в земле лежит очень добрая собака, люди вокруг
ее могилы тоже становятся добрей. По крайней мере, очень хочется на это
надеяться.
Индуисты
верят в переселение душ. Если их древняя религия права, в Кристи жила душа
святого человека. А сейчас она вселилась в ребенка, который, когда вырастет,
сам станет святым человеком. Нашей тесной, переполненной злобой планете просто
необходимы святые люди. Ведь человечеству надо как-то выживать, а как это
получится, если кругом будут одни грешники? Хорошо, что по земле бегают
маленькие добрые собаки, такие, как наша Кристи, в чьих мохнатых телах
вызревают до нужного часа святые души.
Одинокие
бабули, вечерами семенящие по двору со своими мохнатыми беспородными
компаньонками, истово уверяют, что собаки куда лучше людей. Не знаю, может, и
так. Хотя люди разные, и псы разные. Есть добрые, верные, улыбчивые - но есть и
злобные, коварные, всегда готовые при выгодном случае пустить в ход клыки. Все
так! И все же не могу себе представить собаку, которая отвела бы старого
больного хозяина на усыпление.
Леонид
Жуховицкий
САМЫЙ
КРАСИВЫЙ ЧИНОВНИК
очерк
Пару
месяцев назад завершилось политическое супершоу Второго канала под громким
титулом "Имя Россия". Отдадим должное изобретательности телевизионных
вождей: звезды на льду были, звезды в цирке были, для звезд в сауне время еще
не приспело - на пупе извертишься, придумывая свеженькое! А они нашли свою
щель, да еще с патриотическим уклоном. Зря ругают наше телевидение - есть там
находчивые люди. С титулом, правда, подкачали, уж очень косноязычно звучит. Но
требовать от наших виртуальщиков изощренной грамотности было бы жестоко.
Понятно, что хотели сказать, и слава Богу! Мол, есть страна Россия, а нет
главного имени, государя-суперимператора, власти вечной, которой можно
поклоняться, не боясь обидеть власть временную. Такого наивысшего идола и
предложили выбрать доверчивым россиянам.
Выбрали.
И что? А ничего.
Я
провел крохотное исследование: попросил знакомых вспомнить, до какой конкретной персоны
съежилась нынче наша огромная родина. Успеха не имел, точно имя не назвал никто.
Разве что учительница из Подмосковья обиделась за Пушкина - на промежуточном
этапе солнце русской поэзии заметно отставало от Сталина, Ленина и кучи царей.
Но учительница нам не указ, с ее зарплатой только стихи и читать.
В
газетах, в ящике тоже тишина, что странно. Президента выбрали на четыре года, и
его знают все. А тут герой тысячелетия, и хоть бы крохотный интерес. Словно и
не событие!
Впрочем,
ход телеспектакля возмутил нескольких интеллектуалов тем, что народ довольно
охотно голосовал за своего главного палача, старика Виссарионыча. Неужели и
нынче, как во времена Чернышевского, в России снизу доверху все рабы? Еще
недавно партийные чиновники сокрушались: мол, с таким народом коммунизм не
построишь. Так что же, и капитализм с ним не построишь?
Первый
вопрос, который приходит в голову, элементарен: а, вообще, было ли всенародное
голосование? Увы, опять приходится вспомнить чеканную формулу кремлевского
усача: "Не важно, как голосуют, важно, кто считает". Люди,
разбирающиеся в современной электронике, сразу же определили, откуда брались
многочисленные голоса: если поставить телефон на автомат, он и будет круглые
сутки штамповать "мнение народа". Порядочные люди такими методами
брезгуют, а коммунисты к ним за семьдесят лет собственной диктатуры так привыкли,
что не избежали искушения лишний раз пропиарить покойного отца всех отцов.
Интересно, однако, почему для пропагандистской акции они выбрали не Ленина, а Сталина. Чем
"великий продолжатель" милей им "гениального основателя"?
Ответ напрашивается: просто нынешние коммунисты вовсе не ленинцы - они
сталинцы. То, что именовалось ленинской партией, было практически полностью
уничтожено к началу тридцатых годов. А проводили раскулачивание, служили
охранниками в концлагерях, писали доносы и расстреливали на основании этих
доносов функционеры уже иной, сталинской формации. Ленин был для них ритуальной
иконой, и не более того, - а Сталин
реальным хозяином, от которого зависела не только карьера, не только доступ к
разнообразным партийным кормушкам, но и сама жизнь.
Сейчас,
как и при диктатуре, принято писать имена двух вождей через черточку, как
близнецов-братьев. Между тем, при определенном сходстве, разница между ними
была огромна. Ленин, при всей своей жестокости, никогда не был предателем.
Сталин был, да еще каким! Нравственных барьеров для него не существовало. Он
предал всех, кого мог: своих покровителей Зиновьева и Каменева, близкого
соратника Бухарина, мозгами которого пользовался долгое время, приятелей и
земляков Енукидзе и Орджоникидзе, членов собственной семьи. Ленин был хорошо
образован и, несомненно, талантлив, поэтому охотно привлекал к руководству
страной талантливых и образованных: в так называемую "ленинскую
гвардию", как к ней ни относись, входили люди умные и яркие, блестящие
ораторы и бесстрашные полемисты. Сталин плохо говорил, писал с ошибками, в
знании иностранных языков замечен не был, с убежденностью невежды отвергал
генетику и кибернетику. И сталинская когорта состояла из косноязычных
посредственностей: Молотов, Ворошилов, Жданов, Маленков, Каганович, Шверник не
оставили следа ни в воспоминаниях современников, ни даже в анекдотах, ведь и
для издевки нужна хоть какая-то индивидуальная черта.
И
все же: неужели нынешние коммунисты, в массе своей удручающе безликие, так уж
хотели, чтобы символом не чужой им России стал низкорослый и низколобый
персонаж, шестипалый и сухорукий, к тому же с иностранным нынче именем Сосо
Джугашвили? Неужели так его любят? Да нет, конечно - они любят не его, а себя.
Сталин для них оправдание невежественности, серости, оправдание доносов и
предательств, оправдание того горького обстоятельства, что мы до сих пор возим
зерно из Канады, мясо из Новой Зеландии, компьютеры из США, телевизоры из
Японии. Потому и настроили свои хитрые телефоны на него, а не на Ленина, который
говорил на пяти языках и ненавидел взяточников.
Впрочем,
высокое место Сталина не главный из парадоксов политического турнира Второго
канала. Чего ради нас убеждали, что огромную страну с великой культурой можно
без существенных потерь ужать до одного-единственного имени? Россия, она что -
Гваделупа или Андорра? Видимо, чиновникам комфортнее существовать, если в
тысячелетней истории страны будет выстроена жесткая вертикаль, на вершине
которой утвердится одна фигура, непререкаемый и непогрешимый главначпупс.
Прогибаться под единого начальника безопасней, чем под многоликую власть:
угодишь, а потом окажется - не тому.
Считать,
что итоги голосования отражают позицию народа,
было бы непростительным легкомыслием. Мы видели, что по ходу
избирательной компании мнение низов неоднократно корректировалось самыми
разными способами: то чьи-то голоса признавались недействительными, то народ
деликатно упрекали в неверных представлениях об истории, то подталкивали в
желательную сторону. Почему популярнейший Владимир Высоцкий, некоторое время
шедший на втором месте, вообще, выпал из списка? Догадаться легко: много пил,
мало врал, пел, что хотел. Воспитывать молодежь на таком примере очень уж
чревато. Я глубоко уважаю великого Менделеева, но сомневаюсь, что он вошел в решающую
пульку по результатам зрительского волеизъявления, а не потому, что
организаторы шоу хоть поздно, но спохватились: как же так, мощная держава, а
совсем без науки! Вот и пригласили Дмитрия Ивановича заткнуть прискорбную дыру.
Означает
ли сказанное, что кампания по выборам исторического лидера никакой новой
информации не дала? Вовсе нет - любое голосование хоть что-то, да отражает.
Прежде,
чем перейти к выводам, давайте посмотрим на финалистов - двенадцать
исторических персонажей, поступивших в распоряжение двенадцати присяжных,
которые ни на Библии, ни на Российской Конституции говорить правду, одну только
правду, всю правду и ничего, кроме правды, разумно не клялись. Так вот, список
претендентов на высший исторический пост говорит о многом.
Прежде
всего, три четверти из них оказались чиновниками, причем, высокого ранга:
князь, четыре царя, два партийно-государственных лидера, два генералиссимуса и,
видимо, в качестве человека из низов, один премьер-министр. Компания хорошая,
но уж больно однообразная. Правителей из
истории не выкинешь, да и не надо - но не в пустыне же они правили. Неужели в
века минувшие выдающимися людьми были лишь цари, генеральные секретари да
изредка приближенные? Неужели в Восемнадцатом столетии Ломоносов меньше дал
России, чем грузная дама, получившая власть с помощью энергичных и
небескорыстных любовников? Для миллионов людей во всех краях планеты Россия не
существует без величайшего прозаика всех времен и народов Льва Толстого - а
члены нашего жюри его что, не читали? Или читали, но не понравилось?
Толстого
в списке финалистов нет, а Столыпин есть. Этот крупный государственный деятель
одно время обменивался письмами с суровым классиком, но Толстой переписку
прервал с гневом и отвращением, когда Столыпин уставил страну виселицами своего
имени, к слову сказать, во многом морально оправдавшими последующий террор
большевиков. Заслуги Столыпина в деле крестьянской реформы бесспорны - но
неужели на весах истории они перетягивают созданное гениальным художником
слова?
Первое
место на Втором канале занял Александр
Невский. И опять куча вопросов. Биография князя уж очень не однозначна.
Изгнанный волей граждан из Великого Новгорода, он привел на Русь татар, которые
и задержались на три века на чужой им земле. Но не вошли в состав финалистов ни
Дмитрий Донской, восставший против ордынского ига, ни Иван Третий, с этим игом
покончивший. Неужели младший партнер захватчиков больше достоин стать лицом
России, чем ее освободитель?
Может,
дело в том, что князь Александр канонизирован? Но тогда почему из списка выпал
Сергий Радонежский, самый уважаемый из российских подвижников веры? Он-то чем
не угодил?
И
еще недоумение, может быть, самое тягостное.
Главный
праздник нынешней России - день Народного Единства. Хороший праздник. А кому мы
им обязаны? Нижегородскому мещанину Козьме Минину: это он вывел страну из смуты
и спас от развала. Но и его нет среди кандидатов на верхушку столба. Социальное
происхождение не позволило конкурировать с имперскими и советскими
самодержцами?
Так
чем же объяснить однотонно чиновный состав претендентов? Не тем ли, что не
только в финальном списке, но и в жюри те же три четверти составляли люди
чиновные? Представителю любой профессии свойственно переоценивать вес своей
должности. Для чиновника история России как раз и состоит из чиновничьих игр, интриг, раздоров и
соглашений кабинетных героев. Сменился правитель с командой бюрократов -
значит, изменилась страна. Все зависит от первых лиц, от пятых, от двадцать пятых. Но на деле
- так ли уж много от них зависит? Цари сидели в Зимнем, генсеки в Кремле. А
страна жила своей жизнью. И чем меньше ею управляли, тем лучше жила, тем
быстрее развивалась. Ведь не царь, слабый в своей истеричной жестокости,
покорил ближнюю Сибирь, а казачий атаман, своими силами и в своих целях
добравшийся до Иртыша. А всю бесконечную Евразию от Урала до Тихого океана кто
прошел - богато одетая дама, с трудом отрывавшая полное седалище от трона, или
бесстрашные российские землепроходцы, добытчики соболя и песца, чьими именами
названы северные моря, острова и города Дальнего Востока? И кто вывел Россию в
космос - верховный правитель или чудом уцелевший зек Сергей Королев?
Представьте
на момент невероятную ситуацию: главное имя страны выбирают не российские
чиновники, а жители нашей планеты. И они решают, кем Россия гордится перед
человечеством. Русских царей они, скорей всего, вообще не вспомнят, как мы не
вспоминаем бесчисленных Карлов и Людовиков. Но не сомневаюсь: будут названы и
Чайковский, и Чехов, и Шаляпин, и Гагарин, и Сахаров. Почему же эти великие
россияне в своем отечестве не пророки?
Нынче
чиновникам в России на редкость вольготно: сами командуют, сами себя
контролируют, сами берут взятки и сами же борются с коррупцией. Их мечта -
чтобы эта кабинетная вольница никогда не кончалась. Отсюда и проистекает их
лукавая державность, лживая сказка о стране, все величие которой формировалось
исключительно в коридорах власти. "Жадною толпой стоящие у трона",
они и детей своих, и внуков прочат в царедворцы - а какой царедворец без царя?
Над
конкурсом бюрократической красоты можно просто посмеяться. Но кое-что тревожит.
Когда "слуги народа" слишком уж вызывающе возносят себя над
хозяевами, порой происходит та самая бессмысленная и беспощадная перетряска
всего существующего, о которой пророчески предупреждал наш гениальный поэт,
оттесненный от призового пьедестала чиновными конкурентами. И тогда реальным
лицом страны вполне может стать очередной Стенька Разин. Который, если судить
по народным песням, всегда был в России популярней любого царя.
Очерки.
Виктор Кузнецов-Казанский
__________________________________________________________________
Виктор Кузнецов-Казанский
Виктор Кузнецов-Казанский - член Союза писателей
Москвы, автор рассказов и очерков, публиковавшийся в журналах "Дружба
народов", "Знамя", "Кольцо А", "Крыша мира",
"Литературный европеец", "Мосты", "Грани",
"Наша улица", "Новое время", "Новый Журнал",
"Вестник", "Алеф" и т. д., а также в альманахах Юрия
Кувалдина "Ре-цепт" и "Золотая птица". Лауреат журналистского конкурса 1995 (первое
место) и 1997 годов "Лучшая публикация по проблемам
топливно-энергетического комплекса России". Автор 1-го выпуска альманаха
"Эолова арфа". Родился в Узбекистане, жил и учился в Казани, работал
в Якутии и на полуострове Мангышлак.
ТРОЕ ИЗ СЕМЕЙСТВА
УТИНЫХ
В XIX веке в России тоже имелись олигархи - те, кого
общество постановило считать таковыми. Само собой, и тогда притчей во языцех
были капиталисты еврейского происхождения. Особенно любили публицисты склонять
имя купца-миллионщика Исаака Утина - причем чаще его называли Гусиным. А
другого богача, Воронина - Сорокиным. Должно быть, это считалось ужасно
остроумным. Знали бы они, кем будет для публицистов конца ХХ века некто
Гусинский!..
Авраам родил Исаака…
У Исаака Утина было, как тогда и полагалось, немало
детей. В истории так или иначе остались трое сыновей - Борис, Евгений и
Николай. Судя по именам, к иудейской конфессии они уже не принадлежали. Не
попали отец с сыновьями и в словари выдающихся евреев - видимо, по той же
причине.
Борис Утин (1831 - 1872) учился в Дерптском
университете на юридическом. В самом начале 1854 года он встретил на светском
рауте удивительную женщину - Каролину Павлову. Эта немка и полька по отцу
(урожденная Яниш) и англо-француженка по матери стала в середине века одним из
известнейших русских поэтов. Хотя начинала она именно с немецких стихов,
которые хвалил не кто иной, как сам Иоганн Вольфганг Гете. Далее, в юности
Каролина училась польскому у Адама Мицкевича, отбывавшего ссылку в России. И не
просто училась, а влюбилась в него безоглядно и небезответно. Мицкевич сделал
ей предложение, она была счастлива, но... Категорически воспротивился богатый
дядя. Этот дядя потом оставил ей громадное наследство, на которое польстился
вошедший в моду беллетрист Николай Павлов. Их свадьба состоялась в год смерти
Пушкина, чьи стихи Каролина переводила на немецкий.
Брак с Павловым распался в начале 1850-х. А вскоре
47-летняя Каролина Карловна переживает краткий, но очень плодотворный для
русской поэзии роман с 22-летним Борисом Утиным. Так называемый утинский цикл -
менее чем из десятка стихотворений - пожалуй, лучшее, что написано Павловой.
Мы странно сошлись. Средь салонного круга,
В пустом разговоре его,
Мы словно украдкой, не зная друг друга,
Свое угадали родство...
И каждый из нас, болтовнею и шуткой
Удачно мороча их всех,
Подслушал в другом свой заносчивый, жуткий
Ребенка спартанского смех.
Каролина Карловна через два года покинула Россию,
несколько лет еще писала стихи по-русски, а потом лишь переводила наших
классиков на немецкий и французский. Умерла она в 1893 году, прожив едва ли не
дольше всех русских поэтов. А Борис Утин стал профессором Петербургского
университета, слыл либералом и исключительно порядочным человеком. Но срок его
жизни оказался вдвое короче, чем у возлюбленной.
Большим другом Каролины Павловой был Алексей
Константинович Толстой, их переписка велась до самой его смерти в 1875 году. А
другой, еще более регулярный корреспондент Толстого - журналист Михаил
Стасюлевич - был женат на сестре Утина Любови Исааковне. Стасюлевич много лет
редактировал популярнейший журнал "Вестник Европы", в котором часто
печатался младший из братьев Утиных - Евгений (1843-1894).
Так, в 1869 году вызвала немалый шум его статья
"Литературные споры нашего времени", где Утин попенял Гончарову за
образ нигилиста Волохова - дескать, очерняет старик молодое поколение! Автор
"Обрыва" не на шутку обиделся, Алексей же Константинович был
снисходителен: "Мне не приходило в голову обижаться, когда я встречал в
романе 50-летнего подлеца..." Отметил он и джентльменский тон статьи
Утина, чуждый большинству публицистов.
Но когда Утин в 1871 году написал о Парижской
Коммуне, Толстому это не понравилось.
Граф был резко против Коммуны, Утин же, сохраняя объективность, воздал "по
заслугам" и тьеровскому правительству. Наконец, после освобождения
Болгарии от турок Евгений Утин вызвал неудовольствие идеологов
"православия, самодержавия и народности" статьей о политическом
устройстве нового государства. Болгары хотели, чтобы церковь была отделена от светской
власти, а русские доброхоты настойчиво советовали им проникнуться православным
духом как можно глубже.
Гнев Федора Михайловича
Но уж кто обрушил на Евгения Утина весь свой плохо
скрываемый гнев, так это Федор Достоевский. Поводом послужил уголовный процесс
1876 года по делу Каировой, в котором Утин был адвокатом. Тут нужно отметить,
что Евгений Исаакович имел юридическое образование и не раз выступал по
политическим делам. В частности, он вместе с другими адвокатами защищал
участников "хождения в народ" на знаменитом "Процессе
193-х", где удалось добиться оправдания почти половины подсудимых.
Дело же Каировой заключалось в следующем. Анастасия
Каирова, не слишком удачливая столичная актриса, в поисках успеха отправилась в
Оренбург, в труппу некоего Великанова. Став любовницей антрепренера, она
увлекла его с собой в Петербург, но потом туда приехала законная жена и
попыталась вернуть мужа. Драматический конец треугольника наступил на даче
Каировой, где Великановы вновь оказались в одной постели. Вбежавшая в спальню
Каирова дважды полоснула соперницу по шее бритвой, нанеся ей неглубокие раны -
уже через две недели Великанова
выступала на сцене.
Общественное мнение, живо откликавшееся тогда на все
подобные истории, встретило одобрительно факт оправдания Каировой присяжными.
Во всяком случае, приговаривать женщину к каторге за попытку убийства из
ревности считалось жестоким. Другое дело, что в мягкости суда присяжных многие
видели тенденцию к поощрению преступников. Знаменитое дело революционерки Засулич
было еще впереди, но Достоевский уже тогда отмечал несовершенство юридических
процедур. В частности, для вынесения вердикта присяжным предлагалось сразу
несколько вопросов, составленных весьма витиевато и противоречивших друг другу.
Писатель предпочел бы, чтобы Каирову осудили, но пожалели и отпустили - ее же
просто признали невиновной.
Едва ли не главным виновником этого Федор Михайлович
счел адвоката Утина. В своем "Дневнике писателя" он уделил ему целых
восемь страниц, инкриминируя Утину ни много, ни мало прославление преступления.
Досталось Евгению Исааковичу и за то, что он в своей речи цитировал Евангелие,
и за похвалу, высказанную им прокурору (обвинителем на процессе был Владимир
Случевский, брат известного поэта, и он тоже проявил снисходительность к
подсудимой). Трудно отделаться от впечатления, что в общем-то заурядное дело
вряд ли могло бы вызвать столь большой интерес у Достоевского, не будь
защитником еврей... Как раз в те дни классик в своих записях выливает очередную
порцию желчи на пресловутое племя: "Восемьдесят миллионов существуют лишь
на поддержание трех миллионов жидишек".
Желающие попинать Утиных не переводятся и в наши
дни. В комментариях к сочинениям Василия Розанова, изданным в начале 1990-х,
можно ознакомиться с "уткой" такого рода: дескать, Евгений Утин в
1872 году нарушил адвокатскую этику и был вызван на дуэль. А потом надругался
еще и над дуэльным кодексом и фактически убил соперника. И после такого греха
Утина не сослали, не исключили из корпорации адвокатов? Кстати, у самого Розанова
Утин упомянут мимоходом и совсем не в этом контексте, но уж больно хотелось
комментаторам подчеркнуть, какой он нехороший.
"…Такие утины, - пишет М. Лобанов в своей книге
о драматурге Островском ("ЖЗЛ"), переработанной в связи с новыми
веяниями в конце 1980-х, - целым выводком из месяца в месяц в газетах, журналах
гомонят одно и тоже... Ловко приноровились: папаша Русь спаивает, сынок укоряет
ее за отсталость и пьянство".
В самом же деле Евгений Утин, владевший в Волынской
губернии селом Верхняки, оставил в душах селян добрый след. Его вспоминают и
сегодня, хотя в августе 2009 года исполнится 115 лет со дня его смерти на 51-м
году жизни там же в Верхняках. До сих пор стоят в селе деревянные хозяйственные
постройки, возведенные при Евгении Исааковиче. А обветшавший в конец барский
дом, где в советские годы размещались правление колхоза, детский сад,
библиотека и клуб, был в 1990-х разобран…
"Я за Интернационал…"
Наконец, еще один из братьев - Николай (1840-1883).
Он единственный, кто удостоился отдельной статьи в советских энциклопедиях, ибо
стоял во главе Русской секции первого Интернационала. Иными словами, был первым
русским коммунистом, если под коммунистами понимать борцов за мировую
революцию.
Как и Евгений, Николай Утин был студентом Петербургского
университета и активно участвовал в беспорядках 1861 года. Но если 18-летний
Евгений пошел по либеральной стезе, то его 20-летний брат, исключенный из
учебного заведения, вскоре вступил в "Землю и волю" и в том же году
стал членом ЦК партии. Попутно он успел сдать экстерном за университетский курс
и получил диплом инженера. В мае 1863-го Утин эмигрирует, и вовремя - его
заочно приговаривают к смертной казни. В Лондоне Утин сошелся с Герценом и стал
переправлять его издания в Россию. Но когда русские эмигранты устроили свой
съезд в Женеве, он заявил о несогласии c Герценом, видевшим выход в особом пути
русской революции. Утин вступает в Интернационал и вместе с Бакуниным издает
газету "Народное дело". С теоретиком анархизма ему тоже оказалось не
по пути - Утин ориентируется на Карла Маркса. Последний по просьбе членов
русской секции представлял Россию в генеральном совете.
Русская секция просуществовала недолго - идеи
мировой революции тогда не встретили поддержки на наших просторах.
Разочаровавшись во всех направлениях социализма, Николай Утин в 1877 году подал
прошение о помиловании и вернулся в Россию. Последние годы жизни он работал на
уральских заводах, умер в 1883 году, прожив лишь на год дольше Бориса. Евгений
Утин скончался в 1894-м.
Жаль, что среди Утиных не нашлось Петра или Павла.
Может быть, тогда бы интерес к этой фамилии оживился в наши дни? Только
представьте: "Жизнь и судьба П. Утина"...
НАС НЕ ЛЮБЯТ. А КТО МЫ?
О национальностях будут спорить всегда, пока они
есть. И никогда мы не изживем до конца ни ксенофобию, ни этническую спесь. Но
можно и нужно добиваться, чтобы общество, зная собственные слабости, вовремя
обуздывало тех, кто пытается ими спекулировать.
На мой взгляд, для понимания национальных обид и
претензий надо отделить друг от друга две вещи: осознание себя членом нации и
идентификацию с ней. Например, я знаю, что я русский, но у меня нет потребности
строить на этом свое поведение - объединяться с себе подобными, отвергать все
нерусское и т. д. В этом смысле "я - русский" не более значимо, чем
"я - блондин" или "я - инженер". Да, мне обидно, когда
вдруг кто-то скажет нелестное о блондинах или инженерах, но создавать на этой
основе какие-то общества?!.. Точно так же нелепо гордиться цветом волос или
профессией, разве что они вдруг начнут особо котироваться. А самое главное, на
основании этих признаков мне никто не может приказать: "Коль ты блондин,
то веди себя достойно блондина!" Или: "Твой долг - помогать
братьям-блондинам!" А вот по отношению к национальным, этническим
признакам почему-то считается в порядке вещей если не обязательная, то
желательная самоидентификация. "Приятно русскому с русским обняться",
"национальная гордость великороссов", "бьют русского - удар по
всей России", "не посрамим наше русское имя" - все это не
столько поэтика, сколько этика. Вместо русских можно поставить любой другой
этноним, и чем меньше число его носителей, тем это будет чувствоваться острее.
Собственно, этносом или этноподобием может стать любая общность - чаще всего
конфессиональная, но не только.
Всевозможные неформальные объединения, замыкаясь в
узких рамках, начинают напоминать этносы - и высокомерием по отношению к
непохожим, и неприятием контактов с ними, и строгой внутренней моралью. Этнос -
это такая общность людей, члены которой не только сознают свою принадлежность к
ней, но и идентифицируют, отождествляют себя с нею. Я - частичка общего тела, и
я чувствую его боль. Плохо другим частичкам - плохо мне. Другая частичка не
выполняет свою роль - мне тоже будет плохо.
Но идентифицироваться можно только в такой группе,
которая не слишком велика численно, а главное, отличима от других. Там, где все
русские, перед кем будешь гордиться своей русскостью? Правда, можно начать
выяснять, кто более русский, то есть начать искать "скрытых
инородцев"... Этническая идентификация одновременно порождается реальными
различиями и требует их создавать. Когда говорят о том, что русские утратили
чувство общности, что русская нация стала слабой - этим констатируют то, что
русские, во-первых, по-прежнему чувствуют себя большинством, и, во-вторых,
идентифицируют свой этнос с государством. Мне нет нужды искать в каждом русском
собрата, потому что нас слишком много и мы, в общем-то, не ущемлены, что бы ни
утверждали ярые патриоты. А кроме того, мы привыкли ждать в случае чего помощи
не от ближних, а от власти, пусть эти надежды тоже на самом деле все
призрачнее.
Но вот там, где русские оказались уже
меньшинством, - в Балтии, на западе
Украины, в Средней Азии - там русские стали ближе друг другу? Боюсь, что и там
у нас перевешивает надежда если не на защиту в лице исторической родины, так на
возможность уехать на нее. Или же надо настолько прижать русского человека,
чтобы он наконец почувствовал общность с братом по происхождению?
Впрочем, сила и слабость идентификации определяется
не только численностью нации и ее положением в стране. Русская нация впитывала
в себя частично или полностью слишком многих, чтобы беспокоиться о таких вещах,
как родной язык или культура. Ассимиляция - это не про нас, это про все народы
России, кроме русского. И те, кого русский народ ассимилирует, очень часто
одновременно и чувствуют свою общность с ним, и стараются держаться за свою
самобытность. Ничего удивительного - быть двойственным сложнее, но радостнее.
Точно так же, наверно, чувствуют себя те, кто
происходит от разных этносов. Может быть, им даже труднее с идентификацией, чем
настоящим, но полностью обрусевшим "инородцам". Те как бы уходят от
детского самоощущения к другому и не сразу, но теряют его. А тут ты с детства
знаешь, что твоя национальность - нечто не вполне определенное, тем более, если
тебе дают свободу выбора и не принуждают забывать об одной из половин. А если
их больше, чем две? Сейчас ведь и таких людей уже немало. В городах Татарстана,
например, к смешанным семьям принадлежит до 40 процентов населения. Люди в
таких семьях часто идентифицируют себя с обоими этносами, откликаясь на обиды в
адрес того и другого. Человеку из смешанной семьи открыт доступ к тем и другим,
тогда как моноэтничная семья часто испытывает трудности в общении с
иноэтничной. Впрочем, молодежь дружит между собой, невзирая на пятый пункт, и
даже потом, когда у каждого из компании образовались несмешанные семьи, они
продолжают поддерживать хорошие отношения. Труднее всего общаться с другим
этносом тому, кто вырос в моноэтничной среде, особенно если его воспитывали в
предубеждении. Если он все же вступит в брак с лицом другой нации, старшие
родственники могут этому браку очень повредить, вплоть до того, что вынудят
развестись. Но таких предубежденных семей в Татарстане совсем немного.
И вот теперь я хочу сказать о такой стороне
этнической идентификации, как вопрос "Почему нас не любят?" Не любят
в самом деле всех, кто считается чужаком - и русских вне России, и татар вне
Татарии, и евреев за пределами Израиля. Не любят, может быть, всего-то 10
процентов (я не согласен с утверждениями, что национализмом, пусть и в разных
формах, болеет большинство людей), но они громче других и их нелюбовь виднее, а
главное - опаснее.
Еще одна очень непростая проблема. Почему за
мерзавцев, принадлежащих к определенному этносу, сплошь и рядом расплачиваются
приличные люди из того же этноса? Это касается многих народов, но чаще всего
евреев (традиционно), а в последнее время - искусственно превращенных в некую
супернацию кавказцев.
Говорят, евреи по сравнению с другими нациями
отличаются сплоченностью, они умеют ответить на любую обиду, помогать друг
другу и т.п. Может быть... если считать евреями лишь тех, кто состоит в
еврейской общине. Но таковых, я думаю, явно меньше, чем всех, имеющих
соответствующий пятый пункт. А ведь черносотенцы причисляют к евреям не только
всех имеющих хоть какое-то родство с ними, но и всех, думающих на эту тему
иначе, чем Зюганов и Макашов.
И вот вам, российские евреи, полу- и четверть -
также, альтернатива: либо вступайте в еврейскую общину и пользуйтесь ее
поддержкой, защитой, покровительством - либо считайте себя ассимилированными
формально или фактически и надейтесь только на себя да на добрых русских людей.
Конечно, благородная община вас совсем уж в беде не оставит, но все же если
хотите большего, будьте настоящими евреями. Кто не хочет таковым считаться,
пусть идет к русским. Которые тоже не очень-то готовы вас к себе принять. Речь
не о шовинизме. Просто полностью отказаться от своего еврейства, данного актом
рождения, не удается никому. Даже Жириновскому. Полурусских-полуевреев в
России, наверно, миллионы. Полукровок разных других типов - десятки миллионов.
Что же, всем этим людям следить за поведением каждого из собратьев с обеих
сторон и кричать ему: "Не позорь мой этнос, мне за тебя достанется!"?
Может быть, проще требовать законопослушания и
порядочности от всех, невзирая на пятую графу? Но, увы, за грехи одного
олигарха других бить не станут, а за проступок одного армянина побить других -
это запросто. А заодно и всех, у кого лицо кавказской национальности. Каков же
выход? Даже самая идентифицированная нация не может требовать от отдельного
своего члена быть таким, каким нужно для защиты от погрома. Да погромщиков и не
задобришь, громят ведь потому, что хочется громить. Другое дело -
воздействовать на позорящего нацию морально, подвергнуть его осуждению вплоть
до остракизма. Если, допустим, некий еврей из олигархов в самом деле совершил
преступление, не надо другим евреям говорить, что это все происки антисемитов
(как не надо русским обвинять во всем русофобов). Лучше, может быть,
отмежеваться от того, кто подмачивает репутацию этноса? Разумеется, это легко в
теории, а при нашем правосудии попробуй-ка убедись, где справедливые обвинения,
а где натяжки и наветы! И все же, помимо юридических норм, есть и просто нормы
общества, и не всякий олигарх им должен соответствовать только потому, что он
еврей... Но коль часть российских евреев признала своим лидером Гусинского, то
как же ей было не защищать его? Не надо только думать, что этот лидер - глава
всех евреев России.
Может быть, стоит создать в России что-то вроде
"Лиги борьбы с диффамацией" - организацию, которая давала бы отпор
любым проявлениям шовинизма,
направленным против любого народа. И одновременно от лица не всей нации, но
влиятельных людей конкретного этноса осуждала бы тех своих собратьев, кто так
или иначе совершил что-то не красящее данный этнос. А еще... Еще, наверное,
пора создавать лигу защиты "смешанных" - тех, кто происходит от
разных наций или имеет смешанную семью. Потому что у таких людей чувство обиды,
как впрочем, и гордости за свой народ, вдвое и даже втрое сильнее...
Эссе.
Нина Краснова. «Из проходной завода «Серп и молот»
_________________________________________________________________
ИЗ
ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»
глава
администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов
(Эссе)
Сергей
Филатов – сын поэта Александра Филатова, у которого есть поэма о моем великом
земляке Сергее Есенине:
В
приокском селе под Рязанью
Жила
эта русская мать,
Она
за шитьем и вязаньем
Любила
сынка поджидать.
Я
прочитала эту поэму еще тогда, когда училась в первом классе, и сразу запомнила
наизусть многие строфы оттуда и до сих пор помню их наизусть. Александр Филатов
назвал своего сына в честь Сергея Есенина. Сергей Александрович получился
двойным тезкой Есенина: во-первых, он Сергей, а во-вторых – по своему отчеству
– Александрович, как и Есенин. И я думаю, что все это, наверное, наложило на
него свою печать, и поэтому он всю жизнь тянется к поэзии, к литературе, к
культуре...
Причем
он – не из тех писательских детей, которые с детства жили на всем готовом,
сидели на шее у своих родителей, как у Христа за пазухой, и потом оказывались
ни на что не годными в жизни. Он не папенькин сынок. Всего, чего он добился в
своей жизни, он добился своим трудом, своими силами. Два года назад писатель
Юрий Кувалдин, главный редактор журнала «Наша улица», делал с ним беседу для
своего журнала. И Сергей Александрович рассказал ему про свою жизнь. Отец у
него был поэтом и работал на заводе «Серп и молот», и мать работала там. И сам
Сергей Филатов, когда окончил школу и металлургический техникум, тоже работал там,
помощником мастера-электрика, секретарем Комитета ВЛКСМ этого завода. И оттуда
и вышел в люди, как в песне Фатьянова:
Я
не хочу судьбу иную,
Мне
ни на что не променять
Ту
заводскую проходную,
Что
в люди вывела меня.
Оттуда
он пробивался – очень трудным путем - через тернии к звездам и поднялся на свою
недосягаемую для других высоту. Он был главой Администрации Президента Ельцина,
помощником Президента. Но потом ушел из большой политики в культуру, потому что
эта сфера ему ближе. Он создал свой Фонд социально-экономических и
интеллектуальных программ и помогает культуре, литературе, поддерживает все
новое, хорошее в ней, проводит от своего Фонда совещание молодых писателей в
Липках.
Сергей
Филатов стоит у истоков новой свободной России, в которой каждый поэт, писатель
может максимально реализовать свои творческие возможности, и может не только
писать то, что он хочет, но может и издавать то, что он хочет, и даже создать
свое издательство, свой журнал, как это сделал писатель Юрий Кувалдин, который
создал издательство «Книжный сад» и журнал «Наша улица». Сергей Филатов
интересуется этим новым журналом художественной литературы, читает и
поддерживает его и авторов журнала, то есть новые таланты. Он приходит на
вечера «Нашей улицы», выступает там и сразу поднимает престиж этих вечеров и
авторитет журнала. Если Сергей Филатов пришел на праздник журнала, значит
праздник будет на высшем уровне.
Сергей
Филатов написал великолепную книгу «Совершенно несекретно» - о кулуарах
российской власти, о некоторых государственных фигурах, с которыми ему пришлось
столкнуться на своем пути. Когда ее читаешь, то лучше начинаешь разбираться в
том, в чем ты, может быть, не очень хорошо разбирался.
Мне
раньше никогда не приходилось знакомиться и знаться с государственными людьми.
Сергей Александрович Филатов – первый в моей жизни такой человек. И меня в нем
восхищает не только его ум, широта его мировоззрения, его талант общественного
деятеля, его организаторские способности, но и его доброта, которая есть и в
его лице, и в его поступках, и в его манере вести себя с людьми. И меня
восхищает его врожденная интеллигентность, которая дается человеку как талант и
которую нельзя приобрести... Человек может научиться правилам этики и этикета,
он может научиться подавать пальто даме, пользоваться двенадцатью ножами и
вилками во время обеда... но врожденной интеллигентности научиться нельзя, как
нельзя научиться доброте и искренности. Она или есть или ее нет. И вот у Сергея
Александровича Филатова она есть. С ним приятно стоять рядом. Около него
приятно находиться. От него всегда исходит на тебя аура доброты и света,
положительная аура. И он никогда не дает понять людям, что он выше их по чину,
по образованности, по каким-то там качествам и параметрам.
Сергей
Филатов полон сил и молод,
Он
не в теплице, рос и прорастал –
Из
проходной завода «Серп и молот»
Он
в люди вышел, vip-персоной стал.
Сергей
Филатов – конечно, vip-персона, особо важная и особо
уважаемая персона, но он никогда не строит из себя важную персону, важную
птицу. Он – как все настоящие большие и великие люди, очень демократичен и
прост с людьми, не простоват, а по-хорошему прост. В нем нет никакой индюшачьей
надутости, напыщенности, надменности, высокомерности, заносчивости. И это все и
говорит о том, что он – высокий человек. Чехов говорил: в человеке все должно
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли... Сергей Филатов – такой
человек, в котором все прекрасно. И я питаю к нему искреннюю симпатию, если не
сказать больше. С такими людьми, как он, можно смело смотреть вперед и смело
идти в будущее.
«Наша
улица» № 117 (8) август 2009
Поэзия
шестидесятников. Андрей Вознесенский
___________________________________________
Андрей
Вознесенский
Андрей
Вознесенский – поэт, которого на Парижском фестивале «Триумф» в 1996 году
газета «Нувель Обсерватер» назвала «самым великим поэтом современности»,
родился 12 мая 1933 года в Москве, в семье научного работника, внук муромского
архимандрита, имевшего грузинские корни. В 1957 году окончил Московский
архитектурный институт. Автор более тридцати книг стихов и прозы: «Мозаика»
(1960), «Треугольная груша» (1962), «Антимиры» (1964), «Ахиллесово сердце»
(1966), «Тень звука» (1979), «Взгляд» (1972), «Дубовый лист виолончельный»
(1975), «Витражных дел мастер» (1978), «Прорабы духа» (1984), «Ров» (1989),
«Аксиома самоиска» (1991), «Гадание по книге» (1994), «Casino
«Россия» (1997), «На виртуальном ветру» (1998), «Жуткий Сrisis
Супер Стар» (1999), «Андрей Вознесенский. Собрание сочинений» в шести томах
(2000 – 2003), «Тьмать» (2008) и т. д.
Лауреат Государственной премии СССР 1978
года. Академик и почётный член 10-ти академий мира, в том числе Российской
академии образования, Американской академии литературы и искусства, Баварской
академии искусств, Парижской академии братьев Гонкур, Европейской академии
поэзии. Автор популярных песен «Миллион алых роз», «На водных лыжах ты летишь»
и др.
По
его стихам Ю. Любимов поставил в Театре на Таганке» спектакли «Антимиры», М.
Захаров поставил в Ленкоме рок-оперу «Юнона и Авось», на музыку А. Рыбникова,
Р. Щедрин написал «Поэторию»...
Отрывки
из поэмы «Последние семь слов Христа»
ВСТУПЛЕНИЕ
Нам
предзакатный ад загадан.
Мат
оскверняет нам уста.
Повторим
тайно, вслед за Гайдном,
последние
семь слов Христа.
Пасхальное
вино разлейте!
Нас
посещают неспроста
перед
кончиною столетья
прощальные
семь нот Христа.
Не
«Seven up» нас воскресили.
В
нас инвестирует, искрясь,
распятая
моя Россия
the seven last words of Christ.
Пройдут
года. Мой ум затмится.
Спадёт
харизма воровства.
Темницы
распахнёт Седмица –
последние
семь слов Христа.
Он
больше не сказал ни звука.
Его
посредник – Красота.
Душа
по имени Разлука –
последнее
из слов Христа.
II
Нанижи
жемчуга из Китежа,
Сны
нижи на печаль свою.
Говорю
тебе истинно, ныне же
Будешь
со Мной в раю.
И
не после земного финиша,
после
Судного интервью, –
обещаю:
при жизни, ныне же
будешь
со мной в раю.
Нету
рая, кроме любви.
Завтра
друг мой меня продаст.
This day shalt thou be
with me in Paradise.
Мы
с тобой не в телепрограмме,
чтобы
всем про оргазм орать.
Мы
уже за райской оградой.
Души
сбросили маскарад.
В
католических трубках органа,
на
затылке тёмного зала,
гарнитурой
простого ограна
мне
твой гребень блеснёт опять.
Будто
жребий мне предсказала.
Будто
сплю я. И сон мой странный.
Будто
сплющенные перстами,
будут
смятые трубки органа
папиросы
напоминать.
Мы
родные с тобой отныне.
Данте
с эросом пародиста
комментирует
по латыни:
mecum eris in Paradiso.
Вздрогнут
раны мои занывшие.
Будем
с Богом наедине.
Ныне
же, ныне же, ныне же
жены
лучше не надо мне.
МОЛИТВА
МАРИИ
За
Тебя я боялась во сне
И
в толпе, где Тебя оборжали.
Ты
– мой Дух. Я Тебя обожаю.
Обожаю,
когда Ты во мне.
В
нашей Богом забытой стране
Ты
– единственный нравственный кодекс.
Я
люблю, когда Ты в меня входишь.
Обожаю,
когда Ты во мне.
Я
Тебя затаю. Никому
Не
отдам. Я Тебя обожаю.
Никому
– никакому Бежару,
Никакому
Камю.
Даже
ежели Ты на Луне,
В
суматохе, на абордаже,
Ты
со мной. Я Тебя обожаю.
Обожаю, когда Ты во мне.
Мой
товарищ по жизни в огне.
Ощущаю
меж наших пожарищ –
Боже
мой! – Ты меня обожаешь.
Обожаешь,
когда Ты во мне.
IV
Господи,
Боже мой, Отче!
Для
чего Ты меня оставил?
Погляди
на земные корчи
очной
ставкою из астрала.
Отче!
Дух мой меня оставил.
Не
достать луны кочергой.
Нож
на Каина поднял Авель.
Отче,
Господи, отчего?
Отчего
мы под фарисеями?
Луна
клеит скотч на чело.
Mi God, why has Thou forsaken me?
Для
чего?
Длятся
годы мои вне правил.
Новый
век объявил «очко».
Для
чего Ты Россию оставил?
Что
спасать людей? Для чего?
Над
отчизной хохочет дьявол.
Реет
пепл родных очагов.
Для
чего Ты меня оставил?
Отче,
Господи, отчего?
VII
Окончены
муки. В очи
Светится
путь домой.
Я
в Твои руки, Отче,
Передаю
дух Мой.
Сложишь
ладони домиком –
ныне
же мы в раю.
Вырвавшись
от подонков,
дух
Мой передаю.
Что
ж я страшусь разлуки
с
жизнью? Пропел петух.
Боже,
я в Твои руки
передаю
Мой дух.
Хватит
играть комедь.
Сад мой вишнёвый спилят.
Into Thy hand, I commend
my spirit.
Гаснет
всё, что имеем.
Манитаризм лукав.
In manus commendo spiritum meum.
Дух
Мой в Твоих руках.
Векá
без возлюбленной женщины
мне
пребывать в бессоннице.
Одна
без меня во Всенощной
к
колонне она прислонится.
Над
брошенными погостами
останется
мыслить камень.
К
Тебе возвращаюсь, Господи.
Амен.
Из
новых стихов Андрея Вознесенского
*
* *
Взгляд
Твой полон одной любовью,
чувства
прочие победя.
Я
готов совершить любое
преступление
ради тебя.
Когда
судьи мне кинут сроки,
от
8 лет до 108, –
понимают
они, жестокие,
что
бессмертен я, чёрт возьми.
2008
БЛАГОДАРСТВИЕ
Постамент
– Рейхстаг.
Мать
его растак!
Стяг
пронес рядовой Кантария.
Мы
сменили стяг.
Это
нам пустяк.
Но
душа – навек благодарная.
Благодарствую,
русский мой народ.
Я
за то тебя благодарствую,
Что
твой принцип делать наоборот
Не
усек урод государственный.
Раза
три приходилось меня спасать –
Времена
для нас были трудные.
Но
тебе спасать было как поссать –
Вещь
интимная, неприлюдная.
Благодарен
Тебе – Твой неясный след
Точно
раннее рандеву.
Рандевушки
нет, но рандевушки свет
Отпечатался
наяву.
Я
студентов благодарствую
Постгодаровских
и т. п.
В
свете творческих их катарсисов
Ты
в веночке из трав лекарственных –
Жив
я благодаря Тебе.
2008
*
* *
За
что мой дед любил Карсавину,
заляпав
блямбами пальто,
и
как чудовище красавицу,
Ни
за что!
Мне
об Америке не пишется.
Всё
меньше понимаю в ней,
сказал
же Гинзбург,
кто
в ней изверг.
Пишу
про наших упырей.
Всё
реже говорю «Россия».
Чтоб
всуе не упоминать,
пойму
одно, что нету силы
за
жизнь одну – её понять.
Поэзия
шестидесятников. Кирилл Ковальджи
______________________________________________________________________
Кирилл
Ковальджи
Кирилл
Ковальджи – известный поэт-шестидесятник, родился 14 марта 1930 года в селе
Ташлык, в Бессарабии, входившей тогда в состав Румынии. Окончил Литературный
институт им. М. Горького (семинар Е. Долматовского). Печатается с 1947 года.
Пишет и стихи, и прозу. Автор более двадцати книг, среди которых «Испытание»
(1955), «Пять точек на карте» (1965), «Лиманские истории» ((1970), «Кольца годовые» (1981), «Лирика» (1993), «Невидимый
порог» (1999/2000), «Обратный отсчёт» (2003), «Зёрна» (2005), «Избранная
лирика» (2007). Член СП СССР с 1956 года. Член Союза писателей Москвы. Лауреат
премии «Венец» Союза писателей Москвы. Автор 1-го выпуска альманаха «Эолова
арфа».
«Мои
первые публикации относятся к середине прошлого века!
Перелистал
я недавно свои студенческие тетради, вспомнил десятки стихотворений, которые
никогда не печатались – тогда были не ко
двору, а потом их заслонили другие времена. Поделиться ими теперь соблазнительно
и… рискованно.
А,
может, они как-то перекликаются с теперешними? Как говорится, судите сами».
Кирилл
Ковальджи
Стихи
из студенческих тетрадей
В
АККЕРМАНСКОЙ КРЕПОСТИ
Башни
к небу простирают руки,
Шепчут
волны, льется свет ночной...
Ты
со мной. Как будто нет разлуки.
Ты
со мной – и нет тебе со мной..
Будто
счастье отыскал опять я...
Кто-нибудь
другой со стороны,
Видя
наши ласки и объятья,
Рассказал
бы, как мы влюблены!
Ночь
сияет, лунный свет разбрызгав.
Тяжело
с тобой мне и легко...
Но
другой, увидев нас так близко,
Не
увидит, как мы далеко!
Пусть
над башней вызвездило купол,
И
с тобою мы слились в одно,
Я, целуя,
знаю: эти губы
Ты
отдашь другому все равно.
Хоть
держу тебя в объятьях крепко,
Понимаю,
всей душой скорбя:
Прошлое
в тебя вкогтилось цепко,
Не
отпустит прошлое тебя.
Навсегда, быть может,
путь наш прерван.
О
былом теперь уж не горюй...
Помнишь,
был когда-то тоже первым
Для
тебя мой первый поцелуй?
Ты
мне не рассказывай о прежних,
Дай
о них сегодня мне забыть.
Я
себя обманываю нежно,
Я
хочу без прошлого любить...
Ты
со мной. Как будто нет разлуки.
Ты
со мной, но нет тебя со мной!
Башни
к небу простирают руки,
Шепчут
волны, льется свет ночной...
май 1949
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Эту
старую легенду
сохранил
для нас Кавказ
Про
великую царицу,
про
воспетую не раз.
–
Пусть любой приходит витязь, –
объявила
вдруг Тамара, –
Если
яблоко разрежет
на
груди одним ударом,
Грудь
кинжалом не заденет, –
стану
я его женой,
Ну,
а если не удастся –
распростится
с головой.
Проходили
дни, недели
и
не смел никто явиться...
Прибыл
воин с полуночи
и
предстал перед царицей.
Будто
солнце повстречалось
с
новым солнцем в небесах –
Был
он сильным, был он гордым,
жил
огонь в его глазах.
Смело
яблоко ударил,
половинки
раскололись,
Но
осталось между ними
кожуры
еще на волос...
Знаменитая
царица
справедливою
была
И
печально – обезглавить
приказанье
отдала.
Проходили
дни, недели
и
не смел никто явиться,
Но
с полудня прибыл витязь
и
предстал перед царицей.
Был
прекрасен он, как песня,
что
угодна небесам,
На
него глядеть подолгу –
больно
стало бы глазам.
И
рассек он плод кинжалом –
не
успел никто моргнуть,
Но
едва-едва заметно
острием
задел он грудь.
Справедливая
царица
отвернулась,
с болью в сердце
Приказала
обезглавить
златокудрого
пришельца.
Вдруг
узнали все, что третий
появился
наконец,
Что,
хромая, по ступенькам
он
поднялся во дворец,
Прямо
к ложу подошел он,
не
смутясь перед народом –
Незнакомец
от рожденья
был
горбатым, был уродом.
Он
уверенно ударил –
неподвижно
плод лежал,
Ровно
на половинки
поделил
его кинжал!
И
придворные метнулись
победителя
прославить,
Но
разгневанно царица
приказала:
– Обезглавить!
В
женском сердце есть законы
Недоступные
для нас… –
Это
старое сказанье
сохранил
не зря Кавказ.
21 мая 1951
ВЕЧЕРНЯЯ
ПЕСНЯ
Если
вечер,
если
темно,
если
ветер
стучится
в окно,
если
дождь
повторяет
одно:
«В
одиночестве
молодость
вся.
Где
же милые,
где
же друзья..?»
Если
слёзы блеснут, скользя
я
приду и скажу:
–
Нельзя.
Дай
мне руку,
ласка
моя,
не
печалься,
улыбка
моя,
я
с тобою, хорошая,
я
с тобою красивая,
я
с тобою вечерняя
песня
моя!
1954
ШАЛЬНОЙ
СОНЕТ
Сонет
– союз таланта и труда,
Венок
стиха – он песня среди песен,
Он
должен быть серьёзен, интересен,
Боренья
мысли требует всегда.
Но
ближе мне сегодня ерунда,
Загон
закона скучен мне и тесен,
Милее
стих, который легковесен,
Слегка
дурашлив – это не беда!
Сегодня
нарушителем канона
Я
не намерен спрашивать пардона –
Священнодействовать
я не привык.
Сонет,
ты строг, как секретарь обкома.
Жаль,
что тебе такое незнакомо:
На
заседанье высунуть язык!
1958
*
* *
Любовь
наваливала,
меня ломало,
а
ты пошаливала,
всё
было мало:
ты
не улавливала,
что
от накала
меня
зашкаливало
и
замыкало…
Скомпрометированная
любовь
без тела,
перенервировнная,
перегорела.
ВОСТОЧНЫЙ
МОТИВ
В
Трапезунде или на Босфоре –
мне
во сне случилось подсмотреть –
синее
безветренное море
повторяет
белую мечеть.
Зов
муллы торжественно несётся
над
покоем сладким поутру.
С
неба жизнерадостное солнце
поднимает
звездную чадру.
Проскакали
всадники аллюром,
потревожив
тишь рассветных чар;
по
базару пленного гяура
протащил
свирепый янычар.
Шелестят
лениво шаровары
и
блестит на солнце ятаган;
на
прилавках яркие товары,
в
разноцветных росписях Коран.
Закипает
жизнь у башен древних,
высыпали
нищие уже;
из
гарема вышел тихий евнух,
поклонился
встречному паше.
Аромат
маслинового сада
и
фонтаны бьют перед дворцом.
На
тахте лежит Шахерезада,
в
нежной ручке – кофе с каймаком.
В
воздухе прозрачном и прогретом
сонные
баюкаются дни…
В
синем море – змейки-минареты,
в
синем небе – пиками они.
Всюду
сказки, если присмотреться,
золотые
сказки снятся мне.
Это
было в книжке, было в детстве,
было
в повторяющемся сне.
*
* *
Я
песню еще не сложил,
Есть
только предчувствие песни,
Но
песенный вихрь закружил,
Он
дышит, еще бессловесный.
Тревожную
эту волну
Во
что воплотиться заставишь?
Затронешь
случайно струну,
Надавишь
отзывчивый клавиш...
Хочу,
чтоб хотела и ты
Красивую
песню, простую,
Красивую
до простоты,
Простую
до счастья...
А
нет –
Никакую.
*
* *
Мир
в весеннюю ночь одет,
Звезды
сошлись у крыльца...
Выключают
любовники свет,
Потому
что горят сердца...
*
* *
Пиит
печаль изливал без причин,
ненароком
в вечерний час
свои
стихи уронил в камин –
в
камине огонь погас...
апрель 1952
В ОБЩЕЖИТИИ
Федя
потрясает сигаретой:
–
Маяковский не был за семью! –
И
читает строки из «Про это»
Дискантом,
подобно соловью.
Там
и спор, где больше двух студентов.
Микаэль
погорячиться рад,
Перлами
кавказского акцента
Украшая
данные цитат.
Голоса
возвысились, окрепли.
Миша
тоже вытерпеть на смог
И
удачно вставил пару реплик,
Без
отрыва штопая носок.
Спор
менял аспекты и проблемы,
Оппонентов
личности копнул
И,
задев лирические темы,
На
международные свернул.
Но,
включив «тарелку» до отказа,
Федя
вдруг застыл, заворожен,
И
раскат шаляпинского баса
По
сердцам взволнованным прошел.
Стали
мы похожи на портреты:
Я
у Микаэля за спиной,
Федя
с неподвижной сигаретой,
Миша
с неподвижною иглой.
Мне
видна еще одна картина,
Комната
знакомая видна:
Прядь
волос со лба легко откинув,
Слушает
Шаляпина она.
И
сидит, учебники не тронув,
Позабыв
раскрытую тетрадь.
Видно,
многодумному Ньютону
В
этот раз придется обождать.
Может,
мыслью унеслась куда-то,
А,
быть может, в комнату мою, –
Чувствует,
что я у аппарата,
Музыкой
охваченный, стою...
Вечные
студенческие споры
Девушке,
конечно, не слышны,
Эти
наши споры, о которых
Думает,
что дьявольски умны.
С
музыкой она и там, и где-то,
И
вот здесь, где я, мои друзья...
Кстати,
в понимании поэта
Так,
наверно, мыслилась семья.
«Э-эй,
ухнем...» – Голос тихо тонет.
За
окном безветренная мгла...
И
на сердце теплою ладонью
Нежность
несказанная легла.
Это
неожиданно и странно,
Вроде
размягченности смешной.
Потому
сказал я, что мембрана
Звук
передавала с хрипотой,,.
ноябрь 1951
*
* *
Пусто
в душе опять,
пусто
и нечем восполнить,
вечером
нечего вспомнить,
утром
нечего ждать.
Хожу,
ем, сплю,
годы
проходят мимо.
Я,
тобой не любимый,
тебя
не люблю.
Не
холоден, не горяч,
я
не коплю и не трачу,
над
неудачей не плачу
и
не ценю удач.
Воспоминаний
нет,
утром
надежда не брезжит...
Я
все чаще небрежен,
все
реже – поэт.
От
стада не отстаю
и
не обгоняю стада.
Слишком
многого надо,
слишком
мало даю.
Чаще
всего молчу,
чтоб
не сказаться ложно.
То,
что хочу – невозможно,
то,
что могу – не хочу.
28 сентября 1953
ДРУГУ
Не
нахожу причин скрывать я
и
говорю об этом напрямик:
мы
душу тоже одеваем в платья,
ботинки,
шляпу, модный воротник.
Быть
может, это надо –
не
перечу,
но
суть не вся во внешней красоте.
Никто
другому не пойдет навстречу
во
всей своей душевной наготе...
Но
если ты мне друг,
пойми,
послушай –
на
кой нам черт
надушенные
души?
Пойми,
что в дружбе
нам,
как в бане, надо
идти
под душ,
снимая
с душ
наряды.
Сорви
свой галстук,
прочь
рубашку –
как
говорится, душу нараспашку!
Я
тоже всё перед тобою скину,
чтоб
мы могли друг другу
вымыть
спину!
1949
ЗАВЕЩАНИЕ
Это
будет поздно или рано,
И
в каком бы ни было краю,
Только
мать оплачет смерть мою
Или
поколения и страны,
Вам
наказ единственный даю:
Вскройте
череп, выньте мозг мой странный,
Грудь
разрежьте – из открытой раны
Выньте
сердце, сдавшее в бою.
Безымянным,
скрытым от молвы,
Схороните
мозг мой в середине
Самой
шумной площади Москвы,
Ну
а сердце... лучше о рябине
Спойте
песню... Только о причине
Ничего
не спрашивайте вы.
1951
Поэзия
шестидесятников. Татьяна Кузовлева
__________________________________________________________________
Татьяна
Кузовлева
Татьяна
Кузовлева – известная поэтесса, родилась 11 ноября 1939 года в Москве. Окончила
Высшие литературные курсы в 1971 году. Автор около двадцати книг стихов –
«Волга» (1964), «Степная птица» (1977), «Тень яблони» (1979), «Избранное»
(1985), «Дальний перелёт» (2005), «Между небом и небом» (2008) и т. д. Член СП
СССР с 1966 года. Член СП Москвы. Лауреат премии «Венец» Союза писателей
Москвы. Лауреат премии им. А. Ахматовой (от журнала «Юность» 2008 года).
ЧАС
ЖАВОРОНКА
Слишком краток
жаворонка час...
ПОБЕДИТЕЛЬ
Куст
опавший да мох порыжелый,
Тихий
дождь да запущенный сад…
Милый
мой, как тебе надоело
Всё,
во что упирается взгляд,
Что
давно уж не связано с риском –
Взят
рубеж и азарт позабыт.
Эта
женщина с профилем римским
Так
надёжно уладила быт.
Дом
твой стал наподобие грота:
Ни
прибоя, ни ветра, ни бурь.
Гости,
стрижка газона, охота –
Развлекай,
подстригай, каламбурь.
Благоденствуй.
И
тешь себя мыслью,
Что
еще не окончен сеанс,
Что
еще поднебесною высью
Не
один будет дан тебе шанс...
А
пока что и сумерки млечны,
И
длиннее заспинная тень.
…Неужели
уходит навечно
То,
что отодвигаю на день?
КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
Красивая,
с тёмной волною волос,
С
точёной, породистой статью…
И
ветер за нею летит меж берез,
И
солнце гуляет по платью.
Отвага
и нежность, смиренье и страсть,
Казалось,
лишь только взгляну я,
Откроются
в ней. Но случайности власть
Свела
нас однажды вплотную.
И
новым открытьям явился черед
(Ах,
лучше бы, право, не надо!):
Как
мелок и скуп ее маленький рот
С
застывшею капелькой яда.
И
взглядом почувствовав взгляды мои,
Качнулась,
и я задрожала, –
Её
голова, как головка змеи,
Готовая
выпустить жало.
И
вдруг загорелась под нею трава,
И
платье её почернело,
И
птица пред нею упала, мертва,
А
только что весело пела.
И
вдруг проступили, как в толще стекла,
У
женщины той за спиною
Все
те, кого в жизни она предала,
Кто
стал ее вечной виною:
И
те, кто надолго запомнили зло,
И
те, в ком обида уснула…
И
чтобы не множить собой их число,
Я
в сторону молча шагнула.
ОСИНОЕ
ГНЕЗДО
В
земле, под вишнею, в тени
Себе
гнездо прорыли осы.
И
вот из-под земли они
Взлетают
тяжело и косо.
Со
взятком даровым назад
Планируют,
скользя неслышно.
И
вот уже не выйти в сад,
Не
задержаться возле вишни.
Мы
объявили им войну,
Вселившимся в наш сад без спросу.
Но
вновь, покинув глубину,
Взлетают
над землёю осы.
И
поняла я: тщись – не тщись,
Борьба
окажется бесплодной:
У
всех своя и смерть, и жизнь,
И
в этом мы единородны.
И
потому во все часы,
Во
все столетья, повсеместно –
Соседство
вишни и осы,
Змеи
и яблока соседство.
*
* *
Моим
окном стал сад осенний,
С
его редеющей листвой,
С печальной сменой настроений,
С дождем, спешащим на постой.
Ещё
и зори не морозны,
И
не видать дымов витых,
Но
светят будущие вёсны
В
прожилках листьев золотых.
И
у старух в глаза слезливых,
Как
за белёсою канвой,
Глаза
их правнуков счастливых
Отсвечивают
синевой.
*
* *
Твори
добро – нет большей радости,
Не думай о себе, спеши –
Не
ради славы или празднества,
А
по велению души.
Когда
кипишь, бедой униженный,
Ты
от бессилья и стыда,
Не
позволяй душе обиженной
Сиюминутного
суда.
Постой.
Остынь. Поверь – действительно
Всё встанет на свои места.
Ты
сильный. Сильные не мстительны.
Оружье
сильных – доброта.
*
* *
Сквозь
лета,
Сквозь
бесчисленные зимы
Пути
ложатся, неисповедимы.
Полувопрос.
Кивок. Полуответ.
На
дне души ещё незыблем свет.
Полуулыбка.
Первый разговор.
Вопрос.
Ответ.
И
первый взгляд в упор.
–
Я не чужая! Ты мне не чужой!
–
Мы – поле, разделенное межой…
–
Мы – крик, оборванный на гласном звуке...
–
Мы – в никуда протянутые руки…
ЕЩЁ!..
Обтекаемы
жаркой толпою,
Где
любой к суете приобщен,
На
перроне целуются двое,
И
она повторяет: – Ещё!
Пробегают
носильщики мимо,
Лязг
тележек средь гущи людской,
И
сливаются нерасторжимо
Женский
профиль и профиль мужской.
И в вагонном
окошке в обнимку,
Знаю
я, до скончания лет
Сохранится
невидимым снимком
Этот
сдвоенный их силуэт.
Над
снегами взлетит, над травою,
Будет
втиснут в озёрную гладь.
На
перроне
Целуются
двое –
И
ничто их не может разъять.
И
пространство гася вихревое,
Поезд
будет дышать горячо
Не
огнями – любовью живою,
Той,
где незаглушимо:
–
Еще!
*
* *
Говорят,
что в Тихой бухте
Очень
тихая вода.
Там
не думает о бунте,
Дескать,
море никогда.
Но
я знаю: все обиды
Загоняющие
в глушь,
Так
обманчивы глубины
Тихих
бухт и тихих душ.
*
* *
Есть
лица особого рода:
Средь
долгих скитаний земных,
Что
в душах скопилось за годы,
Как
в зеркале, видится в них.
А
с вашим лицом – неувязка.
Смотрю,
удивленьем дыша:
Какая красивая маска
И
как пустоцветна душа!
И
странно: я снова и снова,
Как
будто чего-то стыдясь,
Как
на безнадёжно больного,
Смотрю
виновато на вас.
ЕЛАБУГА
Труба
поход трубила звонко,
Вершились
ратные дела.
Европа
Русской
амазонкой
Надежду Дурову звала.
Она
не думала о риске
В
пороховом движенье дней,
И
Пушкин чтил ее «Записки»
И уважал характер в ней.
Но
ей в конце пути досталась
Елабуга.
Нужда
и старость.
Спустя
чуть больше, чем полвека,
Елабуга
досталась той,
Чьих
строк трагическое эхо
Казнит
нас вечною виной..
И вторит той вине земля:
Елабуга.
Война. Петля.
В
те одиночества, в те ночи,
Что
женщинам достались двум,
Протягиваю
руки молча,
А
слышу только ветра шум.
Но
я и ветра не отрину,
Но,
опустив ладонь со лба,
«Надежда»
напишу.
«Марина».
Помыслив:
Родина.
Судьба.
НОЧНОЙ
ГИТАРИСТ
Сверлил
ночную темень без умолку
Цикад
бессонных монотонный свист.
На
набережной южного посёлка
Пел
на скамье негромко гитарист.
В
ту ночь его союзниками были
Бегущая
вдоль берега волна,
Морская
тропка цвета звёздной пыли
И
розовая крымская луна.
И
гитарист подозревал едва ли,
Что не ему принадлежит успех,
Что
несказанность светлая печали –
Она
сейчас разделена на всех,
Как
шорох этих волн, как листьев лепет,
Как
в тьме веков, смущением горя, –
Языческий
перед прекрасным трепет
И
песенная жажда дикаря.
*
* *
–
Ты меня береги!
–
Я тебя берегу:
Я
костёр развожу на другом берегу,
Чтобы
видел ты, к дому бредя поутру,
Как
горит ожиданье моё на ветру.
–
Ты меня береги!
–
Я тебя берегу:
В
самом главном тебе я вовек не солгу.
Ну
а там, где ты сам мимо правды пройдешь.
Я тебе во спасенье придумаю ложь.
–
Ты меня береги!
–
Я тебя берегу:
–
За тобою незримою тенью бегу,
Обгоняя
тебя на дороге тогда,
Когда
вижу я, встречно несётся беда.
Я
тебя берегу,
Я
тебя исцелю,
Я
на шее твоей свои руки сцеплю.
Удержу,
закружу, заключу тебя в круг,
Только
что же ты рвёшься
Из
сомкнутых рук
И
бросаешь мне через плечо, на бегу:
–
Ты меня береги!
Я
тебя берегу…
*
* *
Ты
был вчера очень красивым,
К
тебе удивительно шли
Разбойного
ветра порывы
И
шорохи сонной земли,
И
белого дерева тело, к которому льнула ладонь.
И
так на тебя я смотрела,
Как
можно смотреть на огонь:
Он
рвался, как рыба из сети,
Он
весел был и одинок.
Я
видела то, что на свете
Увидеть
никто бы не смог:
Луна
колдовского помаза
Над
нами скрестила лучи.
Мы
были открыты для сглаза
В
таинственной этой ночи.
Я
видела: годы, как своды,
Раздвинув
легко над тобой,
Гуляла
ночная свобода,
Твоей
верховодя судьбой.
Такие
сулила пропажи,
Что
я отступила впотьмах…
Я
ты не почувствовал даже
Опасности
вкус на губах.
*
* *
Мне
лишь потери видятся во сне:
Высокий
дом. Чугунные ворота.
И
я в каком-то черно-белом дне
Вслед
за тобой бегу до поворота.
Зову
– как будто в вечность шлю письмо.
В
нём выстраданы даже запятые.
Где
дышит одиночество само –
Там
грешницы на равных и святые.
Кто
знает, где граничат явь и сон
И
как пространства между ними ткутся?
Уходишь
ты –
И
за тобой вдогон
Бегу
– и страшно, не догнав, проснуться.
*
* *
Имя
этой короткой дороги – беда.
Что
же, значит, с бедою.
Так
летят по одной колее поезда
Через
поле ночное.
И
не знают они, мимолётно, во мгле
Озаряя
округу,
Что
дано им лететь по одной колее,
Но
– навстречу друг другу.
Кто
из них на одной оказался пути
В
мире тысячелетнем?
С
этих рельсов теперь им лишь вместе сойти
В
единенье последнем.
…Мне
не знать, где мои оборвутся следы
Частотой
многоточья.
Но
предчувствие встречно летящей беды
Оглушительно
ночью.
Так
слепит, что глаза не могу я сомкнуть
В
этом яростном гуле.
И
не посторониться мне, не обмануть
Поезд,
сердце, судьбу ли…
*
* *
Не
те пути, что перепутья множа,
В
тупик спешили завести меня;
Не
те, что в дальней юности тревожа,
Вперёд
летели, вечностью дразня;
Не
та тропа, что стрелкою прямою
Скорее
походила на межу;
Да
и не та, которую ещё я
В
оставшиеся годы проложу, –
А
та,
Что
притаилась за спиною,
Та
путанная узкая тропа,
Которой
шла, которая за мною
Спрямлялась,
– та и есть моя судьба.
*
* *
И
снова случай и судьба
Сошлись,
как внове.
И
вновь закушена губа
Моя
до крови.
То,
что боялась я назвать,
Звалось
любовью.
Так
случай рвался диктовать
Судьбе
условья.
И
может, я б пошла за ним,
К
его святыням.
Но
все глаза мне выел дым
Туманом
синим.
Ориентиров
не найти.
И
тот же случай
Собой
загородил пути:
«Себя
не мучай!».
Вернулась
я туда, где стынь,
Поскольку
знаю:
Куда
мне от своих святынь,
Пока
жива я.
Но
надо мной всё та же тень,
Где
в схватке жгучей
Одну отбрасывают тень
Судьба
и случай.
*
* *
Какой
бы жребий мне ни выпал,
Какой
бы крест мне ни нести,
Но
каждый шаг мой – это выбор
Судьбы.
Позиции. Пути.
И
потому на грозной сшибке
Времён,
обиды не тая,
Плачу
сама за все ошибки,
К
которым не причастна я.
Поэзия.
Александр Тимофеевский
__________________________________________________________________
Александр
Тимофеевский
Александр
Тимофеевский – известный поэт, родился в Москве 13 ноября 1933 года. Окончил
сценарный факультет ВГИКа. Печатался в журналах «Юность», «Новый мир»,
«Стрелец», «Континент», «Кольцо А», «Наша улица» и т.д. Автор многих песен, в
том числе популярной песенки Крокодила Гены. Член Союза писателей Москвы.
«Шестидесятник, опоздавший (когда-то) к разбору лавровых венков», издавший свою
первую книгу «Песня скорбных душой» в 65 лет (М., «Книжный сад», 1998), а
теперь уже издавший много книг – «Опоздавший стрелок», «Сто восьмистиший и
наивный Гамлет», «Пусть бегут неуклюжи», «Размышления на берегу моря» - и
увенчанный уже не одним лавровым венком, лауреат премии «Венец». В последнее
время работает с композитором Алексеем Карелиным, написал с ним много новых
песен.
МОРЕ
Посвящается Наташе и
Нюсе
О,
море,
Ты
живая
Огромнейшая
капля,
Молекула
воды, гигантская такая виноградина
Из
сада великанов,
Упавшая
на землю.
А,
может, синяя до черноты,
С
туманной дымкой слива.
Маслина!
–
И
по ней гуляют корабли.
Какая
лень во всей вселенной.
От
солнца моря синь рябая,
И
голубая аура у моря.
–
Какая лень во всей вселенной, –
Мне
говорит волна любая:
«Проснись,
и я тебя умою
Пеной».
Ты
возникла у причала
В
синей тени валуна.
Будто
впрямь тебя примчала
На
хребте своем волна.
И
покуда от прибоя
Изгибались
берега,
Ты
казалось голубою
Танцовщицею
Дега.
Я
плаваю там, где стая наяд
Мне
шепчет ласково: «Сашка...»
А
вовсе не там, где бараны стоят,
Пытаясь
боднуть барашка,
Где
в пенную кипень спадает волна,
Чтоб
в ней умереть навеки,
Где
разносчик кричит, как ишак:
«Горя-а-а-чие
чебуреки!»
Туда,
где берега излучина,
Где
стерлась горизонта линия,
Где
море с небом не разлучены,
А
лишь одно сплошное синее.
Там
Крыма полоса долинная
Раскинулась
до скал базальтовых,
Там
степь пахучая, полынная
Вся
из звенящих звуков альтовых.
Волна,
которой делать нефига,
С
утра с прибрежным камнем лижется,
И
девочка взнуздала серфинга,
Но
кажется, что он не движется.
Открылось
море в синем блеске.
Над
ним трепещет воздух душный.
Трещит,
натянутый на леске,
И
ищет ветра змей воздушный.
От
восхищения дуреем.
Нас
соблазняет моря выем.
Играет
девочка со змеем.
Играет
женщина со змием.
Девчонка,
ощутив свободу,
На
крыльях улетает в небо,
И
женщина вступает в воду,
Как
прародительница Ева.
Играет
женщина со змием,
Играет
девочка со змеем.
Россия!..
Господи, прости им...
Приобретать
мы не умеем.
Мы
все теряем, все теряем.
Все
потерявши, в землю ляжем...
А
то, что нам казалось раем,
Вдруг
оказалось грязным пляжем.
Я
умру и стану морем,
Ну
а ты – повремени
И
живи себе без горя
Годы
долгие и дни.
Я
ж, охвачен нежной целью,
Став
стихией голубой,
У
Армянского ущелья
Буду
встречи ждать с тобой.
Слышишь
моря рокотанье,
Волн
гремящую гряду –
Это
ропот ожиданья,
Это
я тебя так жду!
Вот
ты входишь постепенно
В
мой ликующий прибой,
Чтоб
омыл я страстью пенной
Ножку
с узкою стопой.
Чтоб
волной тебя взмывало
Вверх
и вниз и вновь на круть,
Чтоб
как прежде, как бывало –
Руки
в руки, грудь на грудь.
Чтобы
я ласкал прилежно
Губ
родные уголки,
И,
покусывая нежно,
Целовал
твои соски.
А
уставши, со свиданья
Ты
когда пойдешь домой,
Снова
рокот ожиданья
Будет
слышен за тобой.
2000
ЧТО
Я ЛЮБИЛ НА СВЕТЕ
Что
я любил на свете –
Окошко
распахнуть,
Смотреть
в ночи, как светел
Над
миром Млечный путь.
По
хвойному по насту
Без
цели напролом
Брести
сквозь ельник частый
Под
ситничным дождем.
Любил
осенней ночью,
Захоронясь
в стогу,
Природы
многоточье –
Кукушкино
ку-ку.
Промерзшую
рябину
Любил
размять в руке,
Любил
по серпантину
Кружить
в грузовике.
Орать,
стихи горланя,
И
не держась за борт,
Парить
себе с орлами –
И
никаких забот.
Чтобы
хлестали ветки
Меня
на вираже,
Чтоб
запах моря едкий
Я
чувствовал уже.
И
значит, недалеко...
И
выглянет сейчас
С
туманной поволокой
Его
огромный глаз.
Два
неба –
одно
раскинулось шатром,
а
это сморщилось, как парашютный шелк
и
в складках легло на землю.
Море
черное разбухло,
я
тебя развеселю –
мы
сперва ползем, как мухи
по
густому киселю.
Но
отбрасывая немочь, –
глянь,
– я режу гладь спиной,
льну
к ней, льну и на волне кач-
анья
становлюсь волной.
Вот
девушка, какую я искал, –
такая
милая простушка –
и
как лягушка
прыгает
со скал.
Вот
влезла на скалу,
вот
чешет глаз,
вот
почесала нос и ухо.
Ну,
прыгай, – я молю, –
еще
хоть раз,
еще
хоть раз,
прекрасная
лягуха.
Вокруг
простирается море,
родное
для нас существо,
мы
вышли из моря и с мола,
снаружи,
глядим на него.
Из
мира предательств и сплетен,
случайной
любви наугад,
как
рыбки, попавшие в сети,
глядим
мы печально назад.
Быть
может, в том мреющем где-то,
где
нету вражды и тоски,
вне
времени звука и цвета
мы
были с тобою близки.
80-90
е
ПРОЩАНЬЕ
С МОРЕМ
Т. В. К.
Оно
всегда являлось вдруг,
Когда
его почти не ждали –
Огромный
синий полукруг
И
с небом слившиеся дали.
Соединенная
без шва,
Переливалась
и сияла
Небес
и моря синева,
И
это сердце потрясало.
И
я по серпантину вниз
Все
ускоряю бег летящий,
Но
вдруг открывшийся сюрприз
Внезапно
исчезал за чащей.
Исчезнет
и опять мелькнет
Всего
на миг полоской тонкой.
А
если вовсе не придет,
Как
на свидание девчонка?
Стоять
у моря под окном,
Страдать
и изнывать часами,
Кому-то
там кричать: мокнем!
Куда-то
плыть под парусами.
Не
будет этого. Конец.
Все.
Я выбрасываю ласты.
До
возвращения колец!
Приходит
час разлуки. Баста.
Прощай,
зеленая волна!
Ах,
море, море, ты ли, ты ли...
Прочти
записочку. Она
Тебе
отправлена в бутыли.
Прочти
записочку, прочти,
Ведь
ты такое голубое.
Прощанье
с морем, что почти
Прощание
с самим собою.
В
разрезе море, как змея –
Извилистые
волн барашки,
Где
каждый гребень это я
И
волны дней ушедших Сашки.
Я
в прошлом, позапрошлом дне
И
это все мои фантомы,
Бегущие
в морской волне
Изгибы
голубого тона.
Фантомы,
шелуха, лузга,
Уже
не я, а пена, накипь.
Накатятся
на берега,
Потом
уйдут в песок и... на фиг!
2007
Поэзия
шестидесятников. Тамара Жирмунская
_______________________________________________________
Тамара
Жирмунская
Тамара
Жирмунская – известная поэтесса, племянница академика В. Жирмунского, родилась
22 марта 1936 года в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького
(семинаре Е. Долматовского). Печаталась в журналах «Новый мир», «Континент», в
альманахах «Истоки», «До и после», «Кольцо А», «Коростель», «Родная речь»,
«Юрьев день» и т. д. Автор книг «Район моей любви» (1962), «Забота» (1968),
«Грибное место» (1974), «Библия и русская поэзия» (1999), «Короткая пробежка»
(2001), «Км ищет Божества» (2006), «Я – сын эфира, Человек...» (2009) и т. д.
Член СП СССР с 1963 года. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии «Венец»
Союза писателей Москвы. С 1999 года живёт в Германии, в Мюнхене.
Стихи
из Мюнхена
НАБРОСОК С НАТУРЫ
Река
течет и там, где не должна бы течь,
сквозит, струясь, в переплетеньях веток.
Путь в гору, как возвышенная речь,
путь под гору – два слова напоследок.
Люблю, люблю жар четырех крестов,
белянку-церковь в старорусском стиле,
на ржавой двери маленький засов,
чтоб воры хоть на миг повременили.
Люблю, люблю пионов чахлый куст,
растущий месяц с колокольней вровень
и всю Тарусу, без которой пуст
ваш Мюнхен, полный всяческих диковин.
***
Эмиграция – такая суета,
в суете проносишь ложку мимо рта,
не упомнишь ни дворцов, ни базилик,
как насмешка над родным, чужой язык.
Эмиграция идейною была,
била в «Колокол», во все колокола.
Эмигрантом был и сам великий Дант.
Измельчал наш престарелый эмигрант.
Так устал от груза пройденных дорог,
изболелся, исстрадался, изнемог,
что решился: «Закругляться буду тут,
где дожить по-человечески дадут».
Интересно, посещал ли грозный Дант
многошумный, как базар, социаламт,
получал ли кучку фунтов Искандер*,
будто вышедший в тираж пенсионер?
Наш везде поспеет... Зная, что почем,
растолкнет сородичей плечом,
сэкономит, чтоб не только есть и пить,
но на мир взглянуть и книжицу купить.
«Тамиздаты» прогремели и прошли.
Кто теперь тут единицы, кто нули?
Человек нигде не может быть нулём,
ибо Божий дух струится в нем.
Эмиграция,
конечно, суета,
но открылись проржавевшие врата,
и в чужое небо впаян, как бриллиант,
битый жизнью, но живучий эмигрант.
___________
* Литературный псевдоним А.И.Герцена.
НЮРНБЕРГ. 1999.
«Не НюренбЕрг, – поправляют, – НЮрнберг!»
Тут не хватает лишь лингафона.
Среди российских штанов и юбок
мелькнет немецкая униформа.
А может, это глаза ребенка,
что к взрослым жался в недетском страхе,
германцев видят так однобоко,
из красок мира запомнив: хаки!
В казарме тихо. Я не сказала,
что, как кормушка в железных прутьях,
за изгородкой видна казарма
в двух корпусах под названьем «Грюндик».
Символ дерзанья и досяганья.
Техникой бредили и арийцы.
Тьфу, инородцы кишат под ногами.
Нужно «ненужными»* распорядиться:
«Айн, цвай...»
Но те, кто, устав от торга,
жиды – хорошо это или худо,
сюда приехал, не будут строго
думать, куда, а скорей – откуда.
Нары... Белье, хоть и обветшало,
видно: стирали его на совесть,
не пожалев порошка и крахмала,
к встрече законных гостей готовясь.
Перед осмотром чтобы помылись,
крупными буквами объявленье...
Неблагодарные тут же смылись,
а благодарные в умиленье:
«Хорошее дело затеяли боши.
Да, были допущены перегибы.
Кадили зверю... А мы-то, Боже?..
Но протрезвели... А мы могли бы?
И почему молодым, умелым
надо внушать, что они виноваты,
раз не причастны они ни к расстрелам,
ни к этим газовым аппаратам?»
Но «Нюренбергский процесс» - не просто
фильм, что когда-то снял Стэнли Крамер, –
он, как невидимая короста,
кожу кровавыми рвет клоками.
Все еще тянется век насилья.
Перелистнуть бы эту страницу!
Те, что приехали, не забыли.
Тем, что встречают их, не забыться...
__________
*Notige
juden – евреи, могущие быть полезными для третьего рейха. Unnotige – ненужные.
ПАРК НИМФЕНБУРГ ЗИМОЙ
И боги, и богини, и герои
упрятаны от стужи в короба,
щитами крыты, как стволы корою,
заключены в стоячие гроба.
Обманутым январской стрижкой веткам
не зацвести, и ты их не тревожь.
Как из седых волос, ушла с пигментом
вся их упругость, лепота и мощь.
Не бьют фонтаны, не пылают розы,
изрыл газоны кропотливый крот,
земля черна и даже не промерзла,
что так привычно для иных широт.
Удобно быть одной из иностранок:
идешь и говоришь сама с собой...
Белеет снег салфетками на ранах,
зимою нанесенных, как судьбой.
***
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем – и бог с тобой!
О.
Мандельштам
Иисус, но не Христос, а НАвин,
который к солнцу «Стой!» воззвал.
С ним, дерзким, Гавриил Державин
себя недаром рифмовал.
Не жёны, чьей красе семитской
красы небесной отблеск дан,
омытые и древней миквой,
и погруженьем в Иордан,
а их праматери... Не тесно
в шатре, где лишь она и он,
разверсты нежные ложесна,
чтоб множить семя сих племен...
О иудеи! Вас не может
никто спокойно перенесть.
Вас будут гнать, корить, корежить,
петь дифирамбы в вашу честь.
Отец на два тысячелетья
отпустит вас, но у ворот
всё будет ждать: «Я с вами, дети!»
и снова дома соберет.
Здесь Дух Святой... О нём радея,
опять ковчег воздвигнет Ной,
я полюбила иудея,
и гибну в нем – и Бог со мной.
***
Потомки тех, которые
Екатериной званы,
подставлены историей,
зализывают раны.
Алтайские и омские,
такие и сякие,
с каталками-котомками
тикают из России.
Трудились, что-то нажили,
дивясь сибирской шири,
но на вопрос «Вы наши ли?»
ответили: «Чужие!»
И вот бросают кухоньки,
а с ними и коттеджи,
где сладко пахнет кухоном,
да попраны надежды,
где память об изгнании
с чужбины на чужбину,
как знания сакральные,
дарила немка сыну...
Недавний житель Мюнхена,
одна из многих «гоим»,
я кухона не нюхала
и не слыла изгоем,
но были озабочены
глаза судей суровых:
в анкете червоточина,
она из полукровок.
На солнце дети нежатся.
Общага как общага.
У контингентных беженцев
туз козырной – бумага,
что хоть один из троицы,
благословив природу,
принадлежит по совести
к еврейскому народу.
Социаламт, полиция
и Арбайтсамт впридачу,
как будто взят с поличным – и...
и клянчишь передачу...
Отцы общины, брезгуя:
«Платить? С какой же стати?
Не юдиш – смесь вселенская».
Но платят всем: «Врастайте!»
Врастем прочнее прочного,
прибиты сытной пищей,
и вдруг, как отзвук прошлого:
не коренной ты – пришлый.
Ну ладно, мы-то пожили
на черно-белом свете.
Хозяева хорошие,
ребятушек не метьте...
ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ. 9.11.19З8.
Бить, сокрушая, зеркала,
бить стекла – окна и витрины...
Толпа, зверея, прокляла
иуд – они одни повинны
в том, что нищает бедный люд,
жиреют толстосумы. Немцы
на горбоносых спину гнут.
Всем заправляют иноверцы.
Еврейские гешефты – вдрызг!
Звезду Давида – за решетку!
Я слышу окаянный визг,
как прокаженные – трещотку.
Бить все, что отражает свет,
вбивать осколки в мрак и сырость...
Темнее ночи в мире нет,
навеки солнце закатилось.
Одумайтесь! Сквозь блестки слез
в соборах и Пинакотеке
на вас глядит еврей Христос...
«То Бог, а это – человеки».
Для лжехристиан не сыщешь злей
врагов, чем те, в чьем доме Тора.
Благословенный город сей
Был
как Содом и как Гоморра...
Господь народ свой отстоял,
хоть многие ушли до срока...
Один таинственный кристалл
во тьме светился одиноко.
Не вечен мрак, не вечен страх,
вот-вот, пока еще не поздно,
к ногам подросшей Анны Франк
он упадет и вспыхнет звездно.
ХВАЛЕБНАЯ ОДА
Есть мания величия,
есть мания преследования...
Все отговорки лишние,
к чему пустые сетования?
Германия-гурмания* -
есть и такая мания.
Из Шри-ЛанкИ и Косова,
из Киева и Витебска
толпа разноголосая:
– Даешь нам вид на жительство! –
раз правильно оформлены,
вы будете накормлены.
Не то чтоб всем по ложище –
кому-то и по ложечке,
не то слизнут чудовища
со всех пирожных розочки.
Расчетлива Германия
и тем она гуманнее.
Окорока – пионами,
а розы – сливки взбитые...
Все кажутся влюбленными,
лишь потому, что сытые.
Поверишь, вкусно кушая,
в хозяйское радушие.
С немецкою балладою
сравнимы кексы-пончики.
А с лагерной баландою
здесь навсегда покончено.
В Дахау и освенцимы
вбит кол (беседа с немцами).
Как не хвалить Германию
с халявными обедами?
Про случай с кашей манною
нам братья Гримм поведали.
Кто знал, что доиграемся:
той каши нахлебаемся?
Пока ее я славила,
Германия-кормилица
цветных под душ поставила,
велела дольше мылиться,
дала приют отверженным,
а всяким необрезанным
из племени Давидова
бессрочный паспорт выдала.
____________
* Выражение принадлежит поэтессе Нине Красновой
Поэзия
шестидесятников. Евгений Евтушенко
___________________________________________________________________________
Евгений
Евтушенко
Евгений
Евтушенко родился 18 июля 1933 года на станции Зима Иркутской области. Первые
свои стихи напечатал в газете «Советский Спорт» в 1949 году. Автор более ста
книг стихов и прозы и таких известных песен, как «Хотят ли русские войны»,
«Вальс о вальсе», «Не спеши», «Чертово колесо», «Ах, кавалеров мне вполне
хватает» и др. Поставил два фильма – «Детский сад» и «Похороны Сталина», как
режиссер. Побывал с поэтическими выступлениями во всех регионах бывшего
Советского Союза, в 94 странах мира. Его произведения переведены на 72 языка.
На его стихи созданы два произведения Д.
Шостаковича – 13-я симфония и оратория «Казнь Степана Разина», в 2007 году
поставлена рок-опера «Идут белые снеги».
Лауреат
Государственной премии СССР. Награжден многими отечественными и иностранными
орденами. Почетный доктор многих российских и иностранных университетов. Член
Американской и Европейской академии искусств и литературы. Преподает в
университете города Талса, штат Оклахома, русскую поэзию и кино. Составил
антологию «Строфы века», работает над антологией «Десять веков русской поэзии».
Назван в Интернете и в прессе «самым известным поэтом во всем мире».
Стихи
из новой книги «Моя футболиада» (Полтава, ООО «АСМИ», 2009)
ЛЕВ
ЯШИН
Вот
революция в футболе:
вратарь
выходит из ворот
и
в этой новой странной роли,
как
нападающий, идет.
Стиль
Яшина – мятеж таланта,
когда
под изумленный гул,
с
гранитной грацией гиганта
штрафную
он перешагнул.
Захватывала
эта смелость,
когда
в длину и в ширину
временщики
хотели сделать
штрафной
площадкой –
всю
страну.
Страну
покрыла паутина
запретных
линий меловых,
чтоб
мы,
кудахтая
курино,
не
смели прыгнуть через них.
внушала,
к
смелости ревнуя,
ложноболельщицкая
спесь:
вратарь,
не
суйся за штрафную!
поэт,
в
политику не лезть!
Ах,
Лев Иваныч,
Лев
Иваныч,
но
ведь и любят нас за то,
что
мы
куда
не след совались
и
делали незнамо что.
Ведь
и в безвременное время
всех
грязных игр договорных
не
вывелось в России племя
пересекателей
штрафных!
Купель
безвременья –
трясина.
Но
это подвиг,
а
не грех
прожить
и честно,
и
красиво
среди
ворюг
и
неумех.
О
радость –
вытянуть
из схватки,
бросаясь,
будто в полынью,
мяч,
обжигающий
перчатки, –
как
шаровую молнию!
Ах,
Лев Иваныч,
Лев
Иваныч,
а
вдруг,
задев
седой вихор,
мяч,
и
заманчив, и обманчив,
перелетит
через забор?
Как
друг ваш старый,
друг
ваш битый,
прижмется
мяч к щеке небритой,
шепнет,
что
жили Вы не зря!
И
у мячей бывают слезы.
На
штангах расцветают розы
лишь
для такого вратаря!
9
августа 1989 г.
ЭДУАРД
СТРЕЛЬЦОВ
Ходивший
на Боброва с батею,
один
из дезких огольцов
послебобровскую
апатию
взорвал
мальчишкою Стрельцов.
Что
слава? Баба-надоедиха.
Была,
как гения печать,
Боброва
этика у Эдика –
на
грубости не отвечать.
Изобретатель
паса пяточного,
Стрельцов
был часто обвинен
в
том, что себя опять выпячивает,
и
в том, что медленен, как слон.
Но
мяч касался заколдованный
божественно
ленивых ног,
и
пробуждался в нем оплеванный
болельщиков
российских бог.
И,
затаив дыханье, нация
глазела,
словно в сладком сне,
какая
прорезалась грация
в
центростремительном слоне.
В
Стрельцове было предзидановское,
но
гас он все невеселей,
затасканный,
перезатасканный
компашкой
спаивателей.
Позор
вам всем, льстецы и спаиватели,
Хотя
вам люб футбол и стих,
вы
знаменитостей присваиватели,
влюбленные
убийцы их.
Я
по мячу с ним стукал в Дрокии –
молдавском
чудном городке,
а
он не ввязывался в драки, и
со
всеми был накоротке.
Большой
и добрый, в чем-то слабенький,
он
счастлив был не до конца.
Тень
жгущей проволоки лагерной
всплывала
изнутри лица.
Но
было нечто в нем бесспорное –
талант
без края и конца.
Его
– и лагерником – в сборную
во
сне включали все сердца.
Его
любили, как Есенина,
и
в нем невидимый футбол
он,
как Есенин, так безвременно
Свое
доигрывать ушел.
2003
ТОРГАШИ
ЧУЖИМИ НОГАМИ
Торгаши
чужими ногами,
сутенеры
различных сортов
и
в Москве, и в Иокагаме
рыщут
с мордами жирных котов.
Торгаши
чужими ногами
разложили
футбол заодно,
так,
что мечется мяч перед нами
хитрым
шариком казино...
Юбилей.
Памяти Владимира Солоухина. К 85-летию со дня рождения
__________________________________________________________
Нина
Краснова
СОЛОУХИНСКИЕ
ЧТЕНИЯ В ОЛЕПИНЕ
14
июня 2009 года, в день Всех Святых, который совпал с днем рождения и с 85-летием
великого русского писателя Владимира Солоухина, его земляк писатель Николай
Лалакин сказал на могиле этого «певца владимирских проселков» в его родном селе
Олепине, после церковной литии, в которой участвовали два священника – о.
Георгий и о. Анатолий:
-
Солоухинские чтения проходят на родине Солоухина 12-й раз. Но это - по
официальному исчислению. А по неофициальному – 13-й раз. Самые первые «чтения»
здесь состоялись в 1997 году, в день похорон Солоухина, 4 апреля 1997 года.
Тогда здесь было немного народу, не то, что теперь. Были писатели из Москвы...
Владимир Крупин, Станислав Куняев, Станислав Лесневский, Семен Шуртаков,
Владимир Бондаренко, Владимир Дагуров... И была ученица Солоухина – поэтесса
Нина Краснова...
...Я
еще в свои юные доинститутские годы читала и любила книги Владимира Солоухина,
его стихи в серии «Библиотечка поэзии «Огонька», его прозу «Черные доски»,
«Письма из Русского музея», «Владимирские проселки», «Капля росы»,
«Мать-мачеха»... И когда я оказалась в Москве, я решила показать свои стихи не
кому-то, а ему. И он рекомендовал меня с ними в Литературный институт. А потом
помог мне издать первую книгу стихов «Разбег», в фирменном тогда издательстве
«Советский писатель», а я стала помогать ему печатать на машинке его рукописи,
в том числе и «запрещенные», те, за которые чиновники не только не гладили его
по головке, но и чуть было не исключили из Союза писателей и из членов
партии... И у нас с ним завязалась крепкая дружба, которая продолжалась до
самой его смерти, 25 лет.
Я
считаю Владимира Солоухина не только своим литературным учителем, старшим
другом, но и своим литературным отцом, к тому же он всю жизнь и относился ко
мне как к своей литературной дочке, и я зналась со всей его семьей, и с его
женой Розой Лаврентьевной, и с его дочками Олей и Леной... И всю жизнь я
мечтала увидеть своими глазами село Владимира Солоухина – Олепино, которое
заочно полюбила по его книгам. Но в Олепино я первый раз попала только в день
похорон своего учителя, старшего друга и отца. Приехала на ритуальном автобусе
с группой писателей прямо после отпевания «усопшего Раба» Владимира Солоухина в
Храме Христа Спасителя... Вся во слезах... Я помню, что я тогда читала на его
могиле. Одно из самых ранних стихотворений Владимира Солоухина «Лебедь» (которое
я цитирую здесь целиком по памяти):
Владимир
Солоухин
ЛЕБЕДЬ
Вот
смотрю, а, верно, насмотреться
На
тебя до смерти не сумею.
Меж
подруг своих, красивых тоже,
Ты
– как лебедь в стае диких уток.
Лебедь,
лебедь, если я погибну,
Ты
взлетишь ли в небо, чтоб оттуда
Броситься
на утренние камни?
Прозвенишь
ли песней лебединой?
А
потом я написала стихи «Памяти Владимира Солоухина» и их потом тоже читала в
Олепине на новых «Солоухинских чтениях», на эстрадной дощатой площадке между
его домом и полуразрушенной (законсервированной, но пока не реставрированной)
сельской церковью:
Нина
Краснова
ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА
Жизнь
познав на своем же горбу
И
оставшись в ней индивидом,
Вы
лежали в большом гробу,
С
полудетским обиженным видом.
Не
Христос, сошедший с холста,
Мой
учитель с седыми вихрами,
Вы
лежали в Храме Христа,
К
Вашей смерти построенном Храме.
Жизнь
постигнув горьку и грубу,
Став
маститым столичным поэтом,
Всё
и всех увидав в гробу,
Вы
в Олепино с Богом уехали в «транспорте» этом.
...После
смерти Владимира Солоухина Бог послал ему покровителя в лице молодого
читателя-почитателя, президента Благотворительного фонда «Энциклопедия Серафима
Саровского». Причем покровителем этим оказался земляк Солоухина не с исконно
русскими и славянскими, а с испанскими корнями и с испанской фамилией и
испанским отчеством – Михаил Орландович Мендоса-Блантон... Он и помогает
проводить праздники в честь Владимира Солоухина и выпускать книги о нем и
всячески пропагандировать его творчество.
Живой
Журнал Нины Красновой.
14
июня 2009 г. (Запись 17.06.09)
Юбилей.
Виктору Бокову – 95 лет!
__________________________________________________________________
БОКОВ
– ПОЭТ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
...Давно
стала аксиомой крылатая фраза, которую на каждом спектакле о Владимире Высоцком
в Театре на Таганке философично повторяет режиссёр Юрий Любимов: «Настоящие
поэты в России живут долго... – редко...» Что правда – то правда. Настоящие
поэты в России живут, как правило, недолго. Классические примеры тому – Грибоедов,
Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Блок, Гумилев, Есенин... Были поэты, которые
доживали и до 50 – 60 – 70-ти и даже 80-ти лет... Рюрик Ивнев, который прожил
до 90 лет... Кирилл Ковальджи, который приближается к своему 80-летию... В
старину считалось, что век человеческий – 100 лет. Но редко кто из поэтов
доживает даже и до середины своего века, как редко какая птица Гоголя долетает
до середины Днепра. Виктор Боков – исключение из общего правила. Он –
поэт-долгожитель. Он родился ещё до Великой Октябрьской социалистической
революции, при царе-батюшке, в 1914 году, в деревне Язвицы под Сергиевым
Посадом. Работал на заводе, учился в Литературном институте, отсидел в
сталинском лагере, в Сибири, пять лет, во время войны, пережил там то, чего не
дай Бог никому, болел цингой, возил тачки с камнями, обмораживался на морозе,
но, может быть, Бог, который не уберёг его от сталинского лагеря со всеми
вытекающими последствиями, уберёг его от гибели на фронте и таким образом
сохранил для поэзии. Как говорил Конфуций, ни о чём (что происходит с человеком
и со страной) нельзя сказать однозначно – хорошо это или плохо... Потому что не
бывает худа без добра, как и добра – без худа. Поэзию Бокова ценили Михаил
Пришвин, Борис Пастернак, Андрей Платонов... и другие классики литературы
советского времени... Его оценила певица Людмила Зыкина, которая пела его песни
«На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок». И – оценил
народ, который любит эти и другие его песни, такие, как «Я назову тебя
зоренькой», «Не растёт трава зимою», «Лён мой лён», «Володенька, Володенька»,
«Коля, Коля, Николаша», и менее известные широким массам, но не менее красивые
– «Луговая рань», «Вишенья-орешенья», «Золотая иволга»... Из всех поэтов Боков
– пожалуй, самый продуктивный, самый фонтанирующий и самый вулканирующий поэт.
Он написал около ста томов стихов (издал пока далеко не всё). 19 сентября
Виктору Фёдоровичу Бокову исполняется 95 лет! «Эолова арфа» желает ему дотянуть
до 100 лет, до которых осталось всего-то каких-то пяток годочков, а потом жить
и дальше. И стать долгожителем не только в жизни, но и в русской поэзии, в
русской литературе! Чтобы его стихи и песни пережили его самого!
Вместо
торжественных юбилейных и елейных речей в честь Виктора Бокова «Эолова арфа»
предлагает своим читателям две зарисовки о нём, взятые из Живого Журнала
поэтессы Нины Красновой.
Нина
Краснова
НИНА КРАСНОВА В ГОСТЯХ У БОКОВА В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
Прямо за мостом через речку Сетунь, если свернуть с моста налево и пройти
метров пятьдесят, находится в Переделкине дачка поэта Виктора Федоровича
Бокова, дом-избушка-теремок с обрушившейся изгородой на задах двора и с
крепкими тесовыми зеленокрашеными воротами у главного входа во двор. Я открываю
ворота и иду по асфальтовой тропинке между цветущих кустов жасмина и
старых яблонь прямо к дому этого патриарха поэзии, поднимаюсь на крылечко, где
меня поджидает жена Бокова Алевтина Ивановна, которую он воспел в своих стихах
и песнях, вхожу на веранду, потом в комнату, в зал с фиалками и геранями на
подоконнике. Антонина Ивановна предупредила меня по телефону, что Виктор
Федорович сейчас не очень хорошо чувствует себя и уже не всех помнит по именам
и не всех узнает в лицо: «Тебя-то он узнает...» – успокоила она меня.
«Смотрите, кто пришел! Нина Краснова!» – звонко объявляет она Бокову светлую
весть, как некий светлый вестник.
...Виктор Федорович сидит в зале, на своем законном, привычном для него месте,
за большим обеденным столом с тонкой клеенчатой скатертью, под своими
фотопортретами в рамочках, висящими на дощатой стене, - как под образами, в
большом старинном кресле с высокой спинкой, – как царь Берендей на троне. Лицо
у Бокова сейчас не такое круглощекое, как на этих фотопортретах, а несколько
исхудалое, отчего оно приобрело черты иконности, а глаза, темно-карие, «с
кариночкой», глубокие, мудрые, стали еще темнее, глубже и мудрее.
...Я преподношу жене Бокова букет из петрушки и укропа. Ставлю на стол плетёную
корзинку с гостинцами... с огурчиками-помидорчиками, которые любит Боков, с
плюшками, которые любит Боков, с обливными пряниками, которые любит Боков, и с
коробкой зефира в шоколаде «Шармель», который любит Боков. Подхожу к Бокову,
наклоняюсь к нему и целую его в щеку. Он встрепыхивается, оживляется и
улыбается мне и пожимает мне руку слабым пожатьем... В глазках у него
загораются теплые, ласковые, озорные огонечки, как если бы включаются какие-то
внутренние электрические лампочки.
«Я привезла Вам свою новую книгу... и хочу подарить её Вам», – говорю я Бокову.
«Давай...» – с удовольствием говорит он. Я достаю не из «широких штанин», а из
широкого целлофанового мешка свою новую книгу «Четыре стены». Читаю вслух свой
автограф, который я написала на титульном листе заранее, чтобы не сочинять его
на глазах у Бокова, наспех:
«Патриарху русской поэзии, классику всех времен и моему учителю Виктору
Федоровичу Бокову – моя новая книга, в которой много стихов, посвященных Вам и
навеянных Вами! С пожеланием Вам жить-быть и радовать этим всех, кто Вас любит!
Ваша ученица – Нина Краснова. 29.04.2008».
После этого я преподношу ее Виктору Федоровичу. Он берёт её в руки, как ребёнок
новую игрушку... вертит в руках, рассматривает мой портрет на ней, гладит и
листает ее. «Прочитай мне что-нибудь из этой книги», – просит меня Боков. Я
читаю одно из своих старых стихотворений, посвященных ему:
Нина
Краснова
ВИКТОРУ БОКОВУ
(К 90-летию)
Лель из лéса, из Переделкина,
Переделкина-Поределкина,
Вы – искусный плетельщик словес,
И имеете славу и вес.
Гнули Вас в лагерях, не согнули,
Вы оттель на Олимп сиганули,
Прямо с нар на Олимп сиганули.
Вас поет и читает народ,
Вам платок не накинув на рот.
Вам исполнилось лет... девяноста?!
То-то Вы задираете нос-то,
Выступаете всё на «ура»,
Выдаете стихи на-гора.
Как Везувий, в стихах вулканите.
В Лету Вы никогда не канете.
Боков после каждой моей строки и после каждой моей рифмы одобрительно качает
головой и восклицает: «Здорово! Здорово!» - Улыбается торжественно, как будто я
надеваю на него гирлянду из своих стихов или лавровый венок. Просит меня: «Еще
что-нибудь прочитай». Я читаю ещё:
Нина
Краснова
ВИКТОРУ БОКОВУ
1.
В энциклопедии Боков описан,
Для завистников Боков опасен.
Боков песенен, Боков народен,
Тянет по меньшей мере на орден.
2.
Боков спрятался в чулан
От шумихи, от известности.
Боков – действующий член
Академии словесности.
Боков смеется. Говорит с растяжкой: «Хорошо-о!»
...Когда я раньше приходила в гости к Бокову, он усаживал меня и своих
домочадцев за стол, открывал свои «тома», скоросшиватели с рукописями стихов,
которые сам перепечатывал на югославской машинке, и часа два читал мне и нам
свои новые стихи... А мы после каждого стихотворения выражали свою
эмоциональную реакцию на них и вдохновляли его читать дальше. Теперь Боков уже
не может читать свои рукописи, как и книги, он плохо видит, даже и в очках, да
и руки у него стали слабые, он не может перелистывать ими страницы... И я
сажусь около него и сама читаю ему и его домочадцам вслух стихи из его книги
«Лик любви», которую он тут же и дарит мне.
– Неужели это я написал? – с изумлением говорит Боков. Шутит, как и раньше. –
Что, и это тоже я написал? – говорит он, когда я читаю ему другое его
стихотворение. – Ай да я! Такой шедевр написал...
Боков берет в руки свою книгу «Повечерье»:
– И что? И всю эту – такую толстую – книгу тоже я сам написал?
– Вы.
– Ну надо же, какой я молодец...
Он берет авторучку и пишет мне на книге «Повечерье» неровным почерком, свой
экспромт, без знаков препинания, как авангардист:
Нине
Лю-лю-лю
Я тебя люблю
И хвалю
Виктор Боков
А на «Лике любви» он ставит автограф-закорючку: «Нине Боков».
...Я знаю, что Алевтина Ивановна, которая для меня давно - просто Алевтина,
очень любит кухонные фартуки, у нее их много, самых разных, она их
коллекционирует и надевает тот или иной в зависимости от того или иного своего
настроения. Я привезла и подарила ей новый фартук, красно-бордово-клеточный. И
она тут же надела его и стала нарядной домохозяйкой, которую впору снимать для
телереклам. Потом она начала накрывать на стол. Подала нам суп в сервизных
тарелках, салат из помидоров с моей петрушкой и моим укропом, омлет-запеканку,
курицу и шпинат... Потом – душистый чай со зверобоем, мятой и еще какими-то
целебными луговыми травками... который мы пили с пряниками, плюшками и
«Шармелью» и с конфетами в ярких блестящих фантиках, которые лежали в изящной
хрустальной конфетнице.
Я записала у Алевтины рецепт того супа, который мы ели, то есть компоненты,
которые входят в состав этого супа: тыква, сельдерей, зеленый лук, красный
перец сладкий, помидор, цветная капуста, сок томатный, крупа (рис или
геркулес).
– Это не только очень вкусный, но и очень полезный суп, он дает энергию. Боков
его очень любит, - сказала Алевтина, как квалифицированный шеф-повар. Боков
кивнул головой, подтверждая это.
Я
просидела, пробыла у них, в их уютном теремке, не знаю, сколько времени.
Алевтина, которая поначалу не разрешила мне фотографировать Бокова, поскольку
считала, что он не в форме, потом сама сказала мне: «Разрешаю». И я
сфотографировала его и ее с ним и себя с ним и с ними. И она подарила мне от
себя и от Бокова фарфоровую чашечку с фарфоровым
блюдечком и квадратный белый гребень с рельефными синими и красными
узорами на нем, который Боков когда-то привез откуда-то, из командировки, из
Хохломы или еще откуда-то. И проводила меня до ворот по той же самой
асфальтовой тропинке с кустами жасмина и яблонями и еще - с
голубенькими незабудочками по бокам этой тропинки, по которой я пришла...
Боков, которому уже трудно ходить и который не может передвигаться без
поддержки, без опоры, остался сидеть за столом. И медленно помахал мне рукой на
прощанье, до новой встречи...
В 2009 году, в сентябре, Бокову исполняется 95 лет. И уже почти 50 лет из
них страна поет его песни «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет
молодой моряк», «Володенька, Володенька», «Коло-коло-колокольчик», «Я назову
тебя зоренькой», «В чистом небе ясный месяц», ««Не растет трава зимою»...
Живой
Журнал Нины Красновой
28
января 2009 г. (О 28 апреля 2008 г.)
НОВЫЕ СТИХИ БОКОВА, КОТОРЫЕ ОН СОЧИНИЛ В 94 ГОДА
...Раньше поэт Виктор Федорович Боков, хлебосольный хозяин, почти каждый день
принимал гостей у себя на даче в Переделкине. В основном своих же собратьев по
перу, поэтов, или каких-нибудь литературоведов и профессоров, которые
занимаются его творчеством, пишут статьи, рефераты, диссертации и монографии о
нем, или издателей, которые издают его книги, или работников газет и журналов,
которые печатают его стихи, или композиторов, которые пишут песни на его стихи,
или певцов и певиц, которые поют его песни, или своих сергиевпосадских
земляков, или работников Язвицкого музея Бокова... И пускал их в свою горницу,
обшитую светлыми дощатыми панелями, и сажал их за длинный широкий стол и
садился за этот стол и говорил с ними о поэзии, о литературе, о жизни и читал
им свои новые стихи, которые писал каждое утро, иногда сразу по пять-десять
стихотворений, просыпаясь с петухами, пек их, как блины, и сам же отпечатывал
на машинке, и проверял их на своих гостях и домочадцах, смотрел, как они
реагируют на них. А Алевтина Ивановна готовила обед и кормила всех обедом из
нескольких блюд. Бывал у Бокова и композитор Григорий Пономаренко, пока его не
сбил и не задавил насмерть автомобиль. Бывала и Людмила Зыкина, пока могла
ходить, теперь уже не может, болеет, не встает с постели. Бывал у него и
Черномырдин, приезжал к нему собственной персоной и пел с ним под гармошку,
дуэтом, песню «Оренбургский пуховый платок» и плакал о своей маме, которая
когда-то вязала оренбургские пуховые платки, чтобы прокормить своих детей, которых
у нее было семеро по лавкам...
И много кто еще бывал у Бокова. Теперь он уже почти никого не принимает, у него
для этого нет здоровья и сил. Он уже еле ходит, еле передвигает ногами, и
домочадцы водят его под руки, чтобы он, не дай Бог, не упал и не грохнулся об
пол. Алевтина Ивановна, которая моложе его лет на двадцать пять и которая,
чтобы не терять свою спортивную форму, ходит плавать в бассейн, а зимой ходит
кататься по снегу на лыжах, оберегает его от лишних, по ее мнению, людей и сама
решает, кого пустить к Бокову, а кого нет. Я – в числе тех, для кого двери дома
Бокова всегда распахнуты, как и его сердце. Наш с Боковым один на двоих
композитор Анатолий Шамардин – тоже в этом же числе.
– Толя, давай съездим с тобой к Бокову? Навестим его? Пока мы можем это
сделать? – предложила я Анатолию Шамардину, своему другу с двадцатилетним
стажем, а он – мне, через несколько дней после того, как мы с группой от
журнала «Юность» слетали в Армению на дни Русского Слова и через несколько дней
после того, как Бокову исполнилось 94 года.
И мы созвонились с Алевтиной и спросили у нее, можем ли мы приехать к Бокову, и
она сказала: «Приезжайте». И мы сели в старенький английский изумрудного цвета
«Rover» Анатолия, забрызганный и заляпанный осенней грязью, и подкатили на нём
прямо к крыльцу Бокова, точнее - не к крыльцу, а к воротам. Я, как Красная
Шапочка, прихватила с собой корзиночку с набором гостинцев не для бабушки и не
для серого волка, а для Бокова... и приложила к ним железную коробочку чая с
женьшенем и накрыла всё это узорным полотенцем-столешником.
...Алевтина,
с короткой молодёжной стрижкой, с некрашеными волосами серо-белого цвета, в
новой нарядной белой кофточке с лиловыми, жёлтыми и розовыми цветами
и зелёными листьями на ней, сказала нам:
– У нас всю неделю были гости. Он устал от них. И плохо чувствовал себя вчера и
позавчера. Но сегодня он чувствует себя лучше... Слава Богу.
...Боков
в честь нас надел новые розовые штаны в серую полосочку, а поверх них - серую
шерстяную кофту с черным откидным воротником на молнии. Помыл голову,
причесался.
Расспросил нас об Армении, откуда мы только что прилетели... О празднике
Русского Слова. Спросил, как нас там принимали... Пел ли Анатолий песню на
армянском языке «О, серун, серун» («Ты красавица»). И пел ли песни на мои
стихи, и какие еще песни пел (на стихи Бокова, разумеется). Потом Боков сказал
так, как будто подвел сам для себя какую-то черту и какой-то итог:
– В Армении я был. И даже переводил одного армянского поэта – Ашота Гроши. Был
я в Армении.
– А в Азербайджане?
– В Азербайджане был.
– А в Грузии?
– Был.
– А в Болгарии? – подсказывает ему Алевтина так, как будто играет с ним в игру
«Чижик-пыжик, где ты был?».
– Был в Болгарии.
– А в Чехословакии? – опять подсказывает ему Алевтина.
– В Чехословакии был семнадцать раз, - отчитался русский путешественник Боков.
– Где я только не был.
Я передала Бокову приветы от всех поэтов и писателей, которые были на празднике
в Армении. Сказала ему, чтобы подбодрить его:
– Все вас любят.
– Я себя тоже люблю, – засмеялся Боков и лукаво посмотрели на нас.
Двигается он плоховато, тело у него слабое, руки и ноги слабые. А ум светлый, и
голова работает неплохо. Хотя чувствуется, что Боков уже пребывает не только
здесь, но уже и где-то ещё, за гранью жизни, витает там в своих мыслях, и уже
почти не видит грани между «здесь» и «там».
...В прошлый раз Боков подарил мне свою книгу «Лик любви». Роскошную,
подарочную, толстую, в 416 страниц, на плотной офсетной бумаге. Приложение к
энциклопедическому справочнику «Великая Россия. Имена». В темно-зелёном
тряпочном переплете, с чёрным кожаным корешком и золотым тиснением. И с
фотографиями, среди которых есть фотография юбилейного вечера Бокова в Ореховом
зале ресторана «Прага», 1989 года. Там Боков, в официальном костюме, при
галстуке, играет на балалайке, а мы с Алевтиной стоим по краям от него, я –
по-девичьи худенькая, стройненькая, «струноватая», как сказала бы и как
говорила обо мне моя матушка, и с павловопосадской, яркой, кистястой шалью
на плечах, концы которой стянуты узлом... А теперь Боков дарит эту книгу и
Анатолию Шамардину. Пробует написать и пишет ему автограф на титуле: «Толе...»
Глаза у него плохо видят, пальцы слабые, плохо держат шариковую ручку. Я
накрываю руку Бокова своей ладонью, беру между своими пальцами его пальцы с
шариковой ручкой и вожу ими по бумаге и помогаю ему написать буквы автографа,
они получаются кривые, как забор около дома Бокова, но с крепким нажимом.
– Какие красивые получились буквы! – с весёлой удивленностью восклицает
Алевтина.
– Красивые? Да? – спрашивает Боков с такой интонацией, как будто спрашивает: вы
меня не обманываете, чтобы успокоить меня? я вам верю. Он не просто плохо
видит. Он почти ничего не видит! Букв не видит...
– Очень красивые у вас буквы. Очень красивый у вас почерк, просто
каллиграфический... - хвалю я его. Он радуется, как малое дитя, как
первоклашка, которого похвалила учительница. Что малый, что старый... воистину
так. Он улыбается блаженной улыбкой, как будто я поставила ему пятерку по
чистописанию.
– А кто написал эту книгу? – спрашивает Боков с наивом в голосе. Начинает
играть в свою новую старую игру.
– Вы.
– Я? – Боков листает книгу, перелистывает стихи. – Это все я написал?
– Вы.
– И когда это я успел столько написать?
– И это не всё, что вы написали. Это только избранное из ваших книг. Малая
часть всего...
...В это время звонит телефон, мобильник. Алевтина подносит его к своему уху.
Кто говорит? – Это слон? Нет, это не слон. Это говорят сотрудники журнала
«Север», они хотят прийти к Бокову в гости и подарить ему журнал с его
стихами.
– Приходите. Нет проблем.
– А у меня одни проблемы... – тихонько посмеивается Боков. Шутит, но и не
шутит. Проблем (со здоровьем) у него и правда – много. Но он не жалуется на
них, а посмеивается, похихикивает над ними.
...В книге «Лик любви» не только стихи Бокова, но и его песни, которые он
написал с композиторами Григорием Пономаренко, Николаем Кутузовым, Василием
Соловьевым-Седым, Николаем Поликарповым, Александрой Пахмутовой, Александром
Аверкиным. И под каждым названием песни стоит имя и фамилия композитора, автора
музыки. Есть там и песни, под которыми стоит имя и фамилия Анатолия Шамардина:
«Луговая рань», «Вишенья, орешенья», «Облетает вишня», «На лесах позолота»,
«Русская зима», «Северяночка», «Алевтина». Это всё – нераскрученные песни, не
те, которые в советское время звучали по радио десять раз на дню, и поэтому их
знает вся страна, но это песни, которые любит и знает наизусть весь близкий
круг поклонников Бокова и вся семья Бокова, и Алевтина, у которой вокальный
голос и безупречный слух, как и у Бокова.
Она тут же начинает петь песню про себя, про Алевтину, от лица Бокова:
У зимнего окна
Мир сказок и мечты,
У зимнего окна
Стоишь, смеешься ты.
А даль полей бела,
Березы в инее.
Теперь вся жизнь моя
В красивом имени:
Алевтина!
Имя Алевтина в песне идет рефреном в каждом куплете.
Потом мы втроем – Алевтина, Анатолий и я – поем песню «Луговая рань», «Золотая
иволга»...
Боков слушает нас самоуглубленно и спрашивает потом:
– Это что за песни?
– Это ваши песни... – говорим мы ему.
– Что – это мои песни? Это я их написал? – он смотрит на нас как бы с
недоверием.
– Да! – говорим мы в унисон и не поймем, шутит он или нет. Шутит или правда не
помнит, что это его песни и что это он их написал... Шутит? Играет в свою игру?
Может быть, и нет. Шут – не шутит? Шутит – не щутит? Шутит...
...Боков склоняет голову себе на грудь и начинает подремывать, как Гаврила
Державин на экзамене в царскосельском лицее. Потом встряхивается. И мы пьем чай
с пресными пышечками, которые напекла Алевтина, и с конфетами-грильяжками.
Боков пьет чай из белого фарфорового, тонкого и легкого бокала. Алевтина
специально купила Бокову такой бокал, чтобы хозяину было не трудно держать его
в руке, но Бокову все равно трудно держать его, и бокал все время наклоняется в
одну сторону, отчего чай из него вот-вот выльется ему на кофту и на розовые
штаны... Алевтина вешает Бокову на грудь нагрудничек, салфетку, берет у него из
руки бокал и поит Бокова чаем, как маленького, и кормит его с ложечки творогом.
...По телеканалу «Культура» в сентябре 2008 года прошёл фильм о Викторе Бокове
из серии фильмов о поэтах ХХ века с участием Льва Аннинского. В серию вошли
поэты Пастернак, Багрицкий, Луговской, Луконин, Маргарита Алигер, Ольга Бергольц...
Когда тележурналист Алексей Шемятовский искал материалы для фильма о Бокове,
оказалось, что их сохранилось очень мало, то есть почти ничего не сохранилось,
и все телефильмы о нем или с его участием куда-то исчезли из запасников
телевидения. И Шемятовский приезжал ко мне домой и сканировал и сбрасывал на
свой диск фотографии Виктора Бокова, которые у меня есть в моем фотоархиве. И
новые, с моих фотоаппаратов «Samsung», «Olimpus» и «Pentax». И старые, с
фотоаппарата старейшего фотографа СП СССР Николая Кочнева, которые когда-то
Боков дал мне, чтобы я хранила их для истории. Вот я их и хранила и сохранила.
И еще я дала тележурналисту телефон оператора-любителя, Владимира Самсонова, у
которого могут быть видеопленки с фрагментами вечеров Виктора Бокова... И всё
это Шемятовский использовал для фильма, которого я, правда, не видела, увы, но
зато Алевтина и Боков видели.
...Алевтина, одернула свою юбку и свою кофточку и говорит мне:
- Нина, где твой фотоаппарат? Ты можешь сфотографировать Бокова. И сама сфотографироваться
с ним. И меня и Анатолия с ним сфотографировать. Сегодня Виктор Федорович
чувствует себя лучше, чем в прошлый раз. Лучше чувствует себя и лучше выглядит.
Алевтина – жена Бокова, но всё время называет его только по имени и отчеству и
обращается к нему на «вы», как к высокому официальному лицу или чину. Есть
какие-то области в России, где дочери («дочеря») называют своих мам на «вы».
Может быть, там же жены мужей называют на «вы», как Алевтина? Она куровчанка,
из Курска, оттуда, где курские соловьи.
Я приступаю к фотосессии, стараясь провести её побыстрее, чтобы не утомить
раритетного патриарха поэзии. Сажусь рядом с ним на стульчик. Глажу его по
голове, приглаживаю ему волосы, «волос к волосу кладу». Волосы у
него ярко-белого цвета, без примесей, и пушистые, как у пушного зверька,
как у песца... У кого-то уже в тридцать лет волосы с головы облезают, а у него
все они целы. Я говорю это вслух, чтобы ему было приятно слышать это. Ему
приятно слышать это. Он хочет услышать это еще и еще раз. И переспрашивает:
– У меня красивые волосы?
– Да.
– И они у меня все целы?
– Да.
Он улыбается торжествующей улыбкой... как некое привилегированное лицо, у
которого есть свои привилегии перед более молодыми людьми, и эти
привилегии заключаются не только в том, что у него в 94 года целы все
волосы на голове и нет никакой лысины.
...Я помню, что во время Пушкинского праздника 1990 года, в Пскове, на встрече
с библиотекаршами в библиотеке Боков подарил одной библиотекарше горшок гераней
с подоконника. Отчудил. И теперь я взяла с подоконника горшок розовых фиалок и
преподнесла его Бокову:
– Давайте сфотографируемся с цветами, которые вы заслужили. Я вам их дарю... от
всего своего сердца.
Боков тут же, экспромтом сочинил две строки, про «мои» фиалки:
–
Елки-палки,
Это фиалки...
И
тут же сочинил еще две строки, про меня:
–
Боков говорит:
«Нина – у нас фаворит».
Я запомнила и записала эти строчки. И думаю, что это на сегодня если и не
последние стихи Бокова из тех, которые он сочинил экспромтом, то последние из
тех, которые кто-то записал за ним, поскольку сам он записывать их уже не
может, а может только надиктовывать.
Живой
Журнал Нины Красновой
24
февраля 2009 г.
(О
23 сентября 2008 г.)
Поэзия
девяностодесятников. Валерий Дударев
__________________________________________________________________
Валерий
Дударев
Валерий
Дударев родился в Москве. Учился в Московском педагогическом институте им. В.
И. Ленина. Член Союза писателей Москвы. Его имя известно любителям поэзии с
начала 90-х годов, после первых публикаций его стихотворений в журнале
«Юность». Автор книг «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы»,
«Ветла», «Глаголица». Лауреат Есенинской премии. С 2007 года – главный редактор
журнала «Юность».
ОСОРГИНО
Здесь
никогда ничего не изменится.
Будет
колодец стоять,
Будут
сады по-весеннему пениться,
Будет
кукушка считать
Годы
глухие, шальные, нелегкие.
Господи!
Целая жизнь –
Эти
недолгие звуки далекие.
Было
бы чем дорожить!
Не
дорожили! Поднялись, как срезали,
От
крепостных деревень
К
дачным поселкам с правами, с прогрессами.
Думали,
к счастью ступень.
Но
ничего никогда не изменится.
Будут
картошку копать.
В
сроки к морозам готовить поленницу,
В
сроки грибы собирать.
***
Как
там, в девятнадцатом, бричка
Сквозь
Русь пробиралась, пыля, –
В
двадцатом летит электричка.
Нетленны
леса и поля.
На
станции тихой и голой,
Где
почты неделями ждут,
Приляпан
к избе «серп и молот».
О
Боже, откуда он тут?
ОСЕНЬ
Лужи
да колдобины. Червяки.
Яблоки
антоновки велики.
Небеса
обманчиво голубы.
Шавка
надрывается у избы.
Дед
с поленом справился –
Передых.
–
Дед, в деревне много ли городских?
–
Дачники-то? Съехали. Чтоб их мать!
Кто
же тут останется зимовать?!
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Есть
высшая доля – однажды,
Всю
жизнь отложив на потом,
Пойти
одиноким, миражным –
Проселочным
диким путем.
Но
в той навалившейся доле,
Когда
опускается мгла,
Есть
счастье добраться до поля,
Увидеть,
как дремлет ветла,
Печальную
кликнуть старуху
В
глухом, незнакомом селе,
Свою
разделить с ней краюху
На
этой вечерней земле,
А
там уж совсем по старинке,
Как
будто столетья назад,
Испить
из предложенной крынки
Под
долгий, внимательный взгляд,
А
после скупого прощанья
Услышать
«Исусе спаси!»,
Сдержать
вековые рыданья –
И
дальше пойти по Руси.
Поэзия
девяностодесятников. Борис Лукин
__________________________________________________________________
Борис
Лукин
Борис
Лукин родился в 1964 году в Нижнем Новгороде. Поэт, критик, переводчик,
редактор отдела литературы «Литературной газеты». Автор нескольких поэтических
книг. Руководитель литературного объединения «НаШе». Составитель антологии
поэзии «Наше время».
***
Галине
Дохнул
октябрь теплом последним
в
дверь, отворённую тобой:
так
озорно вбежит наследник –
он
весь огонь и непокой.
На
все небесные угодья,
на
всю земную благодать
последний
летний жар исходит,
как
угли яблоки в садах.
Летит
искрою лист; и тают
узоры
рощи кружевной.
И
что-то зреет там, за далью,
как
летом в глубине земной.
И
то, что зреет – будоражит
не
менее чем твой приход.
Ты
принимаешь взгляд мой жадный.
Я
- понимаю этот вздох.
ПТИЦЫ
НЕБЕСНЫЕ
1.
Бог
сна стоял у изголовья
и
что-то вечное шептал…
Ко
лбу болящего с любовью
так
прикасаются уста.
Ты
помнишь жар неугасимый
сквозь
боль и страх, и суету, -
и
кажется, что не по силам
всё
это дотерпеть к утру.
Словно
метелица заносит,
врываясь
с улицы в дома.
…Всё
медленней звучат вопросы,
ответы
все лишь в стоне «ма».
Терпи,
запоминай, что шепчет
столь
редкий гость в твоём дому
на
том единственном наречье,
не
данном смертным никому.
2.
Теперь
она часто смеялась,
Казалось
бы, по пустякам.
Мне
нравилось, что не стеснялась
Морщинок,
бегущих к вискам.
«Да
ну их…» - махнула рукою,
Как
будто крылом над водой:
И
боль устремилась к покою,
И
счастьем звался тот покой.
Любимый
домой возвратился,
Бег
жизни зажав в кулаке…
Опять
за оконцем синица,
И
по небу клин журавлей.
***
Упала сгнившая скворечня…
Н. Дмитриев
У
соседа упала скворечня,
потому
что соседушки нет.
Пусть
ничто в этом мире не вечно,
мы
столярим с сынишкой чуть свет.
Ничего,
что всю заднюю стенку
выел
ветер, и дождь исколол;
мы
готовим другую на смену,
забиваем
гвоздочки с углов.
Да,
у нас и своя есть скворечня,
но
весною гостей нам не счесть.
Пусть
с рассвета до зорьки вечерней
соревнуются
– кто побойчей.
Знамо
дело, есть чем мне заняться,
но
душа б не спокойна была…
Пишет
сын свои детские святцы,
жизнь
и смерть их не выжгут до тла.
Середина жизни
В. Шемшученко
Еще
не поздно? – Я спрошу
Сквозь
тыщу вёрст.
И
я проделал сей маршрут:
Болот,
берёз.
Мелькали
дали за окном -
Сургут,
Тобольск.
Всё
как-то было не темно,
И
не спалось.
Потом
заспорил мой сосед
Про
факела,
И
всё искал, где солнце село
И
где река;
Курил,
забыл совсем про запад,
И
спать пошёл.
Я
провожал восток глазами:
Семь
лун взошло.
-
Еще не поздно! - Говорю
Во
тьме с собой.
-
И если завтра не умру,
Вернусь
домой.
Поэзия
девяностодесятников. Константин Паскаль
_____________________________________________________________________________
Константин
Паскаль
Константин Паскаль родился в 1967 года в поселке Боровая Киевской области.
Окончил Рязанский государственный педагогический институт и Высшие литературные
курсы в Москве. Автор четырех поэтических
книг и более 150 публикаций в литературных изданиях России, ближнего и дальнего
зарубежья. Лауреат Всероссийских литературных премий и конкурсов. Автор гимна
десантников России. Член Союза писателей России. Живет в Рязани.
НИНЕ
КРАСНОВОЙ
А
знаешь, Нина, жизнь столичная
Тебя
ничем не искусила:
Стихи
публичные и личные
С
годами набирают силу,
В
них столько солнца, столько радости,
Они
как ягоды на грядке!
И
озорные несуразности
В
твоих устах всё так же сладки.
Есть
в этом что-то хулиганское,
Когда
частушки брызжут соком,
Но
это ж русское, рязанское –
Грешить
и думать о высоком.
И
пусть сегодня время душное
Для
поэтического слова,
Твое
лихое простодушие
Как
никогда свежо и ново.
Москва,
Рязань… Какая разница?
Под
русским небом все едины.
Но
мне стихи Красновой нравятся
Тем,
что они непобедимы!
* * *
Август. Русская деревня.
Хляби. Мокрые стога.
Стонут ветхие деревья.
Звёзды падают в луга.
Всё затихло. У дороги
Встал задумчиво туман.
Смотрит месяц одинокий
На притихшие дома.
Млечной нитью в небосводе
Отражается река.
Здесь давно никто не ходит,
И гармони не слыхать.
И никто не скажет толком,
Где мы, дома ли, в раю?
Только ветер воет волком
Песню вечную свою.
ТРИ
ДОРОГИ
А. А.
Три
сосны. Три сестры. Три дороги
для
загадочной русской души:
степь
да степь, холода и тревоги –
хочешь,
стой, хочешь, пой да пляши.
И
разносится многие лета
то
ли стон, то ли песнь, то ли плач
о
пути без конца и просвета
и
о тройке, несущейся вскачь.
По
ухабам, камням и болотам,
где
в тумане не видно ни зги,
сумасшедшим
рассейским галопом
это
мы нарезаем круги!
Это
мы – и варяги, и греки, –
от
рожденья творим чудеса,
можем
вспять поворачивать реки
и
башкой пробивать небеса.
Это
мы и в скиты, и в остроги,
убегая
от смуты и лжи,
протоптали
кривые дороги
в
трех соснах от заветной межи.
Это
нами забытые сестры
до
успенья хранят в теремах
нашу
славу былинного роста
и
желаний вселенский размах!
Жили-были,
грешили и пели,
торопили
назначенный час.
Ничего
мы еще не успели,
и
всего три дороги у нас.
* * *
Жара.
Деревня дышит зноем,
Земля
в мазуте и в пыли,
Покрылись
травы желтизною,
И
солнце плавится вдали.
Ни
ветерка, ни капли с неба,
Ни
слова, ни одной души…
Перемешались
быль и небыль
В
моей классической глуши.
Здесь
леший в заповедной чаще
Визжит,
гонимый комарьем,
Здесь
по ночам в росе звенящей
Русалки
ходят босиком.
И
только дедушка-водяник
Не
кажет носа из пруда
Да
месяц, одинокий странник,
Плывёт
неведомо куда…
За
ним и я навстречу звёздам
Бреду
усталый и больной
Туда,
где сон и свежий воздух
Накроют
легкою волной.
Но
передышки час недолог –
Чуть
заалеет свет зари,
Уже
выходят на пригорок,
Спросонок
лаясь, косари.
* * *
Не
выношу пустые разговоры,
от
них бегу из города – в поля,
где
ждут меня родимые просторы
и
молчаливо строгая земля.
Где
каждый час, исполненный покоя,
я
проживу полней иного дня,
и
где порой привидится такое,
что
лишь стихи потом спасут меня.
Где
слышен Бог и тишина священна,
где
каждый звук оправдан тишиной,
душа
освобождается из плена,
но
не кричит, а шепчется со мной.
* * *
Давно уехал мой автобус,
и затерялась колея.
Пора придумать новый глобус
для не имеющих жилья,
чтобы
на всей земле две точки:
начало
и конец пути,
и
даже пальчик нашей дочки
мог
без труда меня найти
в
толпе, курящей на перроне,
в
скупых записках между строк,
в
разноголосом Вавилоне,
где
был отважно одинок.
Сегодня
был,
а
завтра вышел –
растаял
в призрачной дали…
Но
разве кто-нибудь расслышал
глас
вопиющего с Земли?
* * *
…А
мне не хочется сомнений,
И
от надежды я устал.
Скупая
вязь стихотворений –
Ещё
не путь на пьедестал.
И
нищета – ещё не плаха,
И
бездорожье – не беда.
Была
бы чистая рубаха
Да
хоть какая-то еда.
И
можно жить!
Дышать
весною,
Забыв
о вьюжном феврале,
Искать
прохладу в летнем зное
И
редкий луч в осенней мгле…
И
как бы ни было привычно
Стремленья
долгу подчинять,
А
всё равно душа первична –
И
ни прибавить, ни отнять.
МУЗЫКА
Бывали
дни веселые,
погожие,
весенние:
когда
на небе солнечно
и
на душе легко,
когда
дела закончены,
а
завтра воскресение,
а
на губах не очень,
но
обсохло молоко.
Тогда
еще безусые
шагали
мы под музыку
и
пели на всю улицу:
кто
в лес, кто по дрова!
И
побеждала молодость,
и
не смолкала музыка,
и
не хватало времени,
чтоб
разобрать слова.
С
полетами, с залетами,
с
крутыми поворотами
несло
нас вдоль по Питерской
и
дальше по Тверской.
И
только наши матери,
оставшись
за воротами,
всё
верили, что где-нибудь
мы
обретем покой.
А
мы летели с грохотом
и
пропадали с хохотом,
чтобы
вернуться с музыкой!
И
снова шли вразнос
без
цели и без ропота.
А
дальше дело опыта:
то
праздники, то хлопоты,
то
жизни под откос.
И
пили мы не меряно,
и
жили неуверенно,
а
сколько нас потеряно,
уже
не сосчитать.
Но
оставалась музыка,
что
временем проверена,
и
время, чтобы мучиться,
и
все еще мечтать.
Забыты
дни веселые
и
хлопоты напрасные,
и
только наша музыка
пока
еще слышна.
И
сами-то мы разные,
смешные,
несуразные,
но
жить, ей Богу, хочется,
пока
звучит она!
* * *
Я
сегодня проснулся рано,
Чтоб
умыться лесной росой.
Помолился
на купол храма
И
пошел по земле босой.
А
вокруг золотое поле,
Синей
речки зеркальный блеск.
За
холмистым степным раздольем
Океаном
разлегся лес.
Что
еще мне искать, бродяге,
На
пустынной моей земле?
Каплю
водки в походной фляге
Да
звезду в предрассветной мгле?
Я
спешу, чтоб росой умыться
Под
листвою седых берез.
Как
легко в тишине молиться,
Не
скрывая счастливых слез...
* * *
Душа
спокойна перед неизбежностью.
В
ней всё былое выжжено дотла.
А
сердце задыхается от нежности
И
среди ночи бьёт в колокола.
В
нем больше нет ни боли, ни усталости,
Оно
горит рассудку вопреки.
И
не хватает только самой малости –
Благословенья
любящей руки.
Критика.
Лев Аннинский
__________________________________________________________________
Лев
Аннинский
Письмо
Нине Красновой по электронной почте, 2009 г.
Милая Нина, вот есть никуда не
предложенный Щербаков
– взамен запроданного Губанова. Не подойдёт
ли? Л. А.
(Лев
Аннинский)
БЕЗДНА
ЗВЕЗД
«Открылась бездна, звезд полна»
(М. Ломоносов).
«И
ничего душа не хочет, когда не может ничего».
(М. Щербаков).
От Михайлы к Михаилу - от МВЛ к МКЩ
«Пиитический
восторг оставим Ломоносову», - сужает фронт Анатолий Черников, цитирующий
Михайлу Васильевича в сборнике «МКЩ» (М., 2008).
С
Ломоносовым понятно, а вот сборник уже самим названием подначивает на
расшифровку. Не знаю, расшифруют ли аббревиатуру миллионы читателей, но тысячи,
я думаю, расшифруют (сборник издан тиражом в одну тысячу экземпляров). А
озаглавлен загадочно именно с мыслью, что «свои» уж точно знают, о ком идёт
речь.
«Сборник
статей о творчестве Михаила Щербакова», - подзаголовок для непонятливых.
(Отчество Михаила – Константинович). Ниже – крупно: Составитель – О. С.
Савоскул). В данном случае крупность кегля, пожалуй, оправдана: Оксана Савоскул
– не просто составитель, она инициатор проекта, оригинального по замыслу и
нетривиального по исполнению, а главное – автор большого исследования, каковое
и «держит» книгу.
У
меня есть личные основания на эту книгу откликнуться: в числе прочих там
воспроизведена моя давняя (из книги «Барды» 1998 года) статья о Щербакове;
другие авторы, представленные в сборнике, интенсивно со мной полемизируют - о
вкладе МКЩ в бардовскую песню и в русскую лирику, о том поколении, которое в
его лице обрело голос, и, как уже обещано, о звёздах и о бездне, ими
заполняемой.
О
самом МКЩ и его месте в отечественной лирике (ближайший предшественник –
Бродский; в дальнем родстве – Лермонтов; Ломоносов тоже вспомянут не случайно)
– об этих заслугах я судить не буду; я думаю, факт выхода в свет столь
увесистого тома (триста страниц убористого текста, две десятка авторов, среди
которых – сам Дмитрий Быков) на весах нынешнего пиара это такой знак признания,
о каком могут только мечтать соперники МКЩ.
Меня
интересует поколение, из которого они вышли.
Поколение пепси
Это
самоназвание. Родившиеся между кончиной корифея всех времён и народов и скандальной
отставкой «дорогого Н.С.», отменившего культ корифея, - дети оттепельного
десятилетия был вскормлены и вошли в возраст
конфирмации как раз в пору брежневского «подмораживания»; они увидели,
как продолжают раскачивать это подмороженное сооружение пылкие
«шестидесятники», и естественно включились в это упоительное дело, получавшее
всё больший размах; когда же сооружение покосилось, посыпалось и поплыло, а на
обломках началась война всех против всех (в базисе – рынок, в надстройке –
базар), - они обнаружили, что кроме запретного ранее пепси им нечем пробавить
душу. В этом опустошении они обвинили опростоволосившихся «шестидесятников»,
веривших, как выяснилось, в химеры.
На
месте химер разверзлась бездна, полная далёких звезд, меж тем логика борьбы за
место под солнцем диктовала своё, и подпирало попсиманов следующее поколение, с
пивными бутылками наготове, - те, что родились уже в разваливающейся Державе,
пробудились под грохот безнадёжного вторжения в Афган, угодили в чеченскую
мясорубку и обнаружили уже не бездну, от которой впадал когда-то в пиитический
восторг Михайло Ломоносов, а фабрику новых звёзд, эту бездну срочно
заполняющих. Тогда-то и стал МКЩ
«кумиром старшеклассников».
За
десяток лет, прошедших с той поры, старшеклассники вошли если не в пушкинский,
то в лермонтовский возраст и составили (сегодня) главный взрывной пласт
общества. Кумиры же их: от Ерофеева до Пелевина – вошли в возраст вероучителей,
благо, одряхлевшие «шестидесятники» уже ничего не могли прибавить к своему
громогласному банкротству.
МКЩ
из рядов своего поколения шагнул в табель о рангах мировой эстетики, а именно –
в разряд постмодернистов.
Не с натуры, а с
культуры
Оксана
Савоскул следующим образом характеризует этот разряд. Прежний художественный
язык изменён – вводится новый: «алфавит» кодовых знаков и цитаций. Прежние
образы вытесняются симулякрами, выстроенными по принципу намёка, отсыла и
римейка. Прежнее ощущение жанрового контекста сменяется ощущением или интер-,
или гипер-реальности. В первом случае текст коренится в системе (антисистеме)
наличной видимости, во втором случае поднимается «над» нею. В любом случае
«реальность симулякров списывается не с натуры, а с культуры».
Боюсь,
что так и есть. В прозе этот постмодерн создал даже особое направление, которое
нынешние литературоведы (например, Алла Большакова) называют феноменологическим
реализмом. То есть: творчеством, опирающимся не на бытийную основу
(отнологическую), а на мир феноменов, готовых представлений, ходячих символов,
бродячих сюжетов, хрестоматийных легенд и дутых авторитетов. (Люди, читавшие
Бориса Евсеева, могу оценить блеск и своеобразную изысканность такой прозы,
если автор талантлив). Переводя это новейшее литературоведение на язык родных
осин, я говорю: перед нами система «поверхностей», диалог «отражений», мир
«миражей». Их смысл заведомо уведён «по ту сторону» реальности, и сама
реальность (из которой смысл уведен) становится… нет, не бессмысленной, а…
безопорной, безоснованой, беспочвенной.
В
чём я и вижу смысл постмодернистских высказываний. Включая такие крайности, как
дразнящий эпатаж, апофеоз абсурда, обнажение пустоты, или – другая крайность –
не лишённая издевки отрешённость.
Может,
не родись я в эпоху тотальной веры, не вырасти я в надежде на светлое будущее
человечества и не окажись с этой верой в царстве химер, - то и не искал бы у
нынешних постмодернистов того, с чем остался сам, - разверзшейся под ногами
бездны. Для них-то, никогда под ногами опоры и не знавших, тут нет проблемы,
для них это висение в невесомости и есть
изначальное состояние.
Посмотри на небо и
уймись!
Получается
такой диалог поколений. Я говорю: бездна,
а Дмитрий Быков, созерцая этот же пейзаж, говорит: какая там «бездна»! –
это просто небо, чистое небо,
всеобщее ничейное небо, дарующее всем нам ощущение свободы и невесомости.
Я,
правда, не очень понимаю, как с таким ощущением согласуется та иерархия,
которую выстраивают архитекторы постмодернизма: кто там у них царь, кто раб,
кто червь, кто бог. То есть: кто продвигает литературу вперёд, кто, напротив,
эпигонствует, кто на какой ступеньке лестницы стоит и т.д. Тут и впрямь бездну
надо дополна завалить продукцией «фабрики звёзд», оставив «пиитический восторг»
XVIII веку.
В
наш век лестницу тщеславия строят и в невесомости. И обновляют постоянно.
Только что в зените стоял Бродский, мигнуть не успели – и Бродский в качестве
путеводной звезды бледнеет (становится «нетипичным», - тут лукавец Быков
прячется за тов. Маленкова, докладчика на XIX
съезде КПСС, а тот, как потом стало известно, припрятал в этой формуле г-на Святополк-Мирского),
Но мы этими давними аттракционами заниматься не будем. Нам интересно: в кто сегодня готов сменить в зените
закатывающегося Бродского?
Точно:
МКЩ.
В
точном соответствии с самоощущением избранности – он пальцем о палец не ударил
ради своего пиара: демонстративная «незаметность», даже полное отсутствие
всякой демонстративности: абсолютное игнорирование вкусов и ожиданий нынешней
«попсы».
Тем
мощнее пиар, взрывающийся «от противного». Сидит себе кузнечик, пиликает на
скрипке, мастер-виртуоз выделывает музыкальную филигрань, а вокруг – монстры
нависают: да как же это он пиликает и от ужаса не падает, мы-то ведь
стра-ашные, аж жуть!
Я
как нераскаянный «шестидесятник» норовлю всё открыто назвать: «Бездна! Бездна!»
- воплю, а мне отвечают: чего вопишь? Кто ж теперь вещи своими именами называет - это же всего только
гиперссылки на гиперреальность. Посмотри на небо и уймись!
Интересно:
а сам постмодернист только на небо и смотрит? А то, на что он не смотрит, - оно как-то присутствует в
его окоёме? А может, он «в детали не вдаётся, чтоб не окаменеть»? А то глянешь вот так неосторожно на
окружающую эмпирику – и упрёшься, как Владимир Маяковский, в «окаменевшее
дерьмо»… как и упёрся сегодня нежно-душный Владимир Сорокин, из химерической
социалистической невесомости ухнувший в полный унитаз.
Может,
от страха угодить в подобную кучу – та весёлая, с горчинкой, ироничная
«надмирность», которой нас испытывает МКЩ? Когда всё становится невесомым (как
в мираже), и непонятно, чем реальность тебя окатит (не спи, не спи, художник!),
- пробуждение и впрямь убийственно (чего доброго, проснёшься весь в дерьме).
Так
что тезис о том, что МКЩ нащупал не просто свой стиль, а «новый род словесного
искусства, род «небывалый» настолько, что «нет у него соперников», «не с кем
ему сравниваться и соревноваться» (Бродский, как мы видели, смещён) – я все эти
иерархические ступени оставляю на усмотрение знатоков, пересчитывающих звёзды.
Я ж говорю: там не лестница, там бездна.
Я не уймусь
Я
всё-таки отвечу на пару-другую конкретных высказываний по моему адресу
(которыми как автор, включённый Оксаной Савоскул в общую дискуссию,
по-человечески горжусь).
Анатолий
Черняков:
«Щербаков, по версии
Аннинского, – это антишестидесятник, потому и меряется той же шкалой, что и они,
только с другого её конца. Отсчитывается «от противного». В пустотном,
неустойчивом, осколочном и безотрадном мире Щербакова Аннинский находит только
два просвета – любовь (но о ней в статье сказано как-то очень уж вскользь) и
словосозидание. Оно-то и есть та последняя соломинка, то единственное, за что
ещё может ухватиться повисший над бездной. А бездна и у Быкова, и, вослед ему,
у Аннинского – синоним пустоты и безжизненности. Но бездна ведь бывает и совсем
иной. Даже словарно. Бездна – то, что не имеет предела, это бездонность,
беспредельность. Как у Ломоносова…»
Бывает,
конечно. И не только словарно, но и содержательно. В сознании поколений,
верящих, что это бездонный резервуар, из которого можно черпать и который
постигать. В эпоху Ломоносова так и предполагали. И в эпоху Мирового
Коммунизма. Но когда этот коммунизм, возникший из бродячего призрака, обратился
обратно в призрак, - черпать стало не из чего. Отсчитывать, как МКЩ, «от
противного»? Занятие довольно противное, да и от чего «противного»? Там теперь ничего нет.
О
любви?
О
любви не говорю, о ней всё сказано. Тем более, что и здесь теперь если говорят,
то через «нет». То есть через секс. Найдутся специалисты лучше меня.
Екатерина
Зотова:
«Слово «бездна»
приводит меня, по меньшей мере, в недоумение. Я вообще-то ощущаю себя маленькой
частицей этой «бездны», которую так «заговаривают»… Что-то здесь не то,
создаётся ощущение, что автор статьи (Л. Аннинский - «Заговаривающий
бездну») априори установил этакую точку
отсчёта в какой-то своей системе координат
(пусть и не лишённой определённой логики, а потом вдруг решил
отсчитывать от неё Щербакова».
Правильно.
Отсчитывать от своей системы координат – нормально для критика, и вообще для
читателя и слушателя, такую систему имеющего. Моя уважаемая оппонентка тоже
отсчитывает. У неё своя система координат и своё счёт:
«Мне его песни
помогают – верить. И радости, и правде, и сказке. Печалиться печали, но верить,
что она пройдёт Уметь признать поражение, но встряхнуться – и идти дальше, не
забывая о том грузе, который уже нельзя скинуть со счетов».
Вот
разница и видна. Вам – встряхнуться. А мне – ощутить себя вытряхнутым из старой
«однозначной» логики.
Ещё
из Чернякова:
«Преодоление
однозначности – то в шутку, то всерьёз – во всём у Щербакова. В статье Аннинского
есть несколько фраз, впрямую говорящих о том же самом. «…Любая истина…
возникает для него через «нет»». Заметим:
всё-таки истина и всё-таки возникает. О поэтическом мире Щербакова: «Жизнь
не равна себе: в ней двоится контур. Вещи призрачны: в них всегда «другое». Но «другое» - разве пустота? «Смысл
всего, что перед глазами, - в другом измерении». Точнее о поэзии Щербакова, пожалуй, и не скажешь. И опять-таки: речь
именно о «смысле». Значит, он есть в пространстве Щербакова. Почему же тогда
щербаковское «другое измерение» - это гибельная бездна, крушение всего? Что-то
здесь у Аннинского не сходится».
Конечно,
не сходится. Потому что оно и в реальности не сходится, и в истории не
сходится, и в перспективе не сходится – «там, где небо сходится с землёй», как
сказал поэт (не МКЩ, а другой Михаил – Светлов).
Сходится
– у средних стихотворцев, знающих ответы на вопросы, которые они ставят, и
знающих ответы, которых ждёт от них читатель.
У
настоящих поэтов – не сходится, потому что вопросы они ставят такие, какие
другим в голову не приходят, и ответов – нет. Потому и вопросы – «проклятые».
Встряхнёшься, а они опять стоят.
Через
десять лет после того, как я написал о Щербакове статью «Заговаривающий бездну»
и через десять недель после того, как прочел книгу «МКЩ», - я пошёл его
послушать, благо выступления его идут хоть и не в самом большом зале столицы,
но – неизменно.
Я
ждал, не начнёт ли вошедший в возраст зрелости Щербаков объяснять мне всё то,
после чего охота встряхнуться.
Надо объяснять?
Зал
московского Дома Журналистов заполнен, сидят на приставных стульях; за двадцать
лет популярность Михаила Щербакова, кумира старшеклассников эпохи Гласности и
Перестройки, не пошатнулась нимало;
каждый месяц он выступает на этой сцене (если билеты распроданы), и выступления
не отменяются (именно потому, что билеты распроданы). Кажется, его слушатели за
эти годы не переменились (только постарели) и любую песню могут подхватить. А не подхватывают, потому что
песни таковы, что не подхватываются. Их нельзя петь хором у костра. Им не место
на попсовых тусовках. Они не воспринимаются на многолюдных фестивалях.
А
только так: выходит на пустую сцену – в простой серой рубашке – то ли одинокий
проповедник, то ли отрешённый философ, то ли «препод» университетский. Кивает
залу, ставит пюпитр, берёт гитару… и
ничего не надо объяснять.
Но
гитара!
Изредка
(в концовках песен) он выдаёт финальный аккорд, да так, что ясно: это виртуоз
не слабее Луферова, - но, сопровождая песню, гитара тушуется до «нейтрального
напева», ибо главное – слова.
Уста
младенца. Истины висят гроздями, ни одна не по зубам. Всё пыль, все мелют
хором. А я здесь не. Не желаю объяснять. Не смотрю. И ничего душа не хочет,
когда не может ничего. Мир сверкает красками, гремит весельем, зазывает
маршрутами. Но краски мнимы, веселье обманно, маршруты коварны. На самом деле
там смута одичалых племён. Хаос шевелится. Я отважно закрываю глаза… Никакого
неба!
Вам
не хочется встряхнуться от таких объяснений?
Мне
не хочется. Потому что я слушаю интонацию.
Вообще
такие вещи принято петь либо с трагически-вертинским надрывом, либо с отчаянием
шута, выворачивающегося от смеха. Кажется, сейчас в ходу второй вариант. Но вот
так сидеть на сцене, скрывая за вежливым радушием каменную непроницаемость, а
за каменной непроницаемостью – чувство бездны, над которой трепыхаются
декорации жизни, - это только Щербаков. Его фирменный стиль. Его игра.
Декорации
– глобальные, «ооновского» масштаба. Вот тебе Штаты, вот Тибет, вот,
пожалуйста, Испания. Поезжай! «Над всей
Испанией безоблачное небо»!
Строчка
не жалит ли? Ещё бы! Это ж условная фраза франкистских генералов, начавших в
1936 году в Испании Гражданскую войну.
Ах,
зачем я объясняю! Кто знает – тот знает, а кто не знает – тому и знать незачем.
А
если надо что-то объяснять,
То
ничего не надо объяснять.
А
если что-то надо объяснить,
То
ничего не стоит объяснить.
Ничего
не стоит?
Ну,
и не стоит. А то начнёшь объяснять и выяснишь, что это не бездна, а просто
небо, ещё и декоративное, а звёзды – сделанные на фабрике звёзд.
А
бездна где-то ещё. И смотрит на тебя, даже если ты зажмурился.
Проза.
______________________________________________________________________
Юрий
Кувалдин
БЕЛЫЕ
РОЗЫ
Рассказ
Слегка
покачиваясь, с головокружением она нащупала пульт и включила телевизор. На
широком плазменном экране как всегда между ежедневными лицами премьера и
президента шла такая же ежедневная развлекаловка, и что-то пели. И это сразу
отвлекло. В белом шелковом облегающем домашнем до пола платье, худющая фигура,
крашеные в какой-то неимоверный цвет, то ли в зеленый, то ли в лиловый, волосы,
огромные бледно-зеленые, немножко выцветшие глаза, макияж, подтянутая кожа
делают Зою гораздо моложе своих лет. Особенно когда она зимой, положим,
надевает норковую шапочку с ленточками шелковыми белыми подвязками, из таких
ленточек школьницы делают пышные банты, как белые розы…
Телевизор
подхватил её ленточки, и оттуда жалобным детским голоском, как в советских
фильмах, унижающих дореволюционную Россию, поют на грязной улице под шарманку
дети нищих рабочих и крестьян, будущих победителей жизни, вознесшихся из грязи
в князи, чтобы уничтожать белую кость - дворян и интеллигенцию, - так вот, из
ящика, реставрирующего совок, понеслась, как двадцать лет назад, песня:
Белые
розы, белые розы, беззащитны шипы…
Что
с ними сделал снег и морозы,
Лёд
витрин голубых?
Люди
украсят вами свой праздник
Лишь
на несколько дней,
И
оставляют вас умирать на белом холодном окне…
Она
притопнула радостно каблучками домашних серебряных туфелек. Да пышные банты, как
белые розы, и тогда Зоя кажется стеклянно-фарфоровой, или хрустально-кукольной,
новогодней, снегурочной с голоском: "Оле-Лукойе!" Девочка, выросшая
на продуктах из распределителей и поправляющая здоровье в кремлёвке,
действительно, кукольна и хрустальна. Какой чудесный, сказочный снег за окном.
Утром
и пробуждение, и подъем были трудными, поскольку накануне она сильно увлеклась
джином с тоником, и курила одну сигарету за другой, и говорила при этом, не
останавливаясь, завораживая компанию своим радио-театральным голосом. И
звенела, звенела, и пела что-то под гитару. Но как Зоя вернулась домой, убейте
её, она вспомнить не могла. Она посмотрела на окно, задернутое голубой шелковой
шторой, и определила, что на улице день пасмурный, потому что в солнечный день
сквозь довольно-таки заметную щель в шторах падал яркий луч света. Массивные
напольные часы пробили одиннадцать.
Пахло
здесь разнообразно, дорого, как в правительственном лимузине, устланном
коврами. В массивных хрустальных и фарфоровых вазах тут и там стояли роскошные
букеты роз, в основном, белых, которые не просто любила, но обожала Зоя, с
шипами и без шипов. В застекленном книжном шкафу из мореного дуба, с резными
карнизами и стойками, плотными рядами стояли толстенные фотоальбомы в
суперобложках, целлофанированных и в переплетах под кожу с золотым тиснением и
с ляссе, или, проще, с ленточками-закладками, прикрепленными к корешкам головок
блоков под капталами таким образом, что их концы выходили за пределы нижних
краев блоков, проходя свободно между любыми двумя страницами.
На
стульях высились скомканные подолы и рукава, трусы и колготки, помятые сорочки
с кружевами и оборками, которые свешивались на паркет, по которому там и сям
валялись пробки, окурки, бутылки, стаканы и рюмки... Из-под кровати выглядывала
батарея не открытых еще бутылок коньяков и виски. Тут же у стены на полу
высились длинные и плоские нераспечатанные блоки дорогих сигарет, а возле,
конечно, стояла хрустальная вместительная пепельница с горою окурков.
Зою
мутило, бросало из огня в полымя, из погреба на лёд, и при этом подрагивало всё
её хрупкое, кукольное тело. Но это было такое близкое, такое нужное, такое
томительно, такое знакомое, привычное, родное состояние, которое невольно
предвещало счастливые минуты поправки. Без мрака падения не бывает света
воспарения. К счастью, Зое даже вставать не пришлось с широкой кровати. Зоя
принюхалась, ноздри ее расширились, и она почувствовала запах виски, который
обожала и никогда бы и ни при каких обстоятельствах ни с каким другим спиртным
ароматом не спутала. В самом деле, на полу рядом с не тронутой еще батареей
стояла открытая бутылка виски, которую ее тонкие пальцы с острыми крашеными в
зеленый цвет ногтями тут же нащупали. Долгая жизнь научила сначала Зою всегда
оставлять выпивку на утро, а потом и запасаться целым арсеналом, чтобы проблем
похмелки и вовсе никогда не возникала. Понимаете, никогда! Зоя даже от этого
чувства причмокнула язычком, привстала, опершись на локоть, приятно скрипнула
кровать, как будто котенок мяукнул, сначала нащупала, сладостно вздохнула, даже
облегченно вздохнула, подняла бутылку и поднесла подрагивающее горлышко к
губам, которые тут же почувствовали горькую резкую влагу, передав это ни с чем
не сравнимое ощущение сразу же языку, потом гортани, а потом и пищевод обожгло
и в желудке приветливо заждавшиеся зрители дружно закричали: "Браво!"
Тут
она заметила окутанного тенью спящего в кресле Витьку Лемехова, усатого,
черноволосого, круглолицего фотохудожника. Такими, как Лемехов, Зоя
представляла себе казаков. Помнится, вчера еще в тусовке был близкий к
дипломатическому корпусу Эдик Стужинский, обещавший спонсорскую помощь в двести
тысяч зелёных на выставку в Манеже. Впрочем, волноваться на этот счёт не стоит,
поскольку на вечеринке были и сами члены дипломатического корпуса из приличных
стран, которые регулярно спонсировали творческую деятельность Зои. Кстати
говоря, её покойный отец, выходец из костромской голодной деревни, в сороковых
годах был послом в одной из скандинавских стран. Но, чтобы не раскрывать тайну
своего возраста, Зоя никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не
рассказывала, что жила там с папой и училась в школе при посольстве.
-
Витёк! - позвала хриплым, треснутым голосом Зоя, и закашлялась.
Пока
она кашляла, Лемехов с невероятным усилием разлепил один глаз и что-то
невнятное промычал, при этом сильно икая и шумно сопя.
-
Иди ко мне, - после кашля сказала она. - Тут вот, - кивнула она на открытую
бутылку, - тут вот…
Лемехов
очень медленно и тяжело поднялся, качнулся и пластом упал с грохотом на ковер.
Спустя некоторое время он ожил и медленно подполз к кровати и принял из рук Зои
бутылку. Сразу же при этом лицо его оживилось, губы присосались к горлышку,
сильно забулькало в горле, на лбу выступил горячий пот.
-
Фу-у-у, - выдохнул Лемехов и вопросительно уставился на Зою.
С
усилием, достойным труда проходчика шахты, стащив с себя брюки и потную
рубашку, Лемехов отбросил одеяло, увидел мрамор тела с синими речками вен и
островком кудрявой рощицы, и навалился тяжелым потным и волосатым брюхом на
утонченную Зою. Но она даже веса его не почувствовала, так увлекло ее другое.
Спустя
час, Лемехов помахал рукой Зое из своего цвета морской волны
"шевроле-авео". Лемехов тоже любил ездить пьяным.
Зоя
стояла с острым ножом с тяжелой серебряной ручкой над свежим лимоном, лежащим
на фарфоровом блюде, и никак не могла разрезать пористую пронзительно желтую
кожу.
Брызнул
сок, обжег язык, и вдогонку ему рюмку виски. Так!
Мало
того, что у Зои довольно большая квартира в старом двухэтажном особняке, так у
нее еще имеется и своя мастерская, здесь же, в доме, под квартирой.
Частенько
Зоя высматривает мужчин из окна своей машины, пока стоит в пробках и
неторопливо оглядывается по сторонам. Зоя очень любит стоять в пробках. Ей
машина и нужна для того, чтобы стоять в пробках. В руках у нее серебристый
цифровой аппаратик. Это в мастерской она работает камерами с широкой пленкой. А
здесь ей нужны зарисовки, даже этюды, или, что проще, некая приманка для
объектов съемки. Иногда мужчины попадаются ей на улице. Тогда она старается,
чтобы ее заметили.
Время
от времени Зоя, смело припарковав свой миниатюрный желтый "ниссан"
прямо где-нибудь на узком тротуаре, когда одно колесо, не поместившись на нем,
свешивалось с бордюра, так вот, тогда Зоя ради нового знакомства с хищным
взглядом пантеры прогуливается, ставя ступни след в след, как на подиуме, в
центре Москвы. Заходит в какой-нибудь бар, чтобы подбросить дров в топку, то
есть махнуть у стойки рюмку виски. И тогда опять весело, опять мир затягивается
розовой вуалью. Хочется обниматься с каждым встречным мужчиной. И за рулем-то
она всегда подшофе.
Когда
наступает подходящий момент, она убыстряет шаг, почти вплотную приближается к
мужчине и делает так, что он ее замечает. То ли толкнет едва, то ли перед ним
резко остановится, а он наткнется на нее, и еще будет извиняться. А она перед
ним в красных губах и в зеленых глазах.
Произносит
она при этом всегда одни и те же слова:
-
Мне нужно сделать ваш портрет.
Возникает
пауза; мужчина чаще всего переспрашивает: "Что?" Она предлагает сфотографироваться.
У нее в мастерской.
Мужчины
после некоторого раздумья, а почему бы и нет? - почти всегда соглашаются. Зоя
вполне равнодушна к белоснежно-зубастым физиономиям - не рекламу же отцов
семейств, пьющих сок "Моя семья", она собирается монтировать в
фотошопе. Кроме того, молодые люди, с какими-то звонко-белыми, будто
пластмассовыми, зубами, и лицами, напоминающими былинных героев, любующиеся
собственной неотразимостью, кажутся ей абсолютно пустыми, даже тупыми. Правда,
кто-то сказал, что актеры и должны быть тупыми, чтобы, как солдаты,
беспрекословно выполнять любое приказание командира-режиссера.
Зою
в этом отношении интересует нечто совсем другое - то, что скрывается за
человеческой внешностью, и она с нескрываемой пристальностью смотрит вглубь.
Так ей, во всяком случае, кажется самой, иначе бы она не напрягалась. Она
выбирает мужчин, по чьему виду легко заподозрить, будто с ними что-то случилось
и это им не очень по нраву, мужчин, на которых словно бы что-то давит, которых
жизнь уже слегка пообломала, обтрепала и хорошенько побила. Немного выступающая
вперед нижняя челюсть, слишком крупный или длинный нос, глаза разной величины,
вообще асимметрия и уравновешивающая ее внутренняя сила - вот свойства,
привлекающие Зою.
Мужчины,
наделенные ими, полагает она, наверняка не страдают так распространившейся в
последнее время театральной самовлюбленностью, ставшей просто каким-то бичом,
ибо какой канал не включишь, везде эти театральные красавцы что-то там изрекают
с экрана, причем неважно что, лишь бы воду молоть в ступе. Напротив, они
отлично знают, что внешность - не самая сильная их сторона и производить
впечатление надо чем-то иным. Однако тот простой факт, что известная,
экстравагантная фотохудожница делает их портрет, заставляет этих мужчин снова вспомнить
про собственную неказистую наружность, далекую от совершенства плоть.
За
тем, как Зоя работает, они наблюдают озадаченно, недоверчиво, но одновременно
ощущая свою уязвимость и странным образом вверяя себя ей. Какая-то их часть уже
принадлежит Зое.
Залучив
мужчин к себе в мастерскую, она держится с ними в высшей степени тактично. Она
усаживает их в огромное черное кожаное кресло, поставленное возле широкого
окна, и поворачивает так, чтобы свет падал прямо на грудь. Она приносит чашечку
чая или кофе, чтобы они почувствовали себя непринужденнее, и говорит, как
признательна им за то, что они согласились фотографироваться.
Благодарность
Зои непритворна: в каком-то смысле она ведь намерена покуситься на их душу -
ну, не на всю душу, разумеется; однако даже крохотный кусочек не так легко
заполучить. Иногда она включает музыку - что-нибудь из классики, не слишком
шумное.
В
определенный момент они уже достаточно расслабляются, и она просит их раздеться
до пояса. Ключицы, с ее точки зрения, необычайно выразительны; пожалуй, даже не
столько сами ключицы, сколько глубокая ямка под кадыком. Там находится, как у
курицы, косточка-вилочка, которая приносит счастье, но для этого косточку
полагается сломать. Биение пульса здесь не совсем такое, как в запястье или на
виске. Чем-то оно отличается. Это то самое место, куда в исторических фильмах
из средневековой жизни вонзается пущенная меткой рукой стрела.
Закончив
приготовления, расставив предметы, идущие в кадр, по местам, Зоя приступает к
работе. Теперь она дорожит каждой секундой и снимает очень быстро. Это ради
самих же мужчин: она не любит растягивать сеанс. Еще во ВГИКе они все
позировали друг другу, и с тех пор она хорошо помнит, какая это мука - сидеть
под нацеленной линзой объектива.
От
довольно-таки громкого щелканья затвора аппарата встают дыбом маленькие волоски
на коже, словно фотоаппарат - вовсе не фотоаппарат, а чья-то рука, которой
проводят вдоль тела в сантиметре от поверхности, как будто делают вращательный
массаж без прикосновения.
Неудивительно,
что некоторые мужчины связывают это ощущение - вполне возможно, эротическое - с
самой Зоей и приглашают ее поужинать или даже уговаривают переспать с ними.
Тут
Зоя становится привередливой. Она интересуется, женат ли мужчина, и если тот
отвечает, что женат, спрашивает, счастлив ли он в браке. У нее нет потребности
связываться с неудачливыми мужьями, с их проблемами, особенно с болезнями, ибо
её не увлекает перспектива дышать воздухом чужой беды. Но коль скоро брак
счастливый, зачем ему приспичило ложиться в постель с другой, пусть и такой
оригинальной женщиной? Если же мужчина холост, то, полагает Зоя, тут тоже есть
какая-то серьезная причина. В большинстве случаев она отказывается от
предложений, но делает это деликатно, не переставая улыбаться.
Она
скептически относится к торжественным уверениям в любви, страсти и
"никогда" не умирающей дружбе, похвалам ее красоте и таланту,
мольбам, жалобному нытью и пустым угрозам - все это ей уже доводилось слышать.
Подействовать на Зою способен только самый бесхитростный довод. "Да
потому, что мне хочется!.." - вот приблизительно то, что она могла бы
принять.
Дом
Зои расположен в падающем круто вниз переулке, идущем от одной церкви к другой,
словно Москва вернулась в девятнадцатый век, когда можно гулять от церкви к
церкви, где всегда открыто, всегда величественно золотится иконостас, горят
свечи, звучат голоса молящихся.
Тем
не менее, Зоя, как правило, хорошо относится к мужчинам, которых любила, и
полагает, что чем-то им обязана. Она продолжает встречаться с ними и потом. Это
нетрудно, ведь их расставания не приносят печали, уже не приносят.
Зоя
сидит против бывшего возлюбленного в маленьком ресторанчике, сидит, одной рукой
сжав под столом скатерть - так, чтобы он не видел.
Она
слушает его с обычным интересом, наклонив голову. Она сильно скучает по нему -
вернее, не по нему, а по тем чувствам, которые он умел в ней пробуждать. Он
больше не кажется ей сгустком света, сейчас она видит его ясно, как никогда.
Эта ясность, эта ее холодная отстраненность подчас невыносимы для нее самой, и
не из-за того, что в нем проступило что-то отвратительное, отталкивающее.
Просто он, по всей вероятности, вернулся к своему нормальному уровню: все, что
в нем есть удивительного и сложного, внятно ей, но у нее с этим не может быть
ничего общего. Он довольно-таки неохотно заканчивает свой рассказ. Что-то о
перепадах в экономике, и в этом духе. По всему видно, что он мог бы говорить
без остановки три года, такой он болтливый. Зоя делает врезку о своей
предстоящей выставке "Мужчина и стиль". С самого начала идея эта
имела довольно узкую направленность, о чем говорит и ее название. Хотя понятие
стиля гораздо шире… Тут она долго, не моргая, смотрит на него в упор своими
огромными, чуть навыкате зелеными глазами, улыбается, показывая свои ровные
новые, с отблесками красной помады зубы.
-
Если у тебя проблемы с женой… - Зоя делает значительную паузу, и после с
придыханием бархатно добавляет: - Надо кончать с подругами.
Вместо
того чтобы рассмеяться, он улыбается ей с мягкой грустью:
-
Понять не могу, как тебе всё легко на свете.
Зоя
молчит. Возможно, он намекает на то, что, когда они расходились, она не
изводила его истерическими телефонными звонками, не было ни разбитой посуды, ни
яростных обвинений, ни слез. Все эти приемы она уже освоила в прошлом и пришла
к выводу, что толку от них мало. Но, может, именно этого он ждал - как
неопровержимых доказательств чего-то, вероятно, любви. Может, он разочарован:
она совсем не оправдала его ожиданий.
-
Меня многое волнует, - говорит Зоя.
-
У тебя столько энергии, - продолжает он, словно не расслышав того, что она
сказала. - Откуда? Открой секрет.
Зоя
опускает глаза в тарелку. Коснуться его руки, лежащей на скатерти совсем рядом
с ее бокалом, значило бы снова поставить себя под удар, а она уже и так рискует.
Когда-то она с упоением шла на риск, но именно тогда она слишком многое делала,
не зная меры. Зоя поднимает глаза и улыбается.
-
Секрет мой вот в чем: каждое утро я встаю, чтобы сделать портрет нового
мужчины.
Это
действительно ее секрет, хотя и не единственный, но именно он выставлен сегодня
на обозрение. Зоя внимательно изучает лицо собеседника: поверил или нет?
Кажется, поверил. Что ж, это естественно: именно такой она ему и
представляется. Он доволен, что у Зои все в порядке и обойдется без неприятностей.
Собственно, это он и хотел услышать. Он заказывает еще чашку кофе и просит
принести счет. Когда счет приносят, и счет для ресторана в Большом Козихинском
переулке приличный, Зоя не дает ему платить, и рассчитывается сама.
Они
выходят на улицу. Март в этом году теплее обычного; этот факт оба тут же
отмечают. Зоя уклоняется от дружеского рукопожатия. Она подходит к своему
желтому, как цыпленок, "ниссану". Ей вдруг приходит в голову, что
перед ней последний мужчина, на любовь к которому у нее хватило сил. Любить -
это такой тяжкий труд!
-
Тебя подбросить? - спрашивает она.
-
Нет. Спасибо. Я рядом, пешком. Меня Фима ждет в своей фирме на Малой Никитской.
Он
машет ей на прощанье рукой, разворачивается и очень деловым шагом удаляется.
Зоя несколько мгновений смотрит ему в спину. Начинает падать медленный снег.
Но
прежде чем ехать, она замечает мужчину, который стоит и курит. Он молод, лет,
примерно, тридцати. У него в руке коричневый портфель. Куртка у парня тоже из
коричневой кожи, он в джинсах, а рубашка оранжевая в черную тонкую полоску.
Прическа сделана под гребешок петуха - последний писк моды. В ухе серебрится
серьга. Кожаный портфель означает, что парень - из художественной среды, имеет
какое-то отношение к искусству.
Снег
делает своё поэтическое дело, то есть просто идет. Снег идёт…
Прежде
Зоя избегала мужчин, даже слегка напоминавших ей коллег, но в этом было что-то
очень уж необычное, если не сказать странное. Угрюмость, нарочитая
агрессивность и к тому же болезненная одутловатость, вообще явное нездоровье,
наводящее на мысль о проросшей в подвале картошке.
Бросив
на молодого человека первый беглый взгляд, Зоя содрогнулась, как от удара: она
словно мгновенно узнала то, что искала давным-давно, сама не зная почему. Она
без всяких церемоний подошла к нему, и произнесла свою короткую всегдашнюю
речь. Она ожидала отказа, более того - неучтивости, но вот он здесь, в ее
мастерской, на нем сейчас ничего нет, кроме его расстегнутой оранжевой в черную
полоску рубашки. Одна бескровная нога перекинута через широкий подлокотник
черного кожаного кресла. В руке - белая роза, которая великолепно гармонирует и
с рубашкой, и с креслом, и с его прической. Те тоже превосходно совпадают друг
с другом. Словно этот молодой человек только что сошел с огромной, ярко освещенной
софитами сцены, где пел "Белые розы".
В
его взгляде, сосредоточенном на Зое, - неприкрытый вызов. Вызов чему? И вообще,
по какой причине он согласился пойти с ней? Сказал он только: "Готов.
Отчего бы нет..." И поглядел на нее так, что ей стало ясно: ни малейшего
впечатления она на него не произвела. Зоя откатывает огромный штатив, на
никелированной штанге которого закреплен с мощным объективом "никон".
Она отчетливо понимает, что надо неимоверно спешить, иначе у молодого человека
обязательно кончится терпение, и он сбежит.
Она
едва успевает сделать пять кадров, когда он вдруг бросает: "Хватит!",
вылезает из глубокого кресла и подходит к ней сзади. Потом обхватывает обеими
руками ее талию и прижимается к ней.
Он
не произносит ни звука, но Зою это не смущает, ей нравится, когда все
происходит быстро. Вот только с ним она чувствует себя как-то неловко. Ни один
из ее безотказно расслабляющих приемов - виски, кофе, музыка, благодарственные
фразы - не возымел действия: молодой человек по-прежнему угрюм и отчужден. Он
недоступен ее пониманию.
-
Да, это искусство, - говорит он, рассматривая огромные цветные и тоновые
фотографии обнаженных и чуть прикрытых мужчин по стенам. Зоя принимает сначала
его слова за комплимент, но он добавляет: - Фотография, пусть даже
художественная, ремесло, подделка под искусство… - Последнее слово произносится
со злобным свистом: ис-с-с-с-ку-сс-сс-сс-тво!
Зое
слышится слово "весло". Девушка с веслом. Это она, Зоя, и есть
девушка с веслом, обыкновенная ремесленница, выдающая себя за художницу. А что
собственно она хочет? Она же только и умеет, что нажимать на спуск
фотоаппарата. Он сам автоматически запоминает кадр на пленке. Этот рулончик
пленки она отдает Витьке Лемехову, а тот содержит целую фирму, маленькую
фабрику, которая делает все остальное, а на самом деле самое главное - печатает
огромные фотографии, подбирает цвета, ослабляет или усиливает их, иными
словами, вносит художественность в механистический перенос жизни на бумагу.
Потом фотографии помещаются в роскошные рамы, под стекло и приобретают
выставочный, или даже товарный вид. А за всем этим огромные деньги, счета в
банках, пластиковые карты, недвижимость, бизнес, спонсоры, целая разветвленная
индустрия так называемого "искусства фотографии".
На
открытии выставки в огромном зале с мраморным полом снуют официанты в белых
сорочках с черными бабочками с подносами, на которых стоят рядами бокалы с
шампанским. Широкоплечие парни в черных костюмах с черными кнопками в ушах -
наушниками, делают вид, что рассматривают экспозицию. На самом деле - это
охранники кремлёвских ценителей художественной фотографии. В зале много
бизнесменов, чиновников самого высокого ранга, дипломатов, спортсменов… Нет
только тех, кто действительно занимается искусством и не околачивается по
тусовкам. А потом Витька Лемехов удивляет всех выстроенными в шеренги и
бесконечные ряды рюмками с виски.
-
Здесь двести рюмок, я считал, - поправляя усы, с нескрываемым восторгом,
подмигивая, шепчет он Зое.
Это
было когда? После Нового года. Всегда близкий к дипломатическому корпусу Эдик
Стужинский, всем своим поджарым видом похожий на арабского скакуна, показывал
свою новую жену, француженку, модель, которая была на голову выше самого
Стужинского, а рыжие чуть вьющиеся волосы ее водопадом спадали до самых ягодиц.
А
теперь Зоя услышала от молодого человека:
-
Фотография, пусть даже художественная, ремесло, подделка под искусство...
У
Зои мгновенно перехватывает дыхание: в его голосе слышится такая жгучая
ненависть. Быть может, если Зоя будет просто стоять и молчать, ничего не
случится? В качестве любовника, однако, молодой человек медлителен, задумчив,
даже отрешен и действует почти как сомнамбула. Его вяловатые движения в
определенный момент кажутся Зое всего лишь запоздалой реакцией на что-то,
словно у собаки, ворчащей во сне. Быть может, и в самом деле главное в жизни -
искусство, думает Зоя, поднимая с пола белое платье, медленно надевая и
приглаживая его на впалом животе и тощих бедрах. "Мадам смерть гремит
костями!" - как частенько смеётся Витька Лемехов. Интересно, сколько уже
раз в жизни она повторяет этот жест - вот так поднимает с пола платье?
Молодой
человек уходит. Зоя запирает за ним дверь, медленно проходит через зал, берет
бутылку виски и делает несколько жадных глотков. В голове всё так ласково,
тихо, приятно закружилось. Она подошла к окну, отдернула занавеску и картинно
оперлась растопыренной пятернёй из острых зеленых ногтей на широкий белый
подоконник. И вдруг что-то резко ударило ей в висок, в глазах вспыхнула ослепительная
молния. Зоя медленно склонилась на подоконник, как белый лебедь, распластав на
нем крылья. Много снега в Москве. А в телевизоре еще раз, как во времена
перестройки, бывший детдомовец повёл жалобным, несчастным голоском припев:
Белые
розы, белые розы, беззащитны шипы…
Что
с ними сделал снег и морозы,
Лёд
витрин голубых?
Люди
украсят вами свой праздник
Лишь
на несколько дней,
И
оставляют вас умирать на белом холодном окне…
"НАША
УЛИЦА" №113 (4) апрель 2009
Поэзия
нового поколения. Татьяна Саганова
__________________________________________________________________
Татьяна
Саганова
Татьяна
Саганова родилась в 1982 году в г.
Ангарске Иркутской облласти. В 12 лет начала заниматься в литературном кружке под
началом поэтессы Н. Н. Кудашкиной. В 2004 году поступила в Литературный
институт им. Горького на семинар Е. Б. Рейна. Работает в СМИ.
*
* *
Мои
сомнения в вас – горы,
Мои
надежды на вас – горсти.
Прошу
– оставьте свои споры,
Прошу
– упрёки свои бросьте.
Не
входят дважды в одну реку,
Прошу
– забудьте меня, ну же!
Я
не люблю ваших глаз негу,
Как
не люблю в декабре лужи.
*
* *
Приговори
меня к безответственности,
К
безнадёжности,
К
неизбежной дискретности,
К
невозможности.
Приговори
меня к холоду.
Нужно
боли учиться смолоду.
*
* *
Давала
слово слова не давать…
Опять
оставлена измятая кровать,
И
рыжим локонам, и хрупкому плечу
Мои
стихи и мысли я шепчу.
Но
я-то знаю: рыжие нам лгут,
Им
не знакомы стыд и Страшный Суд,
Но
что поделать, если силы той,
Что
хочет блага, вечно дом пустой.
Опять
меня мой ангел не упас
От
рыжих локонов и беспощадных глаз.
*
* *
Я
чувствую, как из меня уходит свет,
И
жизнь, и страсть – летят табачным дымом…
Я
стряхиваю пепел прошлых лет
В
людскую память, но всё чаще мимо.
И
дым колышется от сквозняка времён,
Танцуя
в нём причудливые вальсы.
Всё,
что ушло из сердца к небу – в нём.
Я
так докурена, что обжигаю пальцы.
Поэзия
нового поколения. Андрей Чайкин
__________________________________________________________________
Андрей
Чайкин
Андрей
Чайкин (р. 1983) закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2006 году, обучается в
аспирантуре по специальности литейное производство. Многочисленные
стихотворения опубликовал под псевдонимом Потрот Уару в
литературно-художественном журнале «Слова». Посетителям компьютерной сети
знаком как Бонгард Друидов, Захар Самозванцев, И. З. Вращенцев и Чайк Андреев.
Я
– КАИН. Я ПРОСТО ВСЕДА МЕЧТАЛ О СЕСТРЁНКЕ
Не
плачь, братишка.
Поверь
в реинкарнацию.
Когда
будут стрелять с вышки,
Знай
– это я.
Не
спи, братишка.
Готовься
к полнолунию.
Когда
захлопнется крышка,
Знай
– это я.
Не
верь, братишка.
Я
не убийца,
Но
если астма или одышка,
Знай
– это я
помню
о тебе, верю в тебя, молюсь…
но
когда в метро встречаю кого-нибудь по имени Авель,
боюсь,
но
не мести а темно-
ты
ничего не хочешь мне сказать?
высо-
ты
помнишь что обещал мне вчера?
пусто-
ты
всегда такой или притворяешься?
Я
позвоню…
ПО
СТАБИЛЬНОЙ ФАЗЕ КУЛАКАМИ
Дяденька
с руками подошёл и говорит:
половину
парохода
отпилите
мне в подарок
я
как атом углерода
закопался
в фуллерены.
Дяденька
безрукий подошёл и говорит:
парохода
половину
мне
в подарок отпилите
а
иначе я застыну
в
этой позе на проходе.
Я
подумал и ответил:
по
лавину; пола выну;
Пола
в Инну; полови, ну;
половину
половины
по-ло-ви-ну
пароход.
Поэзия
и проза нового поколения. Александра Цапковская
__________________________________________________________________
Александра
Цапковская
Александра
Цапковская, знакомая читателям первого выпуска «Эоловой арфы», продолжает
публиковать свои стихотворения,
по-прежнему работая на радиостанции
в г. Кинешме. Недавно впервые прозвучал цикл песен на стихи А.
Цапковской, написанный местным композитором А. Тюриным.
*
* *
Маленький
свёрток, прихваченный ленточкой,
Но
отчего-то оранжевой –
Это
на свет появилась девочка,
Что
названа была Сашею.
Люди
обычно себя не помнят
В
этом прекрасном возрасте.
Ленточку
рыжую помню точно,
А
остальное – подробности.
*
* *
Моим друзьям
К
Светлому Христову Воскресению
Слишком
много горечи и боли.
Нет
уже надежды на спасение –
Неудачно
сыграны все роли.
В
этой пьесе под названьем ужас –
Скука
и бездонное молчанье.
Кто-то
отравил святые души –
Не
сегодня, а тогда, в начале…
Но,
быть может, стоит возвратиться
К
самому истоку вдохновенья,
Первую
назначив репетицию
В
Светлое Христово Воскресение.
*
* *
А. А. Беловицкой*
Круговорот
людей, времён, страстей,
Падений,
взлётов, или…
Листва,
упавшая с ветвей,
Торжественна
в своём бессилье.
Молчанье
вод и гром с небес,
И
ложь, и правда, грех и святость.
В
глазах родных печальный блеск,
И
рук соединённых радость.
Бессонница,
глубокий сон,
Рожденье
Вечности и Мига.
Биенье
сердца, мыслей звон,
А
всё же, что такое книга?
__________
* А. А. Беловицкая – доктор филологических
наук, профессор, дала научное определение книге: «Книга есть способ организации
текста произведения в текст издания, а контекста произведения – в контекст издания».
Публикацию
стихов
Татьяны
Сагановой, Андрея Чайкина, Александры Цапковской
подготовил
Пётр Кобликов
Поэзия
нового поколения. Борис Кутенков
__________________________________________________________
Борис
Кутенков
Борис
Кутенков родился 5 июня
Пишет
стихи и статьи. Печатался в «Литературной газете», «Студенческом меридиане»,
газете «Литературная Гостиная», альманахе «ЛитЭра» и мн. др.
Финалист
V Всероссийского Открытого фестиваля молодых поэтов
«МЦЫРИ-2008» и II Международного литературного конкурса
им. С. И. Петрова (зима 2008), член жюри III
Международного литературного конкурса им. С. И. Петрова в номинации «Свободный
стих».
*
* *
Тропа
приоткрыта луной, как контекстом - пароним.
Садовые
лилии в гуле ночном потонули.
Фрагменты
мозаики, скрытой от глаз посторонних,
Проносятся,
в гамму собраться спеша цветовую.
И
в смальте блеснули: смешливость лазурного взгляда;
Плетень,
иссушённый пастельно-недвижимой ленью;
Пастух,
матерящий козу, что отбилась от стада,
И
день по-над всем – чуть звенящий, сосудистый, летний.
О
Господи, лето, и я – невидимкой, пыльцою…
Ещё
ни о чём не жалеет грядущее Слово,
Не
знает, чем станет – началом ли света,
концом ли,
Цветочным
жужжанием, запахом, выкриком совным.
Садовые
лилии. Тень фонаря. Копоть детства.
Спондей,
обронённый в траве егозливой природой.
Тропа,
приоткрытая сном, как омоним – контекстом.
...Ещё
ощущенье, и контур – на ощупь, на одурь.
*
* *
«Хорошо
то пишется, что выжжется
Болью,
раскалённой добела...»
Анатолий Жигулин.
Расстоянье
– склеенными паззлами.
Расставанье
– хрустом позвонка.
Чемоданы.
Юг. Христа за пазуху,
Ветра
в паруса и – пол-звонка.
Лишь
вина сочится винным маревом,
Кровью
обесстрочивая залп.
Душу
перевязываю марлевым
Взглядом,
неотвязным, как лоза.
В
небе губ, в – непрочно-непорочной их
Дерзости,
в – открытости плеча
Чахли
сорняки обид беспочвенных,
Беспредметны
ревность и печаль.
Ты
летишь – священна, как реликвия,
Я
стою – недвижен, как реликт…
О,
когда к устам твоим приникну я,
Чтобы
вырвать грешный свой язык
И
благословить, себе не дав орать,
Тишиной
земною в путь, как в бой, –
Боль,
овеществлённую метафорой,
Боль,
пресуществлённую тобой.
Литературное
объединение «Радуга». Рузский район Московской обл.
__________________________________________________________________
«РАДУГА»
РУЗСКОГО РАЙОНА
Эти
авторы занимаются в литературном объединении «Радуга» при отделе культуры
администрации Рузского муниципального района.
Сергей
Субботин – психолог детского приюта в Сытькове, лечит детские сердца словом. В
стихах молодого человека ощущается влияние поэтов Серебряного века, но это не
слепые подражания им, и у него уже оформляется свой интересный поэтический
голос.
Алёна
Канощенкова, Полина Голикова, Маргарита Балакирева пробуют себя не только в
поэзии, но и в прозе, в жанре рассказа. Техника стихосложения у девушек порой
«хромает», однако у них уже набиваются руки и всё лучше оттачивается слово.
Рассказы в большей части короткие и в то же время – со своей образностью и
философией.
Молодые
авторы публиковались в местной печати и в «Литературной газете», на полосе,
посвящённой нашему объединению.
Желаю
нашим питомцам увлекательного творчества!
Николай
Алёшкин,
руководитель
литературного объединения «Радуга»,
Рузский
район Московской области
Сергей
Субботин
Сергей
Субботин родился в 1974 году в Москве. Его детство прошло в разных городах
бывшего СССР, в связи с переездами отца, офицера советской армии, на новые места
службы. Психолог. Работает в социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних в подмосковном городе Руза. Стихи пишет с 1996 года. В
официальных печатных изданиях не публиковался. Помимо психотерапии и
стихосложения увлекается компьютерной музыкой и фотографией.
*
* *
Как
мало создано в любви и чистоте,
Гораздо
больше – во грехе и муках
Мятежных
душ в искусствах и науках
В
угоду странной недоступной красоте.
В
угоду древней страстной тяге к высоте
Полёта
мысли, алчущей познанья,
Тьмы
добровольцев выбрали страданье,
Но
большинство осталось в пустоте,
В
безудержной духовной нищете,
Где
либо водка, либо страх и скука,
Извечная
бессмысленная мука
Рождает
вечность правды в простоте.
2008
*
* *
Банальна
мука ожиданья
Глупа
бессмысленна жестока
Но
запах суетного рока
Творить
толкает мирозданье
Из
кирпичей-осколков веры
Сложить
витраж во славу света
Ценою
вечного запрета
Купить
кусочек небосферы
И
ждать не проходящей мимо
Слепой
бессовестной гадалки
Что
ткнет во тьму костлявой палкой
Сотрет
с души остатки грима
Проводит
до заветной двери
Пинком
пошлет навстречу счастью
Чтоб
насладиться высшей властью
Я
стану рыком первозверя
Я
буду похотью блудницы
Бескомпромиссной
жаждой власти
Огнем
греховной первострасти
Гвоздями
в праведных десницах
Водой
омывшей кровь Пилата
Землей
отторгнувшей Иуду
Я
буду всем Собой не буду
Но
такова моя расплата
За
дар пройдя горнило страха
Сомнений
жернова и боли
Познать
на миг границы воли
И
раствориться в море праха
2006
*
* *
Как
будто что-то вдруг ушло
И
никогда не возвратится
И
больше сердце не стеснится
Зияет
страшное дупло
Как
будто что-то потерял
Не
знаю что но безвозвратно
Почти
всерьез почти понятно
На
полпути гвоздём застрял
Как
будто что-то не сбылось
Чего
непоправимо жалко
И
впереди темнеет свалка
И
в темя прошлое впилось
Как
будто что-то упустил
И
не по глупости по злобе
Пересидел
в земли утробе
А
корешков не прорастил
2006
Алёна
Канощенкова
Алёне
Канощенковой – 17 лет. Она – студентка 1-го курса факультета филологии МГГУ,
член литературного клуба имени поэта-земляка Николая Дмитриева. Живёт в посёлке Тучково Рузского района
Московской области.
ХИТРАЯ
НАУКА
(Сказка)
В
некотором царстве, в некотором государстве жил был бедный мужик. Избушка у него
была старенькая, лошадёнка тощенькая, огородик травой заросший. И, ко всем
прочим бедам, сын у него был умный, Наумом звали. Парень молодой, статный, да
уж больно мудрёный, работать не хочет, слова непонятные говорит.
Мучился
мужик, мучился, да и решил такой науке сына обучить, чтобы жилось ему и легко,
и сытно, и почётно. Продал он свою избушку, завязал пожитки в узелок, да и
отправился учителя для Наума искать.
Ходил,
ходил, пришел, наконец, в один город. Ходит, спрашивает у всех, где учителя
найти, да кому ни расскажет про сына, все смеются и пороть посильнее советуют
такого сына. Или в институт отдать. А в институте таких умных не берут, да и
денег много просят. А где же денег взять? Плюнул мужик, да дальше побрёл.
Бродил,
бродил, добрался до села. Большое село, богатое. Ну, – думает, – тут-то я сына
и пристрою. Ан нет, опять все смеются, да в ПТУ парня отдать советуют.
Посмотрел он на это ПТУ, да испугался. Ходят там все какие-то странные, и глаза
у них дикие. Нехристи, одним словом. Перекрестился мужик, да потопал прочь из
села этого.
Топал,
топал, да и притопал в поселение. Городского типа какого-то. Обошел всё
поселение, ничего путного там не углядел, обратно пошёл. Встретился ему по
дороге господин один. В костюме нерусском, да при галстуке, сам из себя
дородный, представительный. Оробел мужик, а господин и говорит ему: «Слышал я
про твою беду. Могу тебе пособить. Научу твоего сына такой науке, что житься
ему будет сытно, легко, да лениво. И денег за это не возьму». – «А что же это
за наука такая?» – спрашивает мужик. «Политика называется», – отвечает
господин. Тут они по рукам и ударили. Привёл мужик сына своего, да и отдал
господину галстучному в обучение. Спросил только напоследок, когда забрать
Наума можно будет. «Через пять лет приходи. Только если не узнаешь его потом –
на себя пеняй. Обратно не верну», – господин ответил.
Долго
ли, коротко ли, прошло пять лет. Пора уж мужику и за сыном идти. Собрался
мужик, да в путь отправился. Нашёл господина галстучного – ещё толще господин
стал, да и лицо у него вроде не то, – и спрашивает: «Где же сын мой? Отдавай
его обратно». – «Не узнал ты меня, батя, – господин отвечает. – Останусь теперь
здесь ещё на два года. Учителю моему секретарём». Что же делать, раз
секретарём? Пошёл мужик назад.
Вот
и ещё два года пролетели. Снова надо в поселение то возвращаться. Пришёл мужик
– видит, поселение обеднело, домишки разваливаются, народ в лохмотьях. А на
краю два дома – большие, красивые. Заборами высоченными обнесены, что ни птице
перелететь, ни зверю перескочить. А при воротах кованных охрана стоит грозная.
Подумал мужик, подумал, да и пошёл обратно.
Жил
он один, не тужил. Но прошло ещё два года, и заскучал отец по сыну, да так, что
хоть в петлю лезь. По-новой собрал пожитки и в путь-дорогу пустился. Пришёл,
глядь – а домов тех и нет уже. Парк на их месте, и детишки бегают, играют. А на
лавочке нищий сидит. Грязный, растрёпанный. Пригляделся мужик – да это его Наум
и есть. Обнял сына, да домой повёл. Идёт, ругает по дороге. Девять лет прошло,
а как был сын бедным, так и остался. Ни работы, ни денег не получил, только
время зря потратил.
Пригорюнился
сын, молчит. А потом вздохнул и говорит: «Придумал я, как нам денег добыть. Я
зверем невиданным обернусь – партийный деятель называется, а ты меня продай.
Только цепь, на которой поведёшь, не отдавай». Сказал, плюнул, свистнул и
обернулся зверем невиданным - неслыханным. Надел мужик на него цепь и повёл на
рынок продавать. А там как раз партийцы-агитаторы проезжие остановились. Продал
им мужик зверя-политика в партию, только цепь себе оставил. Идёт по дороге и
думает: «Где же теперь мой Наум?», – глядь, а сын его догоняет.
И
ещё раз они так сделали, а на третий потребовал покупатель: с цепью
зверя-политика отдать. Начал, было, мужик сопротивляться – да не вышло.
Покупателем-то тот самый господин оказался, что Наума оборотнем-политиком
сделал. Загоревал старик, да поздно было.
А
господин зверя-политика в дом свой новый, богатый привёз. Цепь снял и говорит:
«Ну, давай, поглядим, кто кого». Обернулся тут Наум человеком, и пошло у них
противоборство. Господин предпринимателем обернётся, а Наум банкиром и ну его
душить. Выкрутится учитель и в политики полезет. Дошли они, наконец, до
президентства, а дальше уж только войну впору затевать. Да не простую войну,
всемирную. Подумали тут оба, подумали и решили мировую заключить. Отдал
господин за Наума дочь свою красавицу-раскрасавицу и приданное богатое им дал,
и зажили молодые весело да ладно. И старика-отца к себе взяли.
ГОРОД
Город
раскинул крылья,
Оброс
крепостной стеной,
Окутан
пологом пыли,
Привычный
такой, родной.
Без
имени и без прошлого,
Без
памяти, не без зла.
Что
было плохого – хорошего,
Затянет
серая мгла...
И
Город, как странник вечный,
Глядит
– через полога пыль –
В
день будущий, в день бесконечный,
Чтоб
сказкою сделать быль.
Мой
Город, границы смазаны –
То
жизнь или сказка? – пустяк.
Мы,
верно, с тобою связаны,
В
душе моей будет – так.
Полина
Голикова
Полина
Голикова родилась в 1987 году. Член литературного объединения «Радуга». Живёт в
посёлке Тучково Рузского района Московской области.
* * *
Если стихи не пишутся
Значит это кому-нибудь нужно
Значит нет определенности
И великой самовыразительности
Если стихи не пишутся
Значит пришло время прозы
Она заполнит собой все предоставленное ей место
И расставит все свои фото по всем углам
* * *
Странная весна пришла
Пальцы чувствуют свободу и немое притяжение
Странная весна пришла
Можно улыбаться и болтать с друзьями
Ощущая внутри тяжесть и боль неуверенности
Он пришел из внешнего мира
Он вошел в твой мир внутренний
И теперь бродит в нем распахивая двери и открывая
окна
А за окнами странная весна
И ты просыпаешься. А потом засыпаешь.
А образ – все тот же. Он пророс в твоем сознании,
пустил корни – теперь тебе надо кушать за двоих.
И тебе хочется написать миллионы-миллионы слов. И
сказать вслух еще несколько миллиардов. А ты даже не знаешь, как его назвать.
Как его – любить? Странная весна.
Тебе не хочется думать. Тебе не хочется делать. Тебя
заполнили звуки открытых окон твоей души.
*
* *
Высветленные
строчки
Едва
не расплескавшиеся
Растрепанные
Льнущие
к ногам
Испытывают
взглядом
Бесстыдно
громкие
Радуются
* * *
Ты задаешь мне вопрос
а мое сознание распадается на миллиарды осколков
а мое тело на пересечении всех возможных миров
и я не хочу это никак называть
и я хочу только снова слышать твой голос
пускай разобьются все зеркала
пускай все реки покинут свои берега
пускай неисчислимое количество солнц вспыхнет на
небе
все равно
я просто хочу быть твоей
и только
* * *
Я всегда ощущаю твое присутствие рядом, даже когда
тебя рядом нет. Это чувство меня согревает, уменьшая количество выкуриваемых
сигарет. Я не знаю, что ты ощущаешь сейчас там, далеко от меня, просто знай –
для тебя одного сохраню я свечение нового дня.
* * *
Радио, звонки, шаги, разговоры, споры… Устала. Хочу
на море. Хочу к прибою. Не одна – с тобою. Чтоб сквозь пальцы песок, свежевыжатый
сок, тонкое одеяло, чтоб вставать, когда попало, а не когда надо кому-то
посторонним. А за окном – дождь…
*
* *
И
хочется быть птицей – банально, но правда. Пара взмахов крыла – и ты уже НАД.
Еще немного – и облака обволакивают тебя своими ватными объятиями.
Птицы
– они как вектор, как бесконечная мысль, как вечное стремление.
Даже
пингвины...
* * *
Однажды… за чашкой горяченького зеленого чая с медом
туарегу пришла в голову мысль о том, что его жизнь – всего лишь песчинка под
безмолвными звездами, а все его чувства, искания, переживания – тщета… И тем не
менее, подумал туарег, – каждое его слово немного сдвигает ось этого мира,
заставляет шевелиться маленький листок на кроне Мирового Древа, а следовательно
– обдувать ветерком одного из бесконечного числа хрустальных эльфов,
сосредоточенных жителей обоих миров.
Маргарита
Балакирева
Маргарита
Балакирева – выпускница Тучковской средней школы № 2. Ныне – студентка 3-го
курса филологического факультета Московского государственного университета.
Поход за знаниями нелёгкий, но увлекательный, так же, как в страну поэзии. На
суд читателей, кроме стихов предлагается рассказ.
ИЗ
ЖИЗНИ МУСОРНОЙ КОРЗИНЫ
Под
столом стояла корзина. Корзина для мусора. Много было у неё друзей: пишущая
ручка, пузатая чернильница «Жорж», цветастый гобелен, механический карандаш,
отрывной календарь, замшевый стул. И все любили её по-своему.
Пишущая
ручка отправляла в корзину свои ошибки: исписанные документы, порванные
стержнем векселя, измазанную бумагу.
Чернильница
«Жорж» плакала фиолетово-сине о своей молодости и о своем «романе» с пушистым
пером.
Гобелен
пыхтел пылью о «старом-добром», бранил канцелярскую молодёжь в «хвост и гриву».
Пыхтел, пыхтел...
Механический
карандаш терзали творческие муки; он ежедневно отправлял в корзину скомканную
бумагу с незаконченными эскизами.
Календарь,
вздыхая о быстроте и несовершенстве времени, выбрасывал в корзину дни, меченные
красными и серыми числами.
Корзина...
корзина принимала всё: и рваные тетради ошибок, и пыль брюзжания, и чернила
прошедшей любви, и грифельные растушёвки творческих полутеней, и оторванные
листы беззащитности. Корзина принимала и терпела.
А
по ночам думала о чём-то своём, соломенно-нежном. Рядом поскрипывал тихо стул,
грея свои ножки в лунном олове. Проходили уныло-волшебные ночи, наступали дни.
И летела в корзину исчерченная бумага.
Корзина
никогда не жаловалась на свою роль «общественного мусорщика», но никто не знал,
о чём мечтала она, кого любила, какие ошибки совершала, жалела ли о времени,
осуждала ли молодость или старость, какие творческие желания вынашивала в
соломенной душе. Она была для всех и никому по-настоящему не нужна.
Только
стул жалел корзину, так как ему нечего было бросать в неё и дать ей, кроме
замшевого молчания.
Летели
дни, наполняясь чернильным мусором. Никто не знал, что самое грязное место в
кабинете было самым чистым на земле.
Летели
дни, и жизнь продолжалась. Жила и корзина.
*
* *
Смоделируем
ситуацию: я дома.
И
вот побежали запахи, запрыгали тени от чайника,
Сигаретный
туман в туалете,
Падающие
на паркет чашки.
Летающий
виноград по полу.
Мрачно,
холодно и мокро,
Сыро,
студко, блудко,
Не
краски и не настроения.
А
так, осколочки сухих
Эмоций.
*
* *
Меня
ждёт ковёр, два бокала с чаем,
Рифмы
на «чай», на «ковёр» не выэскизить.
Жутко,
вписавшись в пару тональностей,
Себя
в квадрате изобразить.
Куда
ни глянь: прут искания, прёт индивидуальность.
Пойди
на это «индии»-и найди сочетание
Звуков.
И даже если не хочешь в квадрат,
Будешь
в тетратрепараллетрат
Впихнут
и вписан кистями сальными.
*
* *
А
потом я получу диплом с каёмочкой,
С
кисточкой – шапочку,
Буду
работать чем-нибудь.
Не
плохо бы, школьной вешалкой,
С
окладом в рубль двадцать.
Можно
работать грацией
В
пыльном шкафу кабинета музыки.
А
можно – скрипичным ключом,
Скрипящим
в замочной скважине?
ВО
ПЛЕСКОВЕ ГРАДЕ
Во
Плескове-граде,
Что
стоит на реке,
На
высоком брегу Великой,
Во
Плескове-граде
Жил
юродивый,
Во
Плескове-граде
В
крепостной стене
За
Плесков стоял
С
молитвою.
Раз
в великий град
Собирался
царь,
Во
Плесков Иоанн
Путь
держал,
Чтобы
сечь, рубить,
Чтобы
люд казнить
И
бояр утопить в крови.
Собирал
Плесков,
Собирал
княжий пир.
Во
Плескове звенел набат.
И
юродивый сам
Подносил
царю
То,
за чем прискакала рать.
Вместо
крови людей,
Вместо
плача церквей
Николашка
подал царю
Сыра
мяса кусок,
Сыра
мяса шмоток,
И
во гневе застыл Иоанн.
«Что
ты, смерд, мне даешь?
Я
ль не христианин?
Мясо
– в пост! Надоумил народ?» -
«Не
гневись, царь-отец,
Разберись:
лучше в пост
Мясо
есть, чем пить кровь врагов».
Призадумался
царь,
Потемнело
чело,
Развернул
боевого коня.
Ускакал
Иоанн,
С
Крома горе ушло,
Над
Великой взыграла заря.
Во
Плескове-граде,
Во
соборном чертоге,
Во
Плескове-граде
Спит
юродивый.
Во
Плескове-граде
Стены
да дороги
Омываются
только
Бузиной
да смородиной.
Письма.
Татьяна Бек – Татьяне Черыговой
__________________________________________________________________
Татьяна
Бек
(1949
– 2005)
Татьяна
Бек – ярчайшая представительница поэтов семидесятников-восьмидесятников.
Родилась и умерла в Москве. Дочь писателя Александра Бека. Окончила МГУ.
Работала в журнале «Дружба народов», «Вопросы литературы», вела творческий
семинар в Литературном институте им. М. Горького. Автор книг стихов
«Скворешники» (1974), «Снегирь» (1980), «Замысел» (1987), «Смешанный лес»
(1993), «Облака сквозь деревья» (1997), «Узор из трещин» (2002), «Сага с
помарками» (2004), а также книги мемуаров, бесед, эссе, стихов «До свидания,
алфавит» (2003). В 2005 году в издательстве «Б. С. Г.-Пресс» вышла книга
«Татьяна Бек. Она и о ней», в которую включены последние стихи поэтессы и
воспоминания-мемуары о ней ее собратьев и сосестер по перу.
«Эолова
арфа» предлагает читателям два письма Татьяны Бек, адресованные ею поэтессе
Татьяне Черыговой, которая бережно сохранила их в своем архиве.
1.
Татьяна БЕК – Татьяне ЧЕРЫГОВОЙ
__________________________________________________________________
(Письмо
отпечатано на бланке с грифом журнала «Дружба народов»)
18
марта 1988 г.
Дорогая
Татьяна Федоровна!
С
интересом и с вниманием прочитали присланную Вами рукопись стихотворений.
Скажем сразу: это – стихи, и Вы –
человек, в поэзию пришедший неслучайно.
Однако,
ощущая потенциал Вашего поэтического направления, хочется сказать откровенно и
о том, что оно, на наш взгляд, не набрало пока зрелых и самобытных сил. Верлибр
– форма, в которой Вы работаете, - тогда лишь отличается от вяло рифмованной и
разбитой на стиховые строчки прозы, - когда в нем есть сугубо лирическое и
остро индивидуальное мировосприятие, образная смелость, высокая концентрация
мысли и чувства. А в Ваших верлибрах пока слишком много встречается красивостей
и засахаренных «общих мест»... «Бархатные ресницы ночи», «лучик сна», «колыбель
моих снов», «золотой образок солнца! – все эти заштамповано романтизированные
образы выписаны из одного небольшого
стихотворения. Подобные метафоры, даже если не являются прямым подражанием
чему-то или кому-то конкретному, - все равно производят впечатление
вторичности, эпигонства, несамостоятельности. Тут, именно тут – Ваша главная
пока беда (верим, что Вам удастся ее изжить). Вы часто, как видно, не можете
критически оценить и прояснить для себя написанное – и в прекрасных самобытных
и свежих стихах (у Вас) попадаются чужие штампы, а Вы как бы не отличаете одну
«породу» от другой. Великолепно начато стихотворение «Как внезапно гроза
разрыдалась...», но вскоре Вы съезжаете опять на приподнятую красивость: «было
красиво и страшно в кипящей страсти...» Если вспомнить известную реплику Льва
Толстого: Вы пугаете – а читателю не страшно! Куда страшнее, пронзительнее,
одухотвореннее простые прозаические детали в стихотворении об отце и матери –
керосин... рыжики в засоле... Тут Вы не
пугаете, а сердцу и страшно, и больно, и сострадательно.
Мы
настоятельно советуем Вам отказываться от таких не много стоящих образов –
прорывайтесь вглубь, к своей сердцевине, к тем словам, которые скажете только Вы. «Солнце запело лучами...»,
«Симфония дня звучит над миром...», «Смолы стекают, как слезы...», «Птицей
вспорхнул ветерок...» - все эти примеры можно множить и множить, а хочется,
чтобы в новых Ваших стихах было как можно меньше расхожего – как можно больше
неповторимого и незаменимого.
На
этот раз мы возвращаем Вам рукопись, но заверяем Вас, что всегда будем рады
познакомиться с Вашим творчеством на принципиально новом витке, на
расширившемся лирическом пространстве. Верим в Вас.
С
искренним уважением
редактор
отдела
поэзии
Т.
А. БЕК
2.
Татьяна БЕК – Татьяне ЧЕРЫГОВОЙ
__________________________________________________________________
(Письмо
отпечатано на бланке с грифом журнала «Дружба народов)
6
мая 1988 г.
Дорогая
Татьяна Федоровна!
Рада,
что мой предыдущий отклик пришелся Вам по душе.
Ваша
новая подборка понравилась мне больше – в ней нет того обилия красивостей,
«поэтизмов», романсовых штампов. В ней есть Вы! Хотя «рецедивы» и встречаются:
«оставив сказочный образ свой в безграничном просторе...», или «струится в века
по древним законам божественного
мытарства...», или «вершины, упирающиеся в голубизну...»
В
принципе в подобных вечных формулах
нет ничего предосудительного, но все же и они должны «играть» и поражать
читателя неким новым, хотя и вечным смыслом. Как хорошо сказал о затертых словах
один современный поэт:
Их
протирают, как стекло,
И
в этом наше ремесло!
В
Ваших стихах привлекает сосредоточенность на главных, существенных, несуетных
проблемах бытия; очень хороши стихи о надежде, славе, увядании...
Думаю,
что Ваш дар находится сейчас на той стадии роста, что нужно писать как можно
больше. И не просто писать – а жить, жить стихом, образом, творческим
восприятием мира и себя в мире.
Не
могу гарантировать Вам скорого и бурного печатания (уровень журнальной поэзии
нынче очень высок – и создается невольный «конкурс», особенно среди
дебютирующих авторов, говорю с Вами откровенно). Однако это не должно тормозить
и останавливать Вас. Главное – писать настоящие стихи, а публикация обязательно
состоится.
...Я
пока оставляю Вашу рукопись в редакции. Ничего не обещаю. Но, может быть,
попытаюсь способствовать Вашей публикации.
Присылайте
другие стихи, но когда напишется цикл действительно новых вещей.
С
уважением –
редактор
отдела поэзии –
Татьяна
Александровна БЕК
Поэзия.
Верлибры и белые стихи. Татьяна Черыгова
__________________________________________________________________
Татьяна
Черыгова
Татьяна
Черыгова родилась в Ижевске. Окончила Театральное училище им. Б. Щукина.
Работала актрисой, режиссером.
Поставила
спектакли по произведениям Жан Жака Руссо, Александра Володина, Василя Быкова,
Виктора Астафьева, Евгения Носова, Жана Ануйя, Эмили Дикинсон.
Печаталась
в газетах «Московский комсомолец», «Сударушка», в альманахах «Истоки»,
«Поэзия», «Автограф», в журналах «Юность», «Литературная учеба», в «Антологии
русского верлибра».
Автор
книг стихов «В белом саду», «Небесное задание», «Призвание нашего слова»,
сборника сказок «Анютины цветы».
Живет
в Московской области, в городе Пущино на Оке.
***
Грибные
места
и
долгие поцелуи,
унылый
костер и пустырь,
общежитие
длинное.
Жизнь
не складывалась,
складывались
стихи,
и
за это Тебе
спасибо.
***
Запущенного
сада такого,
бесхозного
и родного,
давно
не бывало у счастья.
Я
в радость входила
сквозь
тесные врата
из
сучьев, стволов и листьев.
Нежность
светилась в глазах.
И
вещие сны не пугали,
а
только смущали.
***
За
стенами дома
гуляет
дурная погода –
ода
Пространству.
Еле
видна дорога.
И
вот и огни – фонари,
словно
звездочки,
пойманные
на крючки.
Славно
сияют и на ветру.
Они
подражают Светилу.
***
Где-то
очень высоко,
не
от мира сего,
анфилады
мирозданий
открывают
гармонию счастья.
Ветер
доносит
Ветхозаветную
тайну
как
бы случайно.
***
Твое
чувство любви отвергли.
Но
оно же осталось с тобой.
Его
не украли.
Какое
счастье, что его не убили!
Ты
сможешь дарить его миру.
Так
складываются витражи,
что
глядят, не мигая,
на
алтари.
***
В
тяжелую минуту
я
вечер обнимаю.
Подушку
не взбиваю.
Сижу...
Свиданья
жду с луною:
она
согреет мне Арбатского вина
и
вдохновенно пропоет
Шоссона.
***
Весь
день была занята.
Весь
день по тебе скучала.
А
форточка все замечала,
раскачивалась
слегка,
скрипела,
скучать мешала.
***
Мисюсь,
где ты?
Не
оступись!
Гудки,
гудки, гудки...
А
где-то
перекликаются
языки,
высокие
мысли...
Так
хочется любви!
***
Ты
очень близко ко мне подошел –
тетива
моей любви слабеет.
Я
не могу пронзить твое сердце,
когда
ты совсем рядом.
Я
вижу твои глаза и губы,
слышу
твое дыхание.
Я
замираю в твоих руках,
И
каждый раз навсегда.
***
Минутной
слабости своей стыжусь.
Она
была, как обещанье счастья.
Но
надо жить,
с
моей душой уладить споры
и
снова браться за работу,
что,
как ребенок, под рукою
требует
заботы.
***
Снова
заморозки.
А
это возможность остаться
наедине
с проводами.
С
годами
они
становятся даже друзьями,
и
ненастье перетекает в счастье.
Пугающая
маета отступает,
когда
кружится сонатина.
Сонатина
для флейты
приглашает
на танец с пастушкой –
веселою
хохотушкой.
Даже
заморозки на окне
фантазируют
свое концертино.
Ночи
уходят, рождаются дни.
Рады
друг другу люди, грибы.
Высохнет
небо, станет тепло,
белочка
прыгнет
к
тебе на плечо.
***
Лишь
до рассвета
лунная
шляпка цветка
в
лепестках сохранит
сокровенную
нить желания.
Преображений
коснутся лучи –
раскроются
вновь виражи.
И
я не смогла усидеть
под
навесом в тени.
***
Всматриваюсь
в горизонт, где буря
давно
уже кроет небо, а мне бы –
где
не хлопают ставни и двери,
где
пейзаж разноцветный
по
континенту гуляет,
где
все из Ван-Гога, Сезанна, Гогена.
На
разных широтах
мы
разного пола и года,
но
половодье инстинкта в начале сезона
едино
и беспризорно.
Можно
извлечь со дна
идею
о сублимации...
Мелкие
войны душевные,
окопы
сердечные,
геростраты
притворные
форсируют
берега Марны,
настигают
поля
неожиданным
темпо-ритмом
в
пространстве холста.
***
Завидую!
Василек
–
веселый
цветок.
Растет
среди звезд
и
колосьев.
И
небу любо,
и
земле хорошо.
***
Капризно
созданы цветы
и
оттого изящества полны.
Здесь
трезвый ум не приложил труда.
Цвела
душа и формы обрела.
***
Виталию Бакуменко
Ветер
и пламя играют.
Закрываются
веки...
мерно
и не спеша,
приближается
скрип телеги –
мелодия
тысячелетий.
...Заколосилась
пшеница,
душисто
гречиха цветет,
подсолнухи
вскинули лица,
и
радость эта длится и длится.
У
самого горизонта
открываю
глаза лениво.
Пламя
угасло,
а
ветер гуляет.
Свежо
и счастливо.
***
Теперь
не для премьер букет
и
не для встреч,
не
для признаний...
Так...
стоит в вазе,
хрупкий,
одинокий,
как
нечто,
что
жило и цвело,
к
высокой лексике вело,
одухотворяло
корни слов.
И
это ль не обидно?..
***
«Печаль
моя светла...»
Блюз
на все времена.
Расписание
изменилось,
но
нас встречают,
не
взглянув на табло
и
года.
Поэзия
семи-восьдесятников. Сергей Каратов
__________________________________________________________________
Сергей
Каратов
Сергей
Каратов – автор восьми поэтических сборников. Окончил Литературный институт им.
М. Горького. Публиковался в «Новом мире», «Юности», «Смене», «Октябре», «Дне
поэзии», а также в современных журналах «Наша улица», «Предлог», «Московский
Парнас», «Зинзивер», «Острова», «Кольцо А», «Царицынские подмостки», «Дети Ра»,
в альманахе «Эолова арфа» (в 1-м выпуске 2009) и т. д. Переводился за рубежом.
Пишет не только стихи, но и прозу, выступает в периодике как критик и
публицист. Выступает на радио и в региональных телеканалах.
Его
работы можно встретить в «Литературной газете», «Литературной России», в
«Независимой газете», в газетах «Культура», «Информпространство», «Глагол» и т.
д.
Член
Союза писателей СССР с 1983 года. Член Союза писателей Москвы.
Официальный
сайт Сергея Каратова: karatov.narod.ru
ДОРОГА
– ПИРШЕСТВО ДУШИ
Товарищ
юности вчера,
Как вихрь, ворвался, и с порога
Увлек в еще одну дорогу,
Опять вдвоём, и, слава богу!
Прощай почтенная хандра!
Среди отживших, крепких зим
Я грелся мысленным вторженьем
В покои, в чьи-то отношенья…
Тепло живое и движенье
Являл расщепленный бензин.
Дорога – пиршество души.
И повод есть – обмыть покупку.
Могли бы приложиться к кубку…
А вдруг заставят дунуть в трубку,
Пусть даже где-нибудь в глуши.
Но друг моим словам не внял –
Был смрад вокруг, и пиво пенно,
Мир разлагался постепенно.
«Москвич» наш прутиком антенны
Сны неустанно разгонял.
Казался джунглями эфир,
Ночными звуками кишащий…
Март доносил концерт кошачий.
Воспоминаний мёд горчащий
Нам уготовил этот пир.
Льдом одевалась колея,
Мелькали спящие селенья.
Во многом склонны к распыленью,
Мы озирались с сожаленьем:
Куда так мчится жизнь сия?
Куда снесло потоком дней
Беспечность нашу и отвагу?
В антенну обратили шпагу.
…Мы не напрасно дали тягу
Из
царства собственных теней.
В
ПЛАВАНЬЕ
Рыбный
запах от кают.
Ива,
иволга и Волга
Мне
покоя не дают.
Я
бы мог под этой ивой
Уклею
кормить крупой
И
коня с игреней гривой
Приводить
на водопой.
Я
бы мог над этой кручей
Пятистенную
срубить,
Я
бы мог, на всякий случай,
Многих
женщин не любить.
А
любить одну и долго,
Опекая
наш уют.
Ива,
иволга и Волга
Мне
покоя не дают.
ДЕРЕВО-ПАМЯТЬ
Все
раскидистей дерево-память
Разрастается
из года в год.
Воспевают
за паветвью паветвь
Птицы
– души умерших забот.
К
холодам и ветрам непокорней
Простирается
дерево вширь,
И
объяли незримые корни
Стародавний
вселенский пустырь.
Отразилось
в лазурных озерах,
Насыщается,
дышит, живет!
То
заслышу таинственный шорох,
То
в ветвях его скрипка поет.
И
какие б ни выпали сроки,
Тень
его мне желанней всего:
Все
земные сладчайшие соки
Сквозь
меня перельются в него.
Подумать
только, что за блажь –
приют
приглядывать летами,
и
жилистый плести шалаш,
и
устилать его цветами.
Жить
миром лилии, леща…
Бросаться
вплавь, сдувая ряску,
и
всей чащобой трепеща,
тащить
широкого подъязка.
Иль
уходить в столетний лес,
где
каждый пень – журнальный столик,
и
восхищаться, что исчез
и
никуда спешить не стоит.
Чтоб
только отблески весла,
чтоб
только шорох краснотала,
чтоб
память буйно заросла,
непроходимой
чащей стала.
*
* *
Такую
грусть - откуда что берётся? -
все
чаще нагоняют ноябри.
Вплетётся
луч в качание березы,
где
дружно дозревают снегири.
Торжественно
и тихо на погосте.
В
кругу родных деревья так милы.
Короткие
серебряные гвозди
морозец
вбил в их сучья и стволы.
Деревьев
род и род людской корнями
переплелись,
в родство вступив со мной.
И
я снимаю шапку перед пнями
и
перед каждой веткой ледяной.
*
* *
Где
эта станция Сходня?
Прежнее
тянет сильней.
Что
если я у «сегодня»,
выкраду
несколько дней?
Как-то,
в избытке желанья,
озолоченный
мечтой,
мчался
за юною ланью
я
по-над рожью густой.
То
ли гористая залысь,
то
ли ветвистый пробор.
Ланью
пугливой казалась
Та,
что пустила во двор…
То
чабрецом, то шалфеем
пахло
с округлых лугов.
Я
возвращался с трофеем
к
зависти нимф и богов.
Помнится:
волны и пена,
Жизнь
в окаянной страде;
Как
половица скрипела
Старая
сходня к воде.
Что
если все понапрасну:
лань
и дорога, и ночь?..
Только
душа не согласна
Выплеснуть
прошлое прочь!
СМЕХ
От
примуса я «приму» прикурю,
И
в корочках, начищенных до блеска,
На
танцы, чтобы там «на всю железку»!
И
с девушкой под ручку – на зарю.
Она
всё ярче будет нам сиять,
Идем
по зеленеющему скверу,
Да
не прибавит ни любви, ни веры,
Извечная
стеснительность сия…
Но
есть еще надежда, что в обнимку
Я
с ней шагну и обрету успех.
Краснеют
уши, слыша её смех,
Стократно
доносящийся сквозь дымку.
*
* *
Облик
утра серый, серный,
Запах
угля и руды.
Теплоход,
как нож консервный,
Разрезает
жесть воды.
Лес
еловый. Тает льдина.
Диск
скользит по остриям…
Красоты
образчик дивный
Привлечет
к иным краям.
Пять
лучей разбились оземь,
Берега
как два крыла;
На
одном царила осень,
На
другой весна звала.
Сквозь
скопленья звездной пыли,
Вдоль
пустых стрижиных сот,
Всё
куда-то плыли, плыли
В
ожидании красот.
Вверх
брели по вертикали,
Друг
за другом шли гурьбой,
А
красоты возникали
За
излучиной любой.
*
* *
Все,
словно куры на дворе, копались.
Никто не шел на голод и лишенья,
а всяк смотрел,
куда укажет палец,
или откуда будет
приглашенье.
Теперь имперский палец упразднили
и слово - не указ ушам вельможьим.
Поэта оттолкнули, задразнили…
Кто, как не он, стал Человеком Божьим!?
Поэзия
семи-восьмидесятников. Эдуард Грачев
_______________________________________________________
Эдуард
Грачев
О
себе. Родился в Москве в середине прошлого века. Закончил МГУ, физический
факультет, работал в закрытых НИИ, на производстве. Стихи писал всегда.
Получалось как получалось. - Сейчас немного лучше. Написанных книг более
десяти, но выпустить удалось только одну «Время Отпусков» (М., «Интервесы»,
2000 г.). Занимался переводами.
***
Как говорится - лето, комары,
Жара везде и посреди жары,
Не то тропа, не то за лес дорога.
Июль прожит, все прожито, увы,
Но дай мне Бог еще пожить немного!
Мне страшно замечать, в который раз,
Ночные слухи к тумбочке придвинув,
Что свет уходит, свет почти погас,
И наконец, угасший, тьму покинул.
И остается слушать дальний бор -
Как он поет, как пробежит собака,
Как первый путник выглянет во двор. -
Шагнет вперед, и растворится в злаках.
И ходики оставив в стороне,
Но не встречаясь по пути с луною,
Стальная ночь забудет обо мне,
Предпочитая сосны за стеною. -
В ней облака, как синяя строка,
Рука звезды в моих подлесках тесных,
И тишь - соединенье потолка
С предназначеньем бабочек небесных .
***
Прощай, октябрь во мраке лет,
Прощай, Арбат в октябрьском снеге. -
Мы едем в край, где снега нет,
Где он бывает раз вовеки.
Мне все еще слепой звонит.
И строй души как будто вечен.
Но что-то, видимо, сгорит,
И ускользнет до новой встречи.
Но не свести меня на нет
Холодным соснам за стеною. -
Едина тень, прекрасен свет,
Здесь возле дач и над сосною.
И где-то плещется залив.
И бьет седой волной о камень.
Но он , как я, теперь ленив,
Чтоб драму выдумать, а в драме:
Высокий берег мокрых птиц,
Чужой овал чужого сада,
И этот текст на сто страниц
В глубинах строчек полосатых...
***
Мой год смеркается, мой век,
Но видит Бог, пока живые -
Те облака, где лепят снег,
И
просеки глухонемые.
В года закутанный, слегка,
Я просто прошлый день окликну,
И стану слушать бас гудка,
И в этот бас, как в лаз, проникну.
Сентябрь в просеках зажат,
А мы спешим в иные щели,
Туда, где сено ворошат,
Где слышны лютни и свирели.
Там крылья сбросив на порог,
Белесый ангел входит в двери,
Там свет, ударив в потолок,
Рождает синь на самом деле.
В которой качество синиц,
Наверно, вымысел и бездна.
И блеск утра скользит от спиц,
По этой улице небесной.
***
Нине
Красновой
Прощай, Калужская застава!
Зима вокруг... Привет зиме!
Мы станем снег писать октавой,
И ямбом желтое в окне.
Пусть неизвестный среди снега,
Читая зимнюю тетрадь,
Отыщет в призрачных сусеках,
Невзрачных звуков благодать.
Давай возьмем его за плечи
И вместе выведем на свет,
Где снег скользит, где дом беспечный
В сырую изморось одет.
***
Не умел. От прохлады растерян,
Я иду сквозь разлуки и смех
В край, где плавают в воздухе феи,
И готовят из сырости снег.
Незнакомым и близким киваю,
Огибаю овалы и рвы.
Впрочем, кажется я погибаю
На разрозненных нотах молвы.
Не писать бы... Оставить все книги.
И настроить поддержанный слух
На посредственный, выпавший, тихий
С дальних веток свалившийся звук.
Понимая движения света,
И к дождям возвращаясь опять,
Обнаружу, достану, объеду,
Тех кому на меня наплевать.
А природа объем уплотняет.
И собрались у рощи гурьбой
Те, кто утром от тверди взлетает
В недописанный свод голубой.
Поэзия
Урала. Михаил Лаптев (1928 – 1980)
__________________________________________________________________
Михаил
Лаптев
(1928
– 1980)
Михаил
Петрович Лаптев – уральский поэт, прозаик. После окончания
Литературного
института им. А. М. Горького жил и работал в городе Миассе
Челябинской
области. Вел там литобъединение, растил новых поэтов.
В
1-м выпуске альманаха «Эолова арфа» см. эссе Сергея Каратова «Достоин песни и
весны» (к 80-летию М. П. Лаптева.)
ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН
Сегодня
не шучу, совсем серьезен я
И
говорю, сомненье погасив,
Будь
воля, рядом с белыми березами
Я
б колокольни ставил на Руси.
Когда-то
их снесли рукой бездумною,
Решая
неотложные дела…
На
колокольни, стройные и лунные,
Повесил
бы я вновь колокола.
Под
звон на именинах брагу пили мы,
Под
звон рождались, крепли и росли,
Любили
и женились, и носили мы
Уставших
в лоно Матери-Земли.
За
полем дремлет роща присмирелая,
Принес
с собою вечер синий сон.
А
над Россией – колокольный звон.
Чиста
она, печаль моя осенняя,
Зовет
душа к моим родным полям…
И
как вернулись к нам стихи Есенина,
Вечерний
звон пускай вернется к нам!
ТУРГОЯК
Ветер
снес журавлиную стаю
И
скатился в крутой овраг.
Вороненой
холодной сталью
Блещет
озеро Тургояк*.
Что-то
сосны нахмурили брови,
Тихо
шепчутся в тишине.
Словно
ржавые капли крови,
Листья
ржавые на волне…
Ускакали
за летом в погоню,
По
зарницам хвосты расстелив,
Боевые
башкирские кони –
Топот
их и поныне жив.
Ведь
не зря мне все чаще кажется:
То
не озеро Тургояк –
Это
нож Салавата,
Всаженный
В
горы –
По
рукоять!
*
Тургояк – озеро на Южном Урале.
*
* *
Не
променяю труд на прозябанье,
Пусть
руки от работы загудят, –
Нам
трусости, покоя, колебанья
Отцовские
могилы не простят.
Я
в дождь благословляю щедрость неба
И
радуюсь по осени хлебам.
Теперь
я твердо знаю цену хлеба –
Я
это право заработал сам.
*
* *
Ручей
блеснет иголкой тонкой,
И
ниткой тянется вода…
А
на дворе под ломом звонким
Летят
и тают искры льда.
Снуют
иголки на закате,
Но,
расползаясь, рвется нить.
Зимы
растаявшее платье
Такими
нитками не сшить.
*
* *
Какое
это чудо –
Новый
Явился
миру человек.
И
мать несет ему обновы
И
ночью не смыкает век.
О,
эти мамины заботы,
Мельканье
хлопотливых рук,
И
в речи ласковые ноты,
И
слезы, и улыбка вдруг!
А
он еще не понимает,
Он
только руки тянет к ней.
Он
день огромный обнимает,
Он
у истока долгих дней.
*
* *
Холодеют
на озере блики,
И
тепла не вернуть уже…
А
в душе журавлиные клики,
Журавлиные
клики в душе.
За
угорами осень виснет,
Задевает
боками пни.
Только
дуб не теряет листья –
До
метелей броней звенит.
Догорают
березы и клены,
И
осины в осеннем огне.
Блещут
желуди как патроны
Не
сдающихся на войне.
*
* *
Был
шаг мой весьма неуверен,
Пугал
меня всякий пустяк.
Но
стала светить мне Венера –
Звезда
пастухов и бродяг.
Прикамье
меня колдовало
Шуршанием
бревен и льдин.
Но
мало мне было, все мало
Того,
что я шлялся один,
Что
ночью - высокой, как вера,
Мой
каждый твердеющий шаг
С
небес одобряла Венера –
Звезда
пастухов и бродяг.
Я
жил небогато и шумно,
Любой
презирая багаж…
Теперь
точно старая шхуна,
Теряющая
такелаж.
Одно
утешает - не первый
Я
в этой толпе бедолаг.
Качается
в небе Венера –
Звезда
пастухов и бродяг.
Степные
снега заметали
Дороги
и тропки мои.
Какие
цветы расцветали,
Какие
гремели ручьи!
Мне
жаль, что не станет примером
Судьба
без награды и благ…
Свети
мне сквозь слезы, Венера, –
Звезда
пастухов и бродяг.
Публикацию
подготовил Сергей Каратов
Поэзия
Ближнего Зарубежья. Туркмения. Агагельды Алланазаров
__________________________________________________________________
Агагельды
Алланазаров
Писатель
и поэт Агагельды Алланазаров родился в
1948 году в селе Марчак, на юге Туркменистана. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького,
семинар Льва Ошанина. Ныне он живой
классик туркменской литературы, автор 30 книг, переведенных на многие языки
народов мира. Живёт в Ашхабаде.
*
* *
Чуть
уловимо пахнет саксаул,
И
ходит осень по земному кругу.
От
тишины в ушах звенящий гул,
А
сердце рвёт на части тяга к другу.
Любовь
она была совсем близка –
Рукой
подать, дойти до поворота.
Но
мчат орлиной стаей облака,
Как
будто бы преследуют кого-то.
Мир
– миг чудес. В нём всё наоборот,
И
кланяется степь набегам вьюжным,
И
ветер мысли у тебя крадёт,
Даря
их людям – нужным и ненужным.
* *
*
Женщина
разделась жестом смелым
У
берегов крутых камней,
И
залюбовались женским телом
Все,
кто находился рядом с ней.
И
прибой. Все больше прибывая,
Звал
её: «Ко мне, ко мне иди!..»
Есть
же в жизни красота такая!
Сердце
сладко замерло в груди.
И,
вообразив её женою,
Взгляд
смущенный отведёте вы.
А
она уже в волну прибоя
Окунулась
с ног до головы.
И
желанье мною овладело
Море
на себя перевернуть.
Да,
мечта не ведает предела,
Как
его не знает Млечный Путь.
Перевод Леонида
Сороки,
ПАМЯТИ
ТАШЛИ КУРБАНОВА
Услышу
голос над могилой:
- Мы лучших не смогли сберечь!
Рванусь
я к свету, что есть силы,
Но
не стряхнуть мне землю с плеч.
Любовь
моя с печальной тризны
Ко
мне в рыданиях придет.
Той
тишиной, что грезим в жизни,
Меня
с избытком захлестнёт.
Но
за вратами гробовыми
Открою
тайну – смерти нет!
Моя
душа всегда с живыми,
Моя
душа, где жизнь и свет!..
Перевод Льва
Котюкова,
Публикацию
подготовил Сергей Каратов
Дни
Русского Слова в Армении. Слово – участникам праздника
__________________________________________________________________
В
Армении уже не первый год проходят Дни русского Слова, которые способствуют
возрождению культурных связей и укреплению дружбы народов России и Армении. В
этих праздниках принимают участие известные поэты, писатели, артисты, деятели
культуры, среди которых есть и авторы «Эоловой арфы». Им и предоставляется
слово на страницах рубрички «Дни Русского Слова в Армении».
Валерий
ЗОЛОТУХИН,
народный
артист России,
член
Союза писателей Москвы:
В
Армении я бывал много раз. Очень люблю эту яркую горную страну, её поэтов,
художников, артистов и, конечно, зрителей.
В 2007 году я участвовал в празднике Русского Слова, который проходил в
Армении, и храню самые светлые воспоминания о нём, радуясь возрождению
культурных отношений между Россией и Арменией.
...А
у меня в моей гримёрной комнате в Театре на Таганке, на моём столике стоит
деревянный складень с изображениями Спасителя и Богоматери, привезённый из
Еревана.
19
июля 2009 г.,
Москва,
Театр на Таганке
Анатолий
ШАМАРДИН,
певец
и композитор,
солист
оркестра Леонида Утёсова:
Я
ЛЮБЛЮ АРМЯНСКУЮ ПЕСНЮ «ТЫ КРАСАВИЦА»
Когда
я в 70-е годы работал солистом-вокалистом в оркестре Леонида Утёсова, в моём
репертуаре были не только русские песни, но и песни народов мира на разных
языках и песни народов СССР, в том числе и армянская - «О, серун, серун», что
значит: «Ты – красавица», которую я очень люблю и которую я всегда пел в своих
концертах, и она всегда пользовалась у зрителей особым успехом. Её чарующая
мелодия с грустными нотами проникает в самое сердце и не может не волновать.
В
2008 году мне с творческой группой от журнала «Юность» и от «Литературной
газеты» посчастливилось попасть в Армению и участвовать там в Днях Русского
Слова... Я выступал в самых разных аудиториях, пел песни и на русском языке,
который является для меня родным по моему отцу, ставропольскому казаку, и на
греческом, который является для меня родным по матери, понтийской гречанке, и
на итальянском, немецком, японском языках... И был просто восхищён реакцией зрителей
на всё, что я пел, их тончайшей музыкальностью и горячим приёмом!
Мне
запомнились экскурсии по Армении, в том числе и в такие места, где сохранились
старинные греческие, средиземноморские поселения. Запомнилась экскурсия в
Гарни, где армянский музыкант стоял около входа в наскальную церковь и играл на
армянской дудочке, на дудуке, старинную армянскую мелодию...
В
Армении я обрёл новых друзей. И она теперь стала мне ещё милее, чем раньше.
20
июля 2009 г.,
Москва
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ,
поэт,
член Союза писателей Москвы:
Я
СВЯЗАН С АРМЕНИЕЙ СВОИМИ КОРНЯМИ
Классик
российской поэзии Кирилл Ковальджи, который сейчас находится в Доме творчества
«Переделкино», сказал поэтессе Нине Красновой по телефону любопытную и до сих
пор почти никому неизвестную информацию:
-
У меня мама была бессарабская армянка. У моей бабушки было шестнадцать детей,
мама была шестнадцатая по счёту. В Армении она никогда не бывала. А я бывал там
много-много раз. Выступал там. И переводил армянских поэтов – Абрама Аликяна и других...
-
Так что из всех наших российских поэтов Вы имеете самое прямое отношение к
Армении, поскольку Вы связаны с ней не только культурными узами, но и своими
корнями...
-
Получается, что – да.
20
июля 2009 г.,
Переделкино
Нина
КРАСНОВА,
поэтесса,
член Союза писателей Москвы:
НЕСКОЛЬКО
СЛОВ ОБ АРМЕНИИ
И
О МОЕЙ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ ТУДА
До
сентября 2008 года мне никогда не приходилось бывать в Армении. Но всегда
хотелось побывать там когда-нибудь. Потому что я всегда любила эту страну… И
любила её художников, композиторов, поэтов… Из поэтов я со школьных лет любила
Сильву Капутикян, знала наизусть её стихи, которые волновали меня своими
сильными, порывистыми и нежными чувствами. Многие её стихи я до сих пор помню
наизусть:
Я
для тебя одна на свете,
И
тут не может быть других…
Она,
эта армянская Анна Ахматова, оказала своё влияние на мою поэзию (кстати
сказать, раньше, чем русская Ахматова, которую я узнала только когда готовилась
поступать в Литературный институт). А в 1984 году судьба свела меня с Сильвой
Капутикян в Малеевке, в Доме творчества писателей… И там я познакомилась… имела
счастье познакомиться с ней уже не заочно, а очно. И она меня очаровала уже не
только своими стихами, но и сама собой, в ней не было ни высокомерия, ни
спесивости, не менторства по отношению ко мне как к младшей сестре по перу, а
был искренний интерес и искреннее внимание ко мне… она была – как добрая фея с
берега Севана, да ещё и платье на ней было (вне моды тех лет) длинное, лёгкое,
из какой-то шёлково-газовой ткани, бирюзового цвета, с пышными складками, в
котором она смотрелась как фея… Она очаровала не только меня, а всех, кто был в
Малеевке. Я помню, дагестанцы, которые ходили за ней, как пажи со шлейфом,
устроили в честь неё пикник на полянке, нажарили шашлыков из телятины… И когда
мы с ней стояли в кругу этих дагестанцев, людей «кавказской национальности», и
они, как на турнире поэтов, читали ей её же стихи наизусть, и я читала ей её же
стихи наизусть, она сказала мне, улыбаясь своей мягкой улыбкой: «Вы представляете
здесь сейчас национальное меньшинство». Она подарила мне тогда свою книгу «Часы
ожидания» и написала на ней: «Моей молодой сестре по перу Нине Красновой.
Сильва Капутикян. 9/V 84 г. Малеевка».
А
ещё раньше, в 1979 году, судьба свела меня с поэтом Геворгом Эмином, в Москве,
на VII Всесоюзном Совещании молодых писателей, в «Молодой
гвардии» на Дмитровском шоссе. Он вместе с Андреем Дементьевым, Натаном
Злотниковым, Евгением Храмовым и белорусским поэтом Рыгором Бородулиным был
руководителем семинара молодых поэтов от журнала «Юность», а я как раз была
участницей этого семинара. И Геворг Эмин, как и все руководители семинара,
тогда очень лестно отозвался о моих стихах, несмотря на то, что он не был
добрым дядей, который всех и каждого гладит по головке. У Геворга Эмина есть не
только стихи с регулярным размером, но и верлибры, иронично-философичные,
которые мне очень нравятся. Например, такие (я цитирую не слова, а их суть): «Я
хороший человек. Ты хороший человек. Он хороший человек. Откуда же у нас столько
плохих людей?»
...И,
разумеется, для меня было большой радостью и большим счастьем, когда в сентябре
2008 года «Литературная газета» и журнал «Юность» пригласили меня лететь с
группой поэтов, писателей, артистов от Москвы в Армению на праздник Русского
Слова... Наконец-то я увидела Армению своими глазами и прошлась по земле
Армении своими ногами... И даже омочила свой «рукав» и свои ноги в озере Севан,
по которому мы прокатились на белом катере, о чём я и мечтать не могла или
могла только мечтать. А главный редактор «Юности» поэт Валерий Дударев и певец
и композитор Анатолий Шамардин, солист оркестра Утёсова, даже искупались там...
омылись святой водой и смыли с себя всю коросту жизни.
Естественно,
что и Севан, и Гарни с церковью в скале, с лазом под землёй, под ногами, и
Цахкадзор с церковью из непривычных серых каменных глыб, и с Домом творчества писателей, и Ереван со
старинной армянской архитектурой и с классическими памятниками Грибоедову и
донским казакам, и авангардным, эпатажно-весёлым памятником Бабаджаняну, и
площадь Республики с внушительными розовыми зданиями, и с красными, сиреневыми,
изумрудно-зелёными, лазурно-синими и ярко-жёлтыми поющими и танцующими струями
фонтанов, и проспект Маштоцы (изобретателя армянской азбуки) с уличными кафе,
занавешенными поветелью и лианами, и театр с пьесой Юрия Полякова «Левая грудь
Афродиты», и булыжная площадка с гигантским арматурным неоконструктивистским
пауком, и мемориал в честь жертв геноцида, с вечным огнём, и отель «Ширак» с
уютным интерьером и со всеми современными удобствами, и с изобильным шведским
столом по-армянски и по-русски, и с картинами гор, ущелий и водопадов на стенах
и с «Утром в сосновом бору» Шишкина и с «Тремя богатырями» Васнецова... и всё
это и весь этот праздник, который проходил на самом высоком – государственном –
уровне, никогда не сможет забыться... и вся интереснейшая программа этого
праздника... и встречи нашей делегации с премьер-министром Армении Тиграном
Саркисяном и министром культуры Асмик Погосян... и выступления в Армянском
обществе по культурным связям, и в Ереванском в камерном театре, и в
Армяно-российском университете, и в Доме Москвы, и в Национальной библиотеке, и
в Доме журналистов, и в педагогическом институте, и в школе им. Пушкина, и в
102-й воинской части... где зрители принимали нас не просто тепло, а очень
горячо, с хорошим эмоциональным накалом, тонко реагируя на каждое наше слово,
на каждую нашу шутку и восхищая нас своим повышенным чувствованием русского
языка, который для них такой же родной, как свой армянский.
...После
раскола Советского Союза Армения оказалась в некоей географической изоляции от
России... оказалась отрезана от России по суше и по воде, а не отрезана от неё
только по воздуху... и ещё, может быть, по Интернету... И нельзя не заметить,
как Армения желает восстановить с Россией какие-то свои утраченные связи и
контакты... и тянется к России, которая близка ей своей историей и своей
культурой.
Я
увиделась в Ереване и со своими старыми литературными друзьями, с которыми в
России давно не виделась, в том числе и со своим литературным учителем, поэтом
Андреем Дементьевым, и обрела новых друзей... как среди своих же
соотечественников, так и среди армянских собратьев.
И
гору Арарат я увидела, про которую уже с трёх лет знала такой стишок: «На горе
Арарат растёт аромат (или: виноград)». Правда, эта гора, которая испокон веков
принадлежала Армении и находилась на её территории, сейчас почему-то
принадлежит Турции, притом, что стоúт там же, где всегда стояла, на границе
между Арменией и Турцией, и никуда с места не сдвигалась.
...И
что я скажу об Армении? Что она оказалась ещё лучше, чем я представляла её себе
по картинам Сарьяна и по стихам поэтов о ней...
Она
– суперпрекрасна, как и все люди, с которыми я общалась там. И я обратила
внимание на то, что там, как в песне Утёсова, «много девушек хороших», и много
юношей хороших, на что нельзя не обратить внимания и на что все обратили
внимание, вся наша группа. Писатель-юморист Аркадий Инин сказал: «Семнадцать
лет назад, когда я был здесь последний раз, этих девушек и юношей здесь не
было». Причём все они - не только с очень яркой, экзотической внешностью и с
фигурами правильных армянских пропорций, но и с очень проникновенными глазами и
с интеллектуальным выражением глаз, и все могут служить образцами генофонда
своей нации.
...Что
я ещё могу сказать об Армении? Что за те семь дней, в течение которых я жила
там, я полюбила Армению ещё больше, чем раньше, и хотела бы опять приехать
(прилететь) туда. О чём у меня сложился такой «Экспромт о возвращении Нины
Красновой из Армении в Россию»:
...Сижу
не в каких-то в хоромах, не в барском в имении –
В
московской в хрущёвке с удобствами, с душем и с ванною,
Сижу
и мечтаю опять оказаться в Армении
И
там искупнуться в Севане с водою севанною...
14
июля 2009 г.,
Москва
Дни
Русского Слова в Армении. Проза. Михаил Амирханян
__________________________________________________________________
Михаил
Амирханян
Михаил
Амирханян окончил факультет русского языка и литературы Ереванского
государственного университета в 1960 году. Доктор филологических наук,
профессор. Около 40 лет занимается исследованием проблемы русско-армянских
литературных отношений. Автор семи монографий по названной проблеме, в том
числе «Русская художественная литература об Армении» (1983), «Русская
художественная литература и геноцид армян» (два издания – 1988, 1990),
«Классики русской литературы и Армения» (1991), «А. С. Пушкин и Армения» (1999)
и др. Автор брошюр и статей о Брюсове. Соавтор «Армянско-японского словаря». В
1991 году создал Ереванский гуманитарный институт, в котором впервые началось
изучение нетрадиционных для Армении языков: японского, греческого,
итальянского, испанского, китайского, хинди – параллельно английского. Живет в
Ереване.
«РОССИЯ
И АРМЕНИЯ»
(Отрывок
из книги «Россия и Армения», Ереван, 2003)
Полнее
сознавая прошедшее,
мы
уясняем современное,
глубже
опускаясь в смысл былого –
раскрываем
смысл будущего
А. И. Герцен
К
читателю
...Начало
общения между русскими и армянами восходит к глубокой древности. В XI
в. после длительной борьбы с византийцами... а затем с турками-сельджуками...
армянский народ лишился самостоятельности. Пала столица Армении – город Ани.
Страна потеряла независимость. Эти события вынудили многих армян искать убежище
в других странах. Так, еще в ХI веке в Киевской Руси
возникло первое армянское поселение. В это же время армяне поселялись в столице
Волжско-Болгарского государства – Болгаре, затем – в Крыму и Польше. А со
временем армянские поселения, переросшие в дальнейшем в колонии, стали
возникать в русских городах – Москве, Моздоке, Астрахани, Новгороде, Петербурге
и других местах.
Имея
глубокие истоки, многогранные русско-армянские отношения получали свое развитие
на протяжении многих веков. Поселяясь в России, армяне избавлялись от
физической тирании, приобретали относительно более благоприятные условия жизни
и развития. Завоевывали признание армянские промышленники, живописцы, торговцы,
ремесленники, медики, полководцы русской армии. Со временем русское государство
разрешало поселянам строить церкви, фабрики, заниматься торговлей. Жизнь в
армянских колониях текла в русле окружающей среды, с сохранением, естественно,
национальных традиций.
Так
зарождались ростки дружбы между двумя народами, которая потом принесла армянам
спасение от физического истребления, дала возможность обрести свое место в
государственном и культурном строительстве России и нашла яркое отображение в
поступательно развивающейся русской историографии, различной документальной и
художественной литературе, публицистике, многих жанрах материальной и духовной
культуры.
Неоднократные
и разносторонние сообщения о взаимных контактах двух народов встречаются в
различных дошедших до нас сочинениях путешественников, писателей, историков, художников. Это двухтомный труд
«Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения
армянской области в Российской империи» (ч. I,
М., 1832; ч. II, 1833) С. Глинки; альманах «Россия и Азия.
Историко-литературный сборник по географии, истории и литературе армянского
народа» (1899) в составлении и переводе приват-доцента Киевского университета
А. Грена; различные многочисленные сборники документального, этнографического и
справочного характера, большое количество разножанровых материалов
периодических изданий, полотна русских художников М. М. Иванова «Остатки
крепости Анталя при реке Лори в Великой Армении» (1782), «Развалины города Ани»
(1783); А. Г. Ухтомского «Вид Эчмиадзина» (1805); В. И. Машкова «Базальтовые
горы в Сомхетии (Армения)» (1828); «Переселение 40000 армян в Российские
пределы...» (1828), гравюра 1832 г.; Г. С. Сергеева «Вид города Еревана близ
горы Арарат на реке Занге», а также гравюра Перова по этой картине (1796); около
сорока картин и рисунков Г. Г. Гагарина, хранящиеся в Государственной картинной
галерее Армении и т. д., привлечение армянских мастеров, художников и
ремесленников к архитектурно-строительным работам в России, начиная с времен
Киевской Руси, широкое участие армянских купцов и промышленников в развитии
торговли и промышленности России. Все это является свидетельством добрых
взаимоотношений русских и армян и имеет огромное культурно-историческое и
общественно-политическое значение в межнациональных двухсторонних отношениях.
Таким
образом взаимоотношения русских и армян на протяжении многих столетий
складывалось в обстановке добрососедства и доброжелательности.
Вместе
с тем, судьба армянского народа полна самых тяжелых драматических событий. «Кто
не знает трагического, кошмарного прошлого этого народа! Находившаяся на рубеже
двух миров, двух стран света – Европы и Азии, бывшая некогда одной из
могущественных стран древнего Востока, Армения была ареной бесконечных битв и
нашествий. Одних завоевателей сменяли другие. Смерчем и ураганом проносились
над страной гунны, персы, римляне, арабы, византийцы, сельджуки, монголы,
османы. Едва народ успевал опомниться от одной опустошительной грозы, как
надвигалась новая. И снова разрушались села и города, разрушалась культура,
гибли трудящиеся армяне...»
В
1639 г. Армения была разделена между султанской Турцией и шахским Ираном:
Западная Армения отошла к Турции, Восточная – к Ирану. «В истории армянского
народа наступили самые мрачные времена», – писала «Правда» (28 ноября 1935 г.)
в передовой статье по случаю 15-й годовщины установления Советской власти в
Армении.
Судьба
армянского народа исторически сложилась так, что в одном случае он встречал
доброе расположение и сочувствие, в другом – переживал гонения и избиения. И в
этих, благоприятных, с одной стороны, и трагических, с другой, условиях
жизнестойкая сила армянского народа находила самоутверждение и развитие.
Армянский
нард, по словам В. Я. Брюсова, «при всех превратностях судьбы... за тысячелетия
своей исторической жизни создал самостоятельную культуру, внес свой вклад в
науку, оставил миру богатейшую литературу». Многогранная жизнь армян находила
отображение в художественной литературе как русской, так и других народов.
В
силу своего характера русская художественная литература, наряду с
разносторонним отображением русской действительности, исстари немало места
уделяла инонациональной теме. Она с давних пор стала отображать английскую,
французскую, немецкую, шведскую, горскую, татарскую, азербайджанскую,
грузинскую, армянскую и пр. действительности. Это один из компонентов ее
гуманистического и интернационального характера.
И,
как следствие, в русской литературе образовался огромный пласт, отображающий
инонациональную действительность. Русская литература не формально описывала в
художественном слове факты из жизни других народов, она вникала в суть событий,
одобряла или осуждала отображаемое. И первостепенная роль в этом принадлежала и
принадлежит художественной публицистике, которая, идя в ногу со временем,
первой откликается на животрепещущие события, а зачастую, опережая их,
указывает пути разрешения проблем.
Русская
художественная литература в силу исторических судеб, контактов и
взаимоотношений двух народов определенное место уделяла, как было отмечено, и
армянской действительности. Изучение которой, безусловно, содействует более
глубокому и широкому раскрытию многовековых и разносторонних взаимоотношений
русских и армян и представляет значительный не только научный и практический,
но и политический интерес. «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем
более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего».
Усиливающиеся
и расширяющиеся контакты между двумя народами, русскими и армянами, привели к
обоюдному интересу, в результате чего возникла необходимость взаимного
ознакомления с духовной культурой и литературой. (...)
Целью
настоящей работы является попытка отдельными очерками представить читателю
русско-армянские литературные отношения... Мы сознаем важность и масштабность
проблемы, ее актуальность в наше трудное время, когда в силу сложившихся
исторических условий и демагогии несколько пошатнулись межнациональные
армяно-русские отношения...
Проза.
Рассказ «Юбилей». Игорь Михайлов
___________________________________________________________
Игорь
Михайлов
ЮБИЛЕЙ
(сценка)
Писателю
N - 60. На его юбилей в один из уютных особняков,
скрывающихся, словно от налогообложения в кривых переулках Москвы, съезжаются
гости. К означенному времени в гардеробе
толпятся важно, словно голуби возле хлебных крошек, приглашенные, подозрительно
и высшей степени недоверчиво поглядывая друг на друга. Каждому кажется, что он
тут главный. И присутствие посторонних
готов терпеть только из излишнего добродушия или на худой конец – снисхождения
к преступной слабости юбиляра. Дамы поправляют свои халы, хвосты и гривы,
стряхивая пышные, словно специально изготовленные к юбилею, хлопья снега на
пол. Кавалеры, в немой торжественности поглаживая бороды и усы, по мере возможности
втягивают в себя животы. Словом, все преисполнены важностью момента.
На
третьем этаже в холле, возле бронзового бюста Бунина и буквой П расставленных столов пчелиным роем вьются
барышни, которые имели счастье явиться на праздник раньше остальных. Фуршет на
70 персон должен быть готов через 15 минут. А еще не открыта селедка, не
хватает тарелок под семгу, и она огромной кровавой грудой вывалена в таз.
За
пластиковыми тарелками побежал Пинхасевич, его все ждут и ругают. Одна из
барышень, узколицая брюнетка, с кровавыми губами, в пестром костюме, со
сбившейся набок Пизанской башней в тревожном нетерпении облизывает пальцы,
выпачканные в икре.
-
Ну, где же этот Пинцевич?
-
Пинсахович!
-
Не важно! Важно, что этого мерзавца еще нет…
В
ответ на реплику дверь черного входа, поглотившая Пинхасевича, открывается и из
нее показывается шевелюра блондина, а за нею -
гитара. Все это принадлежит музыканту, призванному под уздцы услаждать
слух гостей, когда они преодолеют первые
спазмы голода. Юный обладатель шевелюры, нежно обнимая гитару за талию, входит
кошачьей походкой в холл.
Ему
в высшей степени неуютно. Глаза магнитом прикованы к семге, водке, икре –
кушать хочется. Он пробует сосредоточиться на слове «Пинхасевич», будто стоит
ему появиться и можно будет кушать семгу. Музыканта пристально разглядывает из
угла долговязая девица с косой - до батареи, свернувшейся зеленой гадюкой в
болоте. Блондин задевает гитарой за скатерть, опрокидывает пару стульев,
смущается, извиняется и его постоянно тянет от волнения на первый этаж, в
мужскую комнату.
Как
пишут в сентиментальных романах, время неумолимо приближается к своему рубежу,
словно маньяк с ножом к своей жертве. У взволнованного юбиляра растерянное лицо
самоубийцы, которого застали на месте преступления с веревкой на шее врасплох.
Он, словно не ожидал, что навалит такая прорва народу. К тому же куда-то
запропастился Пинхасевич. Злосчастный
писатель, поклявшись, что больше никогда в жизни не будет отмечать свои юбилеи
и, возможно, бросит писать, подходит к гитаристу и заговорщицким шепотом дышит
ему в лицо:
-
Максим, Вы выступаете сразу после Маши.
Он
кивает в сторону долговязой девицы, которая, заметив, что на нее обратили
внимание, покрывается багровым румянцем.
-
Пинхасевич, наконец-то!
Тарелки
прибыли. Семга умопомрачительно нежно-розовыми ломтиками укладывается на их
глянцевой глади. Максима, прервав его бесцельное шатание по холлу и
бессмысленное разглядывание фотографий, дамы рекрутируют на помощь.
С
фотографий на заботы мирян но, кажется, больше всего на семгу, плотоядно глядят
улыбающиеся из-под бород попы. На сияющих лицах шаловливым зайчиком гуляет
отсвет лампад, паникадил, словно зажженных в честь юбиляра.
Надо
открыть, наконец, эту зловредную селедку, которая, тая от посторонних,
завистливых глаз свои пряные ароматы в пластиковом гробике, у всех
выскальзывает из рук и не дается.
Бунин,
не мигая, смотрит на селедку. Максим, остервенело сглатывая слюну, надавливает
со всем энтузиазмом музыканта, увлеченного выковыриванием нужной ноты из
непослушного инструмента, на пластмассовую крышку. Из-под нее, словно уж,
выползает сипение. Но, в конце концов, обдает серый концертный костюм Максима
струей отвратительной селедочной мути.
-
Ой, Господи! Мама дорогая! Жуть! – со всех сторон к Максиму в селедочном соусе
сбегаются, словно пьяные от сытного духа, идущего от стола, возбужденные дамы.
Узколицая брюнетка с кровавыми губами хлопочет больше всего. Она снимает с
обескураженного гитариста пиджак и зачем-то смеется русалочьим смехом:
-
Вы, молодой человек, в пикантном положении. Вас надо срочно разоблачить.
Снимайте пиджак!
Несчастный
Орфей, у которого приступы голода побеждены стыдом, покорно снимает пиджак и
готов, кажется, раздеться и дальше, если того потребует ошалело хохочущая русалка
с кровавыми губами.
На
лестнице, меж тем, курят два подозрительного вида существа, напоминающие
опереточных злодеев. Первый – высокий с мешками под глазами, помятого вида, в
сером, каком- то свалявшемся, пиджаке, пропахшем сигаретным дымом и пивом – известный
в узких кругах поэт и скандалист, второй – чуть пониже, толстенький, лысый с
редкими бакенбардами и боксерским подбородком - журналист какого-то завалящего
издания с названием громким, но глухим, словно последний крик утопленника из
проруби. Они – коллеги известного писателя.
-
Скорее бы уже чего-нибудь пожрать и выпить, - хриплым басом ворчливо произносит
свалявшийся пиджак, - у меня с утра ни маковой росинки. А мы вчера с
Пинхасевичем обмывали его премию. Набрались, как свиньи, в буфете ЦДЛа, давно я
так не надирался…
-
Если торжественная часть затянется, то мы до стола в лучшем случае доберемся
часам к восьми, - подхватывает боксерский подбородок.
-
Я всегда говорил, что юбилей надо начинать с пьянки, а потом с теми, кто
останется в живых, проводить торжественную часть. Все равно всегда одно и тоже,
несут какую-то ахинею: неугомонный талант, продолжатель традиций, раненая
совесть, золотое перо, духовность. Тьфу! В шестьдесят лет пора уже и
угомониться, пожинать лавры, лечить простатит и затрещинами воспитывать внуков,
а не писать всякую чушь.
-
Вот я, - опять подхватывает Зоил, - критику Ах-му говорю: последняя его книга –
просто дрянь. А он ее пятитысячным тиражом выпустил с такими густыми зарослями
лавра на обложке, что если весь его засушить, а потом продать на рынке, то
неплохой куш оторвать можно. Хи-хи, хи-хи.
-
Ха-ха-ха, - взрывается приступом кашля со смехом любимец муз и скандалов…
А
на втором этаже в актовом зале чья-то побагровевшая от усердия и потоков света
лысина громко, но сбивчиво, зачитывает телеграмму от правления какого-то одного
из сонма союзов писателей. Слышны жидкие аплодисменты, юбиляра утыкают лицом в
роскошный, увязанной голубой ленточкой букет бордовых роз, он взволнованно
чихает, оправдывается: «мне не ловко», «я смущен», «мой скромный дар», «на
стогнах», «вверенный мне предшественниками кастальский ключ вдохновения» и т.д.
Но
вот к немалому облегчению всех торжественная часть приказывает долго жить.
Гости небыстрым ручьем под предводительством юбиляра, который сияет, словно
начищенный воском ботинок, перетекают в холл, где открытая селедка и музыкант
Максим источают пряные ароматы.
Семга
розовыми лепестками небрежно разбросанная по тарелкам, сочащаяся потоками искр
красная икра, запотевшая водка, дышащий сквозь ноздрястые поры сытным запахом
хлеб и дежурный салат «оливье» - окончательно перековывают к себе внимание от
юбиляра.
Бунин
на грани голодного обморока. Голод торжествует окончательную победу над
разумом.
Поддерживая
под локоток багровую лысину с оспинами пота на лбу, юбиляр встает во главу
угла, довольно, по-лисьи, щурит лицо и произносит радостным тенорком:
-
Друзья мои, я рад, нет, я бесконечно счастлив…
Покуда
он произносит свою, к вящему ужасу гостей готовую растянуться до бесконечности,
тираду, известный поэт нацепляет на вилку пару сочных ломтиков семги и, не
мигая, словно удав на кролика, смотрит сквозь рюмку водки на юбиляра. Последний
предстает ему в виде небольшого росточка пузатого карлика с большими губами,
узким лбом и одним, как у циклопа, глазом.
Глаз
этот, словно отметина свыше за заслуги перед отечественной литературой,
наконец, гаснет, щеки неожиданно раздаются вширь, заворачиваясь за край рюмки,
а там смыкаются с губами. Губы, словно пиявка, устремленная к цели, извиваются
сластолюбивом зигзагом. Боясь, что пиявки поглотят его водку, известный поэт,
тряхнув головой, опрокидывает ее содержимое в рот быстрее, чем юбиляр
оканчивает речь…
Приятная
дрожь пробегает по всему его поэтическому телу, и теплая истома нежности готова
выплеснуться через край…
-
Горько, - что есть мочи кричит он, - дай я тебя обниму и поцалую…
Однако
свет в глазах его меркнет, его куда-то волокут. И ему кажется, что рука Максима
селедкой плывет к роскошному, вынырнувшему из разреза, бедру Маши, что он на
дне моря. Кругом его русалки, их розовые, словно семга бедра, да и сама семга,
виляя бедрами, проплывает мимо. У всей семги почему-то озабоченная физиономия юбиляра. Она открывает
рот, и поэт слышит, хотя кроме пузырей изо рта говорящей семги, ничего не
выхолит, какие-то звуки:
-
Кладите его на заднее сиденье, подложите полиэтиленовый пакет, чтобы он пол не
загадил… я так и знал… Пинхасевич… к черту!!!
Ночь
с полумесяцем серебряной серьги в ушах у цыгана подмигивает прохожим. Падают
овсяные хлопья снега. Пьяный ветер целует в губы проституток. Из окна особняка
слышен гитарный перебор. Максим, глядя захмелевшими от влюбленности и водки
глазами на Машу, поет романс.
Радостный
Пинхасевич сморкается в салфетку. Кровавые губы брюнетки отпечатаны поцелуем на
щеке юбиляра. Пьяный Бунин спит и видит бронзовые сны. Сукин сын, он, видимо,
тоже надрызгался вдребезги и теперь грезит юбилеем…
Проза.
Рассказы. Александр Яковлев
_________________________________________________________________
Александр
Яковлев
Александр
Яковлев родился 1 января 1955 года в г. Наволоки Ивановской обл. Окончил
Литературный институт им. М. Горького. Работал журналистом на Сахалине, а по
возвращении в Москву – в редакциях журналов и газет: «Вестник Академии наук»,
«За и Против», «Адвокат», «Книжное обозрение».
С 2000 года Александр Алексеевич Яковлев – редактор отдела литературы
«Литературной газеты». Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Нева»,
«Дальний Восток», «Октябрь», «Ясная Поляна», «День и Ночь», «Московский
вестник», «Бельские просторы», «Подъем» и др., а также в Дании, Китае, США,
Финляндии и других зарубежных странах. Автор книг прозы «Все, что мы запомним»
(1989), «Пешком из-под стола» (1998), «Осенняя женщина» (2003), «Купание в
Красном Коне» (2006), «Жареные ананасы» (2006). Финалист проведенного журналом
«Новый мир» конкурса «Лучший рассказ 2000 года». Лауреат премии «Ясная Поляна»
имени Л. Н. Толстого. Перевел с английского языка два десятка романов. Составил
и прокомментировал для издательства «ОЛМА-пресс» 2-хтомник М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Для издательства «Русскiй мiръ»
составил и прокомментировал 5-томное собрание сочинений В. А. Солоухина.
Член
Союза писателей СССР с 1991 года (ныне Союз писателей Москвы).
Женат,
воспитывает дочь Екатерину.
ТАКАЯ
РАССУДИТЕЛЬНАЯ ДЕВОЧКА
Батька
ее как-то уж совсем неожиданно стремительно напился. И мы с Асей остались один
на один.
Она
сделала обход отцова тела.
-
Ну, теперь тебя бесполезно воспитывать, а вообще-то стоило бы. И не думай
возражать. Я же не возражаю, когда ты меня воспитываешь, когда трезвый. Хоть и
не всегда правильно воспитываешь, я же молчу.
Она похаживала по комнате, заложив ручки за
спину, и так складно излагала, что я прямо заслушался. И тогда она взялась за
меня:
-
Ну а ты что смотришь? Тоже ведь выпил. А ведь сам сивучей приехал смотреть, а
сам выпил. Ну что мне с вами делать?
Она
с минуту маршировала молча, изредка поглядывая на свое отражение в зеркальной
дверце книжного шкафа.
-
Значит так, - сказала она, остановившись и критически осмотрев спящего отца. -
Пойдем смотреть сивучей. Я иду переодеваться. В мою комнату не заходить.
И
ушла к себе, закрыв плотно за собой дверь.
А
лет ей в ту пору было что-то около шести. Но из подъезда мы вышли солидной
парой. Она прихватила сумочку, очень симпатичную дамскую сумочку, позаимствованную,
очевидно, из гардероба матери.
-
Познакомься с моими подругами, - сказала она, подведя меня к песочнице, где
возилась малышня. - Лена, Катя, Таня.
-
Здравствуйте, Лена, Катя, Таня, - сказал я.
Лена,
Катя, Таня зашмыгали носами и засмущались.
-
Ну, играйте, девочки, - сказала Ася. - А нам некогда. Мы идем смотреть сивучей.
Давай руку.
Я
послушно подал руку, и мы пошли.
Мы
пошли по грязному весеннему Невельску среди сопок, пошли к морю, туда, где на
старый разрушенный, оставшийся еще от японцев брекватер, каждую весну зачем-то
приходят ненадолго сивучи, они видны с берега темными, плавно покачивающимися
силуэтами, их много, они похожи на встревоженных, сбившихся в стадо коров, над
городом, перекрывая шум автомобилей, стоит их натужный рев...
Желающие
посмотреть сивучей поближе садятся на пароходик и подходят к брекватеру, но не
очень близко, чтобы не спугнуть сивучей, а то они никогда больше не придут
сюда, и это будет большая потеря для науки, которая не знает, зачем они
приходят сюда каждую весну...
Ася
жутко расстроилась, вымазав свои нарядные сапожки. Она даже расплакалась. Я
пытался вымыть ей обувку морской водой, но кажется, вдобавок, намочил ей ноги.
Она уж совсем разрыдалась. Я отошел в сторону, не зная, что делать, и закурил.
И пока я курил, она плакала. Плакала беззвучно, не очень-то красиво кривя рот и
прижимая к груди обеими руками сумочку. С моря тянул свежий, полный запахов
морской капусты и рыбы ветер. Солнце рассыпалось по волнам.
Ася
открыла сумочку и, всхлипывая, достала маленький желтенький бинокль. Бинокль
был игрушечный, ни черта он не приближал, даже еще хуже было видно. Но мы по
очереди смотрели в него на сивучей, и я ощущал на веках влагу ее слез, впрочем,
почти уже высохших.
Мы
еще побродили по берегу, собирая ракушки для игры в крепость. Ася здорово
рассказывала про крепость, которую мы сложим из ракушек. И еще рассказала пару
мультиков. Она с утра до ночи смотрит телевизор, потому что не ходит в детский
сад, потому что родители ничего не успевают, а вот отвели бы в детский сад и
успевали, но им же некогда отвести...
-
Ну вот, я замерзла и, наверное, простужусь, догулялись, - сказала она
осуждающе.
И
мы пошли домой, а лапа у нее действительно была холоднющая, а варежки мы не
взяли. И я попеременно грел ее ладони в моих.
А
батька ее уже перебрался из кресла, где мы его недвижным оставили, на диван. Но
все равно спал, а рядом стояла пустая бутылка из-под пива, хотя где он его
взял, ума не приложу - я ведь перед уходом заглядывал в холодильник, пусто там
было.
Ася
ушла переодеваться, не забыв закрыть за собой дверь в комнату. Вскоре вернулась
и развесила на батарее промокшее бельишко. Мы немного поиграли в крепость из
ракушек. Потом Ася стала ходить по комнате, раскачиваясь, как сивуч и подражая
их реву. Весьма похоже подражая. И даже поревела по-сивучьи на ухо отцу. Тот
повернулся к стене и продолжал спать. Тогда Ася тихонько потянула его за ухо и
строго сказала:
-
Мы еще наслушаемся твоего молчания.
ЖАРЕНЫЕ АНАНАСЫ
Раз
в год, приберегая это событие к отпуску, мой милый и незлобивый Петров
взрывался. И тогда он садился в поезд, где столько чужих глаз, что сам себе
становишься интересен, и отправлялся в крохотный городишко в центре России. А
короче - на родину. Там и дочка его жила.
Под
стук колес да под бесконечные леса-поля за окном думалось Петрову примерно так:
«Надо же, маленький городок. Даже дождем его не успевает промочить, так быстро
Земля его под тучами проносит... А в нем - где и место нашлось? - дочка.
Маленькая. Вся-то с мое сердце...».
А
еще думалось Петрову беспокойно, что не был он на родине лет двести. Или около
того. И как там теперь?
На
самом же деле прошел всего лишь год с последнего его визита. Да те километры,
что между Петровым и дочкой, приплюсовать. Вот и получится двести лет. Одна из
тех маленьких неправд, что были так любезны его сердцу.
Поезд,
как и обещало расписание, доставил его в положенное время и место, освободился
от Петрова и, облегченно отдуваясь, двинулся дальше, везя остальных.
Только
на привокзальной площади Петров позволил себе увидеть, что городок все же чуть
побольше, чем помещавшийся в памяти. Но иначе Петрову было бы трудно любить его
целиком.
И
все так же на привокзальной площади пахло свежим и теплым хлебом из соседней
булочной.
-
Ну что, город-городишко, - сказал Петров, глядя на шустрых воробьев, ловко
орудующих среди чопорных, с городской пропиской, голубей. - Помнится мне, ты
довольно снисходительно посматривал на Петрова-мальчугана, а мои шестнадцать
лет внушали тебе подозрения, не так ли? Как это нет?! Я прекрасно помню, как ты
дрожал за свои стекла и оберегал своих непорочных дев... Вспомнил? То-то. Ну и
ладно. Кто старое помянет...
Несмотря
на столь обнадеживающее начало, мест в гостинице не оказалось, а идти сразу к
дочке, не осмотревшись в городке, основательному Петрову не хотелось.
-
Вы ведь не в командировку? - спросила из-за стойки женщина, усталая от долгой
такой работы.
-
Нет, - сказал Петров. И почему-то решив, что он очень ловок в обращении с
женщинами, спросил: - А мы не могли вместе учиться?
Женщина
привычно ничего не ответила. Должно быть, смутилась, как лестно подумал про
себя Петров. И в результате оказался сидящим в скверике у гостиницы, в обществе
юного гипсового горниста, горн которого был отбит у самых губ.
-
Должно быть, фальшивил, брат, - рассудил Петров.
А
вообще, хорошее настроение никогда его не покидало. Даже если что-то и
случалось, ему достаточно было призвать на помощь всего лишь каплю воображения
или негромко, почти про себя засвистеть что-нибудь, например: «Не пробуждай
воспоминаний...». И все.
-
А и то сказать, - продолжил Петров, - о
чем тут трубить? Взял бы я тебя с собой в тайгу... Вот там, брат, совсем другое
дело. Ну совсем другое. Труби, сколько душа пожелает. Деревьев много, а под
ними зверья и птицы пока не перевелось. Найдется и для твоих звуков место. И
никому не помешаешь. Больше того - станешь будить рано, только спасибо скажут.
Правда! И места у нас - краше не бывает. Сам посуди: даже солнце оттуда
восходит - это что, шутки? Правда, - добавил Петров, понизив голос, - последнее
время его, солнце, приходится долго уговаривать. Оно капризничает, не хочет
подниматься... Не совсем, признаюсь, приятное зрелище... Приходится всем
народом наваливаться. А так все хорошо. Так что подумай, а я пока - по делам.
И
те оставшиеся от двухсот километров несколько сот метров, что отделяют его от
дочки, он проходит чуть ли не за час, отвлекаясь на все и вся.
Дверь
открывает бывшая жена и спокойно, словно они расстались только вчера, говорит:
-
Привет. Заходи.
Пока
Петров заходит, он вспоминает, что жена его никогда и ничему не удивлялась. Это
всегда ставило Петрова в тупик. Жить в тупике ему не нравилось. Поэтому они и
разошлись. С тупиком и женой. А не потому, скажем, что он был жадный или злой,
или пьяница.
В
прихожей, а потом в комнате настает для Петрова время дочки.
Каждый
раз, прежде, чем обняться, они минут пять корчат друг другу рожи. Ничего себе,
веселые рожи. Потом уже Петров говорит:
-
Ну, здорово что ли, сосиска.
-
Сам сосиска, - не сдается Танек.
-
Это почему же я сосиска? - удивляется он.
-
А я почему? - изумлена она.
-
Потому что ты маленькая, толстенькая и глупенькая, - сделав жалостливое лицо,
поясняет он.
-
А ты длинный, худой и... тоже, - отвечает она, делая шаг назад.
-
Что-о? - грозно хмурит брови Петров.
И
дочка, все еще маленькая, несмотря на долгие разлуки, уже готова хохотать,
кричать, бегать. Но в комнату из кухни заглядывает бывшая жена и пресекает
буйство:
-
Значит так. Ты, любвеобильный отец, и ты, двуногая чума, пока жарится
картошка...
Петров
в это время видит перед собой только одноногую "чуму". Вторая нога у
«сосиски» поднята и еще не знает, бежать ей или нет.
-
... идете гулять, но не далеко, а то вас не докричишься.
И
они идут. Прогулка, понятно, начинается с захода в магазин, где закупается
масса веселой и яркой чепухи. Затем они нагруженные возвращаются во двор, где
Танек начинает возню в Песке, а Петров заманивает очередную мысль.
-
Ты вот что мне объясни, - призывает Петров дочку. - Почему, когда я был такой
же, как и ты, по возрасту, то и для меня возня в песке была непустяшным
занятием... А теперь, при всем моем уважении к тебе, я не могу вспомнить и
понять, что же там такого, в этом песке, было важного? Молчишь? Вот и
получается, что память не все нам сохраняет из детства. А почему?
-
Зовут, - отвечает Танек, показывая на окно, в котором призывно семафорит руками
бывшая жена.
-
Ладно, пошли. Пообщаемся все вместе, за столом. Тоже дело нужное...
-
Письма регулярно получаешь? - спрашивает Петров, когда они с Таньком, помыв
руки, сидят за столом.
-
Угу, - говорит Танек с набитым ртом.
-
А что толку, - вмешивается бывшая жена. - Читать-то все равно не умеет.
-
Скоро научится, - убежденно говорит Петров. - Главное: по порядку письма
складывать. А потом точно так же и прочитать. Ничего и не изменится. Просто
можно считать, что шли с большим опозданием. Бывает...
-
Я складываю, - говорит Танек.
И
они продолжают работать вилками. Кроме бывшей жены, которая начинает обычное:
-
Ты лучше скажи, когда вернешься? Совсем вернешься?
-
А сколько у нас еще впереди?
-
Чего впереди?
-
Ну, лет жизни...
-
Господи! Да откуда же я знаю? Ну, тридцать, допустим... Хватит?
-
Так куда же мне торопиться? - резонно, как ему кажется, отвечает Петров.
-
Так, - говорит бывшая жена, откладывая вилку и начиная мять в руках салфетку. -
Хорошо. Теперь скажи, как, по-твоему, что ты сейчас ешь?
-
Как что? - говорит Петров, всматриваясь в тарелку. - Сама же говорила -
картошка.
-
Угу. Картошка. А если бы я сказала - моченые грабли? Тоже бы поверил? И так же
уплетал, не задумываясь?
-
При чем тут грабли? Ведь вкусно же. Как, Танек?
-
Во! - говорит Танек.
-
Так вот слушай, - говорит бывшая жена. - Это - жареные ананасы. Специально для
тебя, Петров. Ты ведь любишь, чтобы все не как у людей... Ведь любишь?
Только
что приступивший к удивлению Петров вдруг понимает, что сейчас начнутся слезы.
Этого он терпеть не может. Переглянувшись с Таньком, поднимается из-за стола.
-
Ну... я пошел, что ли? - говорит он. - Проводишь, Танек?
-
Ага, до двери, - говорит Танек, посмотрев на мать и сползая со стула.
В
коридоре Петров целует дочку в лоб, вспоминая, что надо говорить в таких
случаях.
-
А... Вот вспомнил... Маму слушайся, - произносит он назидательно.
И
еще кричит в комнату бывшей жене:
-
Ушел!
А
потом, пока спускается по лестнице и выходит во дворе, и пока добирается до
сквера, к горнисту, все думает и бормочет под нос:
-
Ананасы... Вроде бы видел когда-то. Не наш продукт, понятно, а где тепло...
Много солнца, голопузых негритят и ананасов. Вот бы нам с дочкой там
поселиться. То-то б славно зажили... А там, глядишь, и эту выписали. Может,
понравилось бы ей?
Это
не забывает он и жену.
Проза.
Надежда Горлова
__________________________________________________________________
Надежда
Горлова
Надежда
Горлова родилась 6 июня 1975 года в Москве, где и живет. Окончила Литературный
институт им. М. Горького. Работает в «Литературной газете».
Лауреат
премии «Нового мира» за лучший дебют (рассказ «Поездка в Липецк»), премии
сетевого журнала «Русский переплет» (повесть «Паралипоменон»), премии «Эврика»
(повесть «Покрывало Ребекки»). Вошла в длинный список премии «Ясная Поляна»
(повесть «Покрывало Ребекки»).
Как
прозаик печаталась в «Новом мире», «Нашем современнике», «Нашей улице», «Подъеме», «Литературной учебе»,
«Литературной газете», альманахе «День и Ночь» и других журналах и альманахах.
Как поэт – в журналах «Арион», «Юность», «Литературная учеба», в сборнике
московских поэтов «Звуки неба», альманахах «День поэзии».
Замужем,
воспитывает дочь Екатерину.
МАМА
ТРАКТОРИСТА
На
заре юности я отдыхала в деревне и дружила с трактористом. Мы катались на
тракторе, и часов в двенадцать ночи тракторист предложил заехать к нему в
гости. Время мне показалось не поздним, и я согласилась. Однако когда мы зашли
в дом, я поняла, что все спят (встают-то рано в деревне), и что мое согласие
заехать в гости расценено однозначно.
Тракторист
привел меня в свою комнату, включил тихонечко «Сектор газа» и немного выкрутил
лампочку из патрона. Стало темно. Глупо мне показалось объяснять, что я не
собираюсь быть его девушкой. И я решила бежать. Пойду, думала, по шоссе в свою
деревню. Ну, десять километров. Ребята на мотоциклах все равно катаются,
кто-нибудь подвезет.
Сказала,
что мне надо в уборную. Туалет, как я и надеялась, располагался на улице. Но
тракторист сказал: «Ведро на кухне».
Кухня
оказалась рядом с дверью на улицу, но дверь была заперта, а ключа в ней не
было.
Окно
на кухне не открывалось, только форточка, в которую могла пролезть разве что
кошка.
Я
на цыпочках пошла по коридору в поисках другого окна.
Окно
нашлось – распахнутое настежь, в комнате, где спали родители тракториста. Я
остановилась в дверном проеме, продумывая стратегию: то ли мне бесшумно
подкрадываться к окну, то ли, наоборот, пробежать к нему быстро и решительно.
Мама
тракториста не спала. Она без объяснений поняла мое затруднение и сказала:
«Иди, ложись с нами». И подвинулась.
Когда
я проснулась утром, мама уже встала и ушла доить, а отец тракториста еще спал.
Однако ему неудобно было оставаться в постели наедине с подругой сына, поэтому
он лежал уже на полу, на ковровой дорожке, с подушкой и одеялом.
Мне
бы очень хотелось здороваться с мамой тракториста при встречах, но я не
запомнила ее лица.
МОГИЛЫ
1. Негниенный
У
этого мужика умер маленький сын. Через несколько лет – мать. Копая ей могилу,
наткнулся на угол детского гроба. Не выдержал, вырыл. Древесина истлела,
костюмчик раскис и расползся, а сам мальчик – «как вчера схоронили, только в
носик земля набилась». (Достоверность этого впечатления ни подтвердить, ни
опровергнуть не могу). Достал сына и принес домой, объяснил обмершей жене:
«Какая разница, где ему лежать, если он негниенный, пусть уж лучше с нами».
Диагностировали
всего лишь белую горячку.
Когда
запивал – бежал, падая, на кладбище, все в Шовском знали, отлавливали и вели
домой. Жена рассчиталась в совхозе и увезла его подальше.
Я
не люблю манихейский способ захоронения, куда как лучше – кремация. Когда моего
друга похоронили в гробу, долго не могла избавиться от мысли, - как он там, как
искажаются дорогие черты, и, главное, зачем там, в земле, красота превращается
в грязь.
2.
Гогольянцы
Интеллигентнейшие
москвичи, прозаик и поэтесса, выдав дочь замуж, решили приблизиться к народу и
купили дом в Тверской области. Приблизившись к народу, они приблизились и к
Богу, стали активистами восстановления местной порушенной церкви, и даже
получили должности приходского старосты и его заместительницы.
Для
ремонта церкви привезли кирпичи. Ночью они – дядя Саша и тетя Оля, - вдруг
решили посмотреть, не воруют ли кирпичи односельчане? Взяли берданку, да и
пошли в темноту.
Возле
церкви – старое кладбище, на котором уже давно никого не хоронили. По кладбищу
ходил мальчик лет десяти, садился у могил и что-то шептал. Они – к нему, а он – от них. Отходит все
дальше, дальше, слышно, - шепчет, а слов не разобрать.
Покружил
по кладбищу, подошел к церкви, к тому месту, где еще недавно был пролом, а
теперь его заделали кирпичами, словно хотел войти. Не видя преграды, наткнулся
на стену и стал ощупывать ее, как Наталья Варлей в роли панночки.
Дядя
Саша и тетя Оля испугались, побежали домой, и до утра читали молитвы. А утром
спросили местную старуху, нет ли тут такого странного мальчика… «Да напротив
церкви, за Волгой, кладбище утопленников и удавленников. Они к нам часто на
танцы приходили, когда в церкви клуб был».
ПЛАШКА
Поздним
вечером седьмого ноября папу с собакой угораздило застрять в лифте. Папа
энергично колотил в металлические стенки, собака разрывалась от лая, но - все
смотрели телевизор.
Наконец,
мама вышла на кухню и услышала, «как Лолочка где-то лает». Вызвали аварийку.
Папа
выстукивал ключом марши, а учуявшая нас с мамой собака билась об пол, как
Финист Ясный Сокол.
Ремонтники
не приехали, как ожидалось, а пришли пешком, и не торопясь. Голыми руками
открыли двери. Собаке сказали: «Укуси еще, б! Останешься, на х».
Папа,
вылезая, уронил ключи в шахту. Но, невзирая на потерю, подтянулся, доложил
обстановку (какие кнопочки горели), проникновенно спросил: «Я в чем-то
виноват?» - «Не, папаша, - ответили ремонтники. – Все по одной плашке
ходим».
На
ней и головы сложим.
ПЛОХАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Я
сидела в летнем ресторанчике у Карлова моста. Живые цветы в горшках, вкусная
еда, веселые нарядные люди – идиллия. Я ждала звонка, но мне не звонили.
Тревога нарастала, настроение портилось, и вскоре окружающая безмятежность
совершенно перестала соответствовать моему внутреннему настрою. Вдруг сильно
подул ветер, - это было предвестие наводнения в Праге. Меню, салфетки,
подставки для пива – все враз улетело со столов. Я-то сидела у окна, а тем, кто
в глубине, повезло меньше: кому-то в суп упала бумажная салфетка, кому-то
залепили лицо листья салата. Помрачневшие официанты кинулись устранять
неполадки. Горшки с цветами, подвешенные в проемах, качались и стучали один о
другой с таким звуком, словно в окна лезли полчища скелетов. Второй порыв
столкнул цветочные горшки рядом со мной так сильно, что они разбились, и мой
стол усыпала земля. Рекламный щит ресторана улетел и сбил велосипедиста. Все
это уже совершенно соответствовало тому, что делалось у меня в душе, и это меня
развеселило. Я спрятала телефон и, счастливая, ушла в ураган. Видела еще, как
по Влтаве плывут, качаясь на волнах так, будто они на пружинах, картины с
городскими пейзажами, - продавались на мосту.
В
другой раз я сидела в ресторане с мужчиной. Он спросил: «Ты выйдешь за меня
замуж?» - «Нет». Щелкнул зажигалкой, - дешевой, китайской, пламя которой не
регулировалось, и было то маленьким, - не прикуришь, то опаляло ему усы. На
этот раз оно выбросилось как язык лягушки и лизнуло летящую муху. Обожженная,
она с жужжанием метнулась по нисходящей траектории и упала в мой бокал с
красным вином.
Поскольку
мужчина был писателем, мы сразу же отвлеклись от бытовой темы, и стали
обсуждать, как можно отобразить этот случай в художественном произведении. «Это
ПЛОХАЯ литература! Такое бывает только в плохих романах!» - переживал писатель.
Проза.
Рассказ «Сиреневый двор». Надежда Мухина
__________________________________________________________________
Надежда
Мухина
Надежда
Мухина родилась в Москве в 1960 году. Окончила художественное училище и заочный
университет искусств по секции станковой живописи. Член МСХ с 1993 года.
Участница выставок с 1986 года. Работает в жанре пейзажа, натюрморта. Её
картины находятся в частных собраниях России, Англии, Германии, Франции,
Италии, Польши, Турции, включены в «Энциклопедию живописцев начала XXI века
(изд. ООО «Живопись-Инфо», М., 2008). Прозу пишет с 2004 года. Печаталась в
альманахе «Истоки» и в 1-м первом выпуске альманаха «Эолова арфа».
СИРЕНЕВЫЙ
ДВОР
(Новелла)
...Дворик
наш поживал своей тихой жизнью под московским небом, с голубями, с бегущими
кучевыми облаками, с временами года и переменной погодой, много-много лет.
Неподалёку
Москва-река несла воды зеленовато-искристые, бьющие лёгкой волной в серый
гранит. Мои вхождения в царство двора, как помню, всегда были неким ритуалом. В
пору бурного ли его цветения, вечерами ли, по утрам... В пасмурные, холодные
дни набухшая сирень пыталась тянуться к небу! Быть может, ОНА знала некие
слова, которые выражались в смиренном ожидании, и её руки-ветви складывались в
мольбе. Так в церкви нахлынет вдруг любовь, радость, от слов молитвы... Может,
и сад наш сиреневый просил не для себя – для нас! И разве мог сад быть ровней –
яблоневому, вишнёвому... О, нет! Это было бы несправедливо по отношению ко всем
другим садам. Он был прост и тих. Он был шалопай-ветрогон сиреневый! Шлёпал
меня легонько мокрой, полногрудой гроздью взрослой мамы по попке, по детскому
животику... Прохладной капелькой к пуповине – пуговка на штанишках вечно на
скорую руку пришита. Тяжёлые склонял в «химической» завивке синие, розовые,
малиновые и выбеленные (особый сорт!) кудряшки – притуливался к шее... Какое
блаженство испытывал я в зарослях прохладных кудрей! Купели пахучей сирени!!! И
должно было и мне – благодарить Бога, что ОН отщепнул от РАЯ кусочек Благодати,
кусочек окроплённой Земли!.. Быть может, ангелы, одетые в ватник и сапоги, и
выкопали ту, первую, ямку, посадили первый куст...
...А
вот и он – терракотовый мой дом. По фасаду выкрашен благородной, тусклой
киноварью. Кубическая компактность в три этажа, два подъезда. Наверное, тот,
кто проектировал дом с примесью «романтического барокко» – был из породы
чудаков, и в голове его крутились волнующие завитушки из прошлых веков. Бог его
знает. Вместе с домом как-то, сам собой, и выпочковался и спроектировался
чудный сад: ландшафтный спуск к набережной Москвы-реки был украшен сиренью.
Весной
проявлялась особая нежность, в пору цветения. Чудные дни наступали!
Волшебные... Тайна блуждала по двору, и для всех посторонних, пытавшихся
проникнуть в него, – вход был закрыт. Нарушителей, которые хотели наломать
букет, быстренько выпроваживали. Я трогала внушительную цепь, амбарный замок.
Цепь уютно свивалась между решёток эдакой удавихой, скреблась ржавой кожей об
асфальт и жадно «лакала» из лужи.
А
к вечеру, Боже мой! Сколько запахов во дворе!.. Будто бы мы были отделены от
города неприступной стеной сирени! Властью её над человеческой душою!.. «Ничего
нет в мире... НИЧЕГО!!! Цветёт один на Земле сиреневый двор...»
...Уже
и темень укрывала всё, и сверчки начинали песнь любви... Влага проникала во все
поры тела, настоянная за день оглушительной мольбой терпко-сладкого духа – в
саду тесно!.. И дух сирени прорывался сквозь щели забора к чужим домам, к
редким прохожим – уносился ветром ночным неведомо куда... Зачем?! Никто этого
не знал из жильцов. Потихоньку двор пустел и жил в одиночестве до утра.
...Кто
не знал о существовании сиреневого дворика, тот, наверное, поражён был бы,
впервые увидев его, находившийся на крутом спуске набережной Москвы-реки.
Впитала кроха земли все привычки московские: многовековой уклад, бережливость
и, я бы сказала, и скупость. Но всё это шло от излишка щедрого сердца.
Всенародная
любовь к природе так проявлялась. Худо-бедно – великолепное время было, без
прикрас, в начале 70-х годов.
...К
вечеру ворота закрывали на цепь, и я входила через калитку. Проходила в глубину
сада – ориентиром служил треснувший фонарь, подвешенный на ветку, он высвечивал
круглый стол и две скамейки, на которых сидело шесть-семь соседей, глазами
искала маму. Она отчего-то и не ругала, что это я так припозднилась. Целовала
меня в щёку:
–
Дочка моя! – с гордостью говорила она и снова целовала.
За
столом играли в карты на деньги, возле каждого игрока лежала стопка меди и
кладовая из жестяной банки в центре стола, дожидалась – денежкой побыстрее
наполниться. Вон и прабабковы тапочки прошлёпали в глубину сада, и старуха
сгорбленной тенью нависла у Сашки за спиной:
–
И хорош ли выигрыш? Так хорош ли?! – требовательно спросила старуха.
–
Козырная дама «пик» бьёт короля и выигрывает трёшку с копейками! Бабке на
табак!
–
Вот, так, так... и вылупилась щедрость из яйца? Это хорошо, – похвалил чей-то
голос из темноты, помолчал и снова похвалил: «Бог даёт дождя щедрого!
Сирень-то, к земле клонится...»
...Определённо,
наш двор стал центром притяжения всего огромного Ленинского района. От юных
малолеток в коротких штанишках, дев, подстриженных под «пажа»... Ходили они под
руку с гордым, сопливым мальчишом смышлёным. Беременные женщины частенько
спрашивали разрешения: «Можно ли присесть, отдохнуть... Рядом с сиренью –
скамейка...» Прабабкова старуха обмеривала пришелицу медленно-тяжёлым высверком
смутных глаз, её чёрный нос тянулся к табаку – так овчарка ждёт колбасу и,
насытившись, облизнётся, подобреет. «Отдыхайте, милая...», – шамкает старуха.
Беззубый рот её двигается, и голова опускается в дрёме, в воспоминаниях о
выигрыше картёжном правнучки Сашки, накануне, общая сумма которого в уме
составляла: три рубля и пятнадцать копеек. Об этом загадочном выигрыше судачили
всю последующую неделю, но... надвинувшееся известие – будто смерч из далёкой
«голодной» степи, принялся жевать, трепать и раздувать газетные новости. Чтобы
прийти к «дипломатическому» согласию – зачитали правительственное сообщение:
«...Подмосковные торфяники из-за небывалой жары, которая не наблюдалась
специальными службами около ста лет – торфяники под Москвой горят. Напоминаем:
«Сохранять спокойствие!» Теперь сладкими грёзами были для меня мечты об
арбузах... Экспроприация излишков зажиревшей советской овощбазы у Сашки
получилась отлично: не дрожащая рука пионера, самодельное копьё и острый глаз
опытного охотника на дичь – били точно в цель! Овощбаза соседствовала рядом с
домом, только руку протяни... Сашка был щедр – сахарная, прохладная мякоть
текла по губам, наполняя наши желудки. «Кормилица ты наша!» – всякий раз
говорил Сашка, целясь в арбуз.
...Эта
жара – как гигантская полусдохшая рыба, и я сдуру заглядываю в её пасть...
Представляю себе, что сижу возле рыбьего брюха и глажу и поливаю холодной водой
жабры. «Ты не вобла, терпи, – говорю ей, – терпи... Я же – терплю». Рыба
открывает мокрую губку рта и жалостливо смотрит... Я посмотрела на соседей, они
стойко держались и совсем не собирались падать на асфальт, в обморок. «Испьём
жала огненного...», – поставили диагноз жильцы из обоих подъездов.
–
Это ещё только цветочки – 30 градусов, а время 12 часов по-московскому, –
сказала дама из второго подъезда, проживающая на первом этаже. Года три они
прожили в Кабуле, и, после этой командировки мужа, семья, видимо, решила
пополнить собою класс советской интеллигенции. Вот и зазналась ехидная
буржуазия: рабоче-крестьянских посиделок чуралась и вкушала запах сирени из
окна. Но теперь прилепилось: бедствие захватническое! Лучше держаться вместе с
соседями. Тем не менее, их два окна прямо-таки нарывались на презрение
пролетария, по заграницам не шаставшего, такая потребность существования
иноземного вызывала подозрение в душах у честных работяг – навроде моей мамы
Валентины Константиновны.
...Прабабкова
старуха вспомнила Бога и прошамкала про «Страшный Суд», при этом втянув в
лошадиную ноздрю столько табака, что соседи на некоторое время забыли про
«судилище». «Нюхайте, заразы, табачок!» – И, чихнув подряд семь раз, старуха
прокляла чертей, которые потешаются – хорошо же поджариваются люди: «Кваса не
напасёшься!»
–
И помолилась бы ты Богу... не обчихалась бы! А то не ровен час, вместо нас –
черти за квасом в очередь встанут? – Сашка мотнул головой, чтоб стёк пот с
лица, утеревшись подолом рубашки.
...Сашка
оценивал сложившиеся метеоусловия как «плацдарм» для будущего похолодания и как
юный стратег тянул за одну-единственную спасительную мысль: «Гром и молния, вот
бес весёлый – ливнем на Москву обрушится!» – И, посмотрев на небо, которое
приобрело белёсый с жухло-синим оттенок (больничный какой-то, с признаком
карантина), и ближе к центру – полная неясность: туман... Сашка вздохнул и
молвил:
–
В час пополудни на градуснике 37,7... температурит погоду... – и снова
посмотрел на небо. Быть может, Сашка мечтал о луке и стрелах «нового секретного
оружия».
–
Зашкаливает? А-а-а?.. – заикнулся пропитой голос из коммуналки, Сашка не
откликнулся на испитое недоверие, но сказал своё слово:
–
Асфальт проваливается... и никакие передвижения в сторону тени здесь не
помогут.
–
Да брось ты, Сашка, температурит у него? Зимой тоже, температурит... А всё
равно наша сирень слаще пахнет! – Мужик из четырнадцатой квартиры улыбался во
весь рот. В молодости, наверное, он был похож на рабочего с плаката «Даёшь работу!» С такими же рублеными
чертами лица, в синем комбинезоне, и полон был неистощимой жизненной энергией:
хоть электростанцию подключай... на энтузиазме, которым гордилась страна.
...СТОЯЛА
ЛЮТАЯ ЖАРА.
Москва
вдыхала торфяной, едкий смог, и выдыхала торфяное похмелье по утрам. Что –
завтра?.. Асфальт исходил испариной днём и ночью. Он дымился, будто внизу была
преисподняя, – влага ушла из города. Москва-река обмелела, и там, где раньше об
гранит плескалась бурая вода, – осталась ржавая полоса отметины водного
пространства. Будущее казалось туманным... Сиреневые кусты сникли, листва была
серой, как высохший пергамент. По вечерам этот пергамент поливали теплой водой
из шланга, и на какое-то мгновенье терпкий дух сирени прорывался – шёл
откуда-то, с земли... И забившаяся под скамью облинявшая кошка, убаюканная
тенью, дремала до утра.
Лишь
одна прабабкова старуха всё мурлыкала себе под нос: «Лютикам, цветочкам впору
цвесть...»
...К
ночи стихала природа и расходились жильцы. Ветер не двигал ни одну запоздалую
тучку, и в сиреневых ветках не было ветра – чтоб им понять: «Мы ещё живы!.. Или
пожили – достаточно...»
...Помнится,
в то лето, дымное, изнуряющее, Сашка как-то утром начал что-то измерять и
вбивать деревянные колышки в нуждающуюся землю сада. Он решил выкопать пруд...
для освежения воздуха и рядом с кустами сирени, чтоб и «она» могла мокроту
ощутить до самых корней. Это было благое дело, и, быть может, и сам Господь Бог
улыбался с небес: не лоботрясничают люди... Пиво не пьют, три дня не пьют – и
выкопали в три дня. «Вот что значит: благие намерения». Прямоугольная форма
пруда скорей сгодилась бы для лягушатника...
Коммуналка
спрыгнула на дно пруда и запрыгала кузнечиками.
–
Всё прочно! Трещин нет! – проорали они.
–
Ничего нет!.. Пусто, как в фараоновой гробнице... – так же заорала трезвая от
избытка жары 14-я квартира.
–
Сей пруд будет являться источником влаги, испарений и прохлады вечерней... –
говорил Сашка и бросил пятак на счастье.
–
Орёл!.. Орёл!!! – прабабка жмурилась и на какое-то время забыла, что её нос
ждёт табак. Мужики уже резво подтягивали шланг – вода в нём зашипела и
рванулась струёй тёплого пара, издавая при этом непонятные, урчащие звуки, но
не дрогнули руки мужиков – вода лилась точно в пруд.
–
Стемнеет – торжественное включение фонаря... – орал Сашка. – Матч-реванш!!! –
и, сделав всем «салют пионеру», удалился отдыхать.
«По
шесть кусков сахара кладёт в чай, на стакан... и это в жару! – прабабка не то
жаловалась, не то гордилась: – Зато не курит и не пьёт Сашка...»
...К
общему удивлению, вода в лягушатнике оставалась на прежнем уровне – стало
смеркаться. Зажгли жёлтый фонарь. В меру выпившая 14-я квартира совсем было
осоловела от переполнявшей её жидкости, но всё-таки сердцем чуяла – будет
продолжение торжества – и изъявила желание «обмыть!». Обмыть на долгие лета
жизнедеятельность пруда, разбив об край бутылку жигулёвского пива. Наконец,
реванш был взят! В жестяной банке внушительно звенело, и, подтянув банку к
себе, прабабкова старуха высыпала деньги на стол:
–
Слюни-то что распустили?.. Бабкины мозги соображают... Кажись, пятёрка?
–
Какой реванш, однако??? – очнулась 14-я квартира. Оставалось решать – кому
делать заплыв на короткую дистанцию.
–
В порядке нумерации квартир, что ли? – победительница реванша что-то бормотала
про себя, мотая головой в разные стороны.
Сашка
подал голос. Что говорил он ей, трудно было понять. Все, вдруг, стали
прислушиваться к отдалённому шуму... Как будто это было дыхание, тяжёлое,
какого-то исполина едва живого... который нашёл в себе силы – поднялся, и
распростёр до неба руки и растопырил пальцы... Пытаясь пересохшим языком
подтолкнуть вожделённую дождевую тучу.
–
Слышите – гремит?.. – Робкая прохлада дотронулась до лица, шевельнула волосы...
К юго-западному направлению плыло по небу что-то, бесформенное, еле видимое, но
всё же темнее, чем небо...
...Жара
простояла до августа.
...Про
трясучесть нашего дома следовало бы сказать, что происходило всё не потому, что
дом был построен по недоразумению – на территории затухающего вулкана, который
изредка выбрасывал энергию на поверхность Саввинской набережной и дрожал...
Нет, обстоятельство было в другом. Мелкотрясучесть шла от насосной станции. В
ней располагались перерабатывающие машины – засасывающие канализационные стоки
и прочую мелкую пакость, выкидываемую вместе с туалетной бумагой,
экскрементами... Иногда мелькало то золотое колечко, то часы, которые тикали и
показывали время. Или же – массивная золотая цепь дореволюционного
производства, дремавшая в недрах подземелья, заполненного разнообразными
доисторическими тварями и прочей нечистью – исследованное с дотошностью
паталогоанатома писателем Гиляровским.
Находили
и бумажные деньги советского производства. Одна из работниц, дежурившая в
ночную смену, нашла в машине сотню. Сто рублей одной красноватой бумажкой,
подмоченную и с запахом, но деньги не пахнут, как говорится. Бумажка к утру
высохла и положена была в карман счастливицы. «Выудила-таки, за одну ночь!»
А
моей матери не везло. Двадцать лет работы с адскими машинами, кроме
изношенности тела да низкой зарплаты – ничего не дали. Но даже не маленькая
зарплата пугала меня больше всего – я боялась за мать, когда она уходила в
ночную, в дневную смену. Самой опасностью было подтопление – проще говоря,
затопление... Станция номер семь была под окнами, тоже, номер – семь. Наши с
мамой два окна смотрели на двор, на строение, высотою с наш дом. Выкрашенная
бледно-зелёной охрой станция, с огромными полуподвальными окнами, разделялась
приятными для глаз терракотовыми полосами. Сами же адские машины находились
глубоко под землей, в огромном помещении, облицованном белой керамической
плиткой. Под землёй тряслись и грохотали три огромные машины, и качали насосы с
граблями... Крутились и скрежетали и выбрасывали в пасть отверстия, накрученные
на грабли водоросли, тряпьё, истекающее липкой жижей вперемежку и нефтью... Всё
ползло по смотровому окну и билось и плескалось без отдыха день и ночь. Через
каждые два часа окно открывалось, и моя мама с огромным шестом подходила к
окнам – оттуда тянуло умершей жизнью воды, которая яростно сопротивлялась
машинам, и мама помогала машинам – тряпьё, водоросли... всё разгребая шестом:
чтоб грабли – гребли! И не дай тебе Бог – чтобы не застопорилось! не
остановилось что-нибудь в механизмах!
Я
с ужасом смотрела на маму, на отверстия, и на производимый стихией воды грохот
в преисподней привычной работы... И всегда я боялась – что-то случится, сейчас!
и прямо на моих глазах! Случится!.. Ужасное! Непоправимое... Мне никогда не
вынести разлуки... Мама кричала, а я не слышала – мои мысли были заняты: скорей
кончался бы этот кошмар... Скорей бы! Я ходила возле машин и ненавидела их – за
их жадность! Чавкающие челюсти! Очень прожорливые! Хотели – есть, есть...
Рвать, мять, перемалывать, растерзанные водоросли... И грохотать цепью, и
плеваться чёрной слюной, которая прежде была водой.
И,
когда работа машин делала передышку, то мама подходила ко мне, гладила меня по
голове и говорила: «Сколько раз я тебе говорила!.. Сколько раз... Не спускайся
сюда...»
Я
соглашалась и долго поднималась по крутой железной лестнице с переходами для
отдыха. Смотрела вниз, на машинный зал, на мать с вспотевшим лицом... Она
смотрела на меня и опять что-то кричала, и махала рукой... Казалось, что слёзы
выступили у неё... и опять мне хотелось бежать вниз, в белое подземелье
кафельных плиток... Пересиливая себя, я добиралась до конца лестницы. Напротив
росла сирень. Я садилась на ступеньки машинного отделения и вдыхала запахи,
смешанные с водой Москвы-реки, сиренью, и прислушивалась: размеренно гудело
машинное отделение, в котором билось материнское сердце.
...Безжалостным
было утро. Я орала прабабкиной старухе в её чёрный нос – уставившись на меня,
нос ожидал порции табака, и старуха просунула в ноздри табак, и выжидающе
глянула на меня.
–
Что, дочка?.. Случилось что-то??? – прошепелявила она. – Так станцию затопило
подземную... Рано, спозаранок... Вот и случилось! – старуха чихнула.
Второго
чиха я не слышала – ноги сделались ватными и не хотели слушать приказ:
бежать!!! Бежать к станции!!! Утром заканчивается смена, и мама одна... О,
Боже! Она не умеет плавать... Захлебнётся в жиже!.. Сердце моё выстукивало
машинный скрежет, грохот оборванных цепей... и искало стук материнского сердца
по подземелью, которое успело замкнуть дверь. Я должна открыть дверь и увидеть
лицо матери! Долго я прилагала усилия, чтобы открыть проклятую дверь, – она
поддавалась с трудом, и, успев уловить момент, я протиснулась в щель – которая
тут же захлопнулась за мной. Пробежав несколько железных ступеней, я посмотрела
вниз... Вода заполняла собою всё пространство и стояла без каких-либо
всплесков, без колебания... Она и не думала уходить обратно – она пролилась
«нечаянной» аварией сквозь железные челюсти и теперь полноправно хозяйничала...
...Доски
плавали над кафелем, обрывки газет, журналов, ножки от стульев, и обивка от
стульев, и что-то – напоминающее перину – вплывало в центр зала, как вздутое и
обмякшее мёртвое тело... Ещё одно тело высовывало руку – детская игрушка! Я
смотрела на красную полосу, которая была выложена кафелем на стене, отмеряя
один метр от пола – вода доходила до красной полосы. Посреди мерного гула машин
и отчаянной безысходности я услышала голос матери:
–
Дочка моя... Зачем ты пришла? Зачем?!! Господи! – Мать замедленно двигалась ко
мне в чёрном халате. Она тяжело дышала в воде, её лицо было мокрым, и вся она
была мокрая, бледная...
–
Скоро, скоро смена кончится... Слава Богу, всё обошлось, – говорила она и
смотрела внимательно, сурово, будто в чём-то я провинилась... А я не знаю, в
чём?!
–
Иди наверх! Иди!.. Жди во дворе! – только и сказала она, и опять повернулись
края её халата.
Сдвинув
с места затёкшие ноги, я медленно начала переступать через ступеньки – одну за
другой, пока не упёрлась в дверь. Дверь была закрыта намертво. Все усилия приоткрыть
её были невозможны. Отходы к отступлению были закрыты! Тайну белых кафельных
плит подземелья – никто не узнает.
...Долго
я сидела возле дверей, и вот, вдруг – порыв ветра – он распахнул настежь дверь,
прищемив мне палец. Криков своих я не слышала, и мать не могла, но кто-то
услышал. Дверь открыли, и мой побагровевший палец освободился. Спасительницей
была сменщица матери, она взглянула на меня, на палец, и сказала: «Дочка!» – и
побежала вниз. Рядом с подземельем стояли автоматы с газировкой. Наверное, их
установили для храбрости работниц – выпить на дорожку перед спуском в подземку.
Нажав кнопку, я подставила палец под газировку и, простояв минут пять у
автомата, вышла во двор и села на ступеньки. Потом вышла мама. Я не смотрела на
неё, я слышала её дыхание... Она потрогала мой палец, обняла меня,
поцеловала...
Показать
тебе слона? – спросила она.
–
Слона?
–
Слона, слона... Несколько дней он живёт в луже... Вот, смотри сама – видишь –
вот хобот, вот ручейки, это ноги слона... Каждый вечер поливают из шланга, и
лужа стала похожа на слона.
–
Как ты его заметила? – спросила я.
Мама
рассмеялась.
–
Во двор вышла и сразу увидела. Всю неделю смотрю, а слон не меняется... Никак
не сохнет лужа... От Москвы-реки – прохлада... да и под землёй – вода, бежит,
бежит без конца... Даст Бог, поживёт ещё слоник, – сказала мама. – И сирень отцвела – остался запах...
...Да,
сейчас мне хочется плакать. Приютиться бы возле маминого плеча... Но – нет. Не
звякнет цепь на воротах, и некому повернуть ключ... И мне остаётся лишь
смотреть сквозь ветви сирени, и кажется моя тень такая же длинная, далёкая, как
и детство... И нет никакой приземлённости! Память давно оторвалась от Земли и
прилепилась к крылу Ангела Хранителя... Память часто, часто даёт о себе
знать... Объемля мою душу крылом – утешает, скорбит, радуется... Невидимый друг
души моей.
2004
г.,
Москва
Проза.
Рассказы. Ирина Ефимова
__________________________________________________________________
Ирина
Ефимова
Ирина
Ефимова родилась и живет в Москве. Пишет стихи и прозу. Перевела с немецкого
языка «Сонеты к Орфею» Р.-М. Рильке. Печаталась в «Литературной газете», в
газете «Гуманитарный фонд», в «Литературном обозрении», в «Дне поэзии», в
«Московском вестнике». Была отмечена критикой в «Литературной России», в
«Московской правде». Автор книг стихов и прозы «Свет в подвале»,
«Незавершенье», «Окно Марии», «Бабья осень», «Для тех, кому за...», «Силосная
башня», «Я плаваю в открытом бассейне».
БАБКИ,
ГДЕ ВЫ?
И
вдруг ужаснула очевидность: огромный коллектив бабок, всегда живший у подъезда,
– и многоликий, и «на одно лицо» – за считанные годы исчез, растаял, как дым,
рассеялся, как туман, заслонявший неотвратимое завтра. И идущие вослед
передвинулись на освободившиеся клетки, как пешки на шахматной доске. Хотя еще
не встали к противно хлопающим дверям подъезда стражницами былой жизни...
Та,
что была древней всех, – комочек, круглый год в теплой одежде и валенках,
сросшихся с бестелесной плотью, – и уже не принимала участия в пересудах, а
просто сидела на табуретке с толстыми ножками и молчала, как положено
старейшине, глядя внутрь себя ослепшими глазами, давно растворилась, словно
перистое облачко на ясном небе. Спохватились года через два – ведь уже давно не
видно ее. А как давно, никто не
знал...
В
то же самое время другая, тоже маленькая, со следами былой интеллигенции, ибо
все уже стало былым, в «собраниях» не
участвовала, а, держась двумя руками за пыльный цоколь огромного дома, гуляла –
качалась и куталась в воротник; глаза у нее слезились, и с божьего одуванчика
зримо и поспешно облетали последние пушинки. Видно, давным-давно облетели,
пропал отживший цветок...
Остальные,
помоложе и покрепче, шумели, как густой бор, возле раздолбленной, исписанной
двери подъезда – ветеранши коммуналок, блюстительницы нравственности,
завсегдатаи очередей за дефицитом, давно похоронившие своих недолговечных
мужей, выпустившие из гнезда неблагодарных птенцов. Как у поэтов и художников,
у бабок не было отчеств – только имена.
Самой
заметной была бабка Шура – предводительница подъездного «дворянства».
Низенькая, в пальто из синего букле общесоюзного фасона с общипанным
каракулевым воротничком, она заразительно хохотала, открыв беззубый рот, не
чуждалась крепкого словца, а когда стоять на одном месте надоедало,
прогуливалась взад-вперед с амплитудой метров в тридцать, выпятив внушительный
бюст, разбрасывая в стороны приземистые ноги с крепкими российскими икрами, в
ногу с подружкой, тоже Шурой, тоже в синем буклированном пальто, но с нахмуренными
бровями и укоризненным взглядом, отчего выглядела она скорей оппоненткой
подружке, нежели единомышленницей. Если у первой Шуры из-под платка выбивались
седые букли, у второй горела ярко-рыжая прядь. Когда Шуры прогуливались, все
сообщество невольно переходило от статики к чуть заметной динамике: били ноги о
ноги, если была зима, – как бы приплясывали; или заново перевязывали косынки,
обновляя состояние, если стояло лето.
Бытовало
негласное правило: с бабками необязательно было прощаться, да такие ситуации
никогда и не возникали, но здороваться надлежало всегда, сколько бы раз на дню
ни проходили мимо. Отвечали они охотно, хором.
Бабки
были совестью подъезда. Они шугали назойливых голубей, обругивали наглых
владельцев автомобилей, оповещали сожителей по подъезду о прибытии фургона с
хлебом или венгерскими курами, стыдили мини- и хмыкали на макси-юбки, строго и
бдительно следили за браками, разводами и новорожденьями; лазерным взором пронизывали
каждого входящего в подъезд и каждого из него выходящего.
Они
никогда никуда не уезжали и не меняли дислокации – ни весенний шум свежей
тополиной листвы в дворовом палисаднике, ни луч солнца, падающий в каждый
определенный час на тот или иной, в зависимости от сезона, но всегда удаленный
от подъезда пятачок двора, ни выхлопы фыркающих, огромных, как могильные
склепы, фургонов не могли подвигнуть старожилок отлучиться от подъезда.
Примерно
в час пополудни бабки расходились по своим каморкам – обедать. Может быть,
отдыхали на аскетичных послевоенных лежанках – сия сиеста была за семью
печатями, впрочем, скорей за одним хлипким, вросшим в старую дверь коммуналки
«английским» замком. Если на дворе стояла светлая пора, бабки выходили еще раз,
часов в пять-шесть, сумерничали и удалялись на ночлег...
Вырубка
«бора» началась неожиданно. Не хватиться предводительницы не представлялось
возможным – уж больно шумная, заметная личность, живее всех живых. На вопрос,
почему не видно веселой Шуры, бабка с ехидными карими глазами, многозначительно
помолчав, сказала:
–
Нет ее больше.
–
Как нет?
–
Померла.
–
Как померла? Она же только что была жива!
–
А вот так... – бабка поджала губы, как будто умершая своей смертью нанесла ей
личное оскорбление, и укоризненно затрясла головой. – Не захотела больше жить.
Напилась уксуса. Не откачали.
–
А почему? Почему она так сделала? Она же такая веселая! – не хотелось говорить была.
–
Кто же её знает? Всё последнее время она говорила, что не хочет жить.
Это
был удар под дых – ведь не перистое облачко, не божий одуванчик, а сама
основательность, сама жизнь... Цитадель покачнулась.
Подружка
самоубивицы рыжая Шура стояла поодаль от всех, кисти рук заложила в
противоположные рукава, зябко ежила плечи.
–
Скучно без Шуры?
И,
может быть, в последний раз оппонируя товарке, рыжая Шура досадливо дернула
головой.
–
Ну что же теперь делать, если ей так захотелось...
Потом
было лето, пора праздничного разброда, облегченных после зимы, шатаний, поездок
туда-сюда, переизбытка зелени и свежего воздуха.
По
осени не досчитались рыжей Шуры. Вчера не было, сегодня не стоит, сверкая
огненной прядью.
–
А где рыжая Шура? – и всё внутри сжалось в предвиденье, предчувствии ответа, но
еще в надежде на милость судьбы. Полная, одышистая, страдавшая избыточным
любопытством Зина, на мгновенье оттянула тяжелый момент:
–
Какая рыжая Шура?
–
Ну, подружка той Шуры.
–
А-а-а, она тоже померла.
–
Как? Когда?
–
Еще летом.
–
А что с ней случилось?
–
Да болела...
Потом
исчезла Зина, но прежде чем наступил роковой исход, все знали, что Зина лежит в
своей комнате, болеет, не встает. Некому было теперь любопытствовать у всех обо
всем – как никто, Зина всегда хотела знать все подробности всех жизней. Стало
пустей, сумрачней. Ряды стремительно редели...
Пронесся
слух: убили толстую Тоньку – бабку, которая еще недавно, единственная из всех
бабок, пестовала маленького внука всё возле того же подъезда. У всех внуки если
и были, давно выросли и в бабках не нуждались, а этот, почему-то
припозднившийся, с круглой молочной мордашкой, вечно прошивал ткань
великовозрастного коллектива, точно штопальная игла. Слух так и остался
непроверенным: кто, почему и за что убил – никто не знал. Внук тут же исчез из
поля зрения, как будто вовсе не бывал...
И
еще заметная брешь – где та высокая, несгибаемая, худая и строгая, с удлиненным
желтоватым лицом и носом с благородной горбинкой? Которая, когда в магазине
бились за подсолнечное масло, отставила в сторону клюку и отстояла право взять
масло без очереди. Уж сколько времени масло без очереди... И спросить не у
кого...
Так...
А где же?.. Эта, последняя, тоже в синем пальто, и еще не
старая? Всегда любезно сообщавшая о продовольственных новинках? На краткий миг,
между двумя вырубками, заменившая рыжей Шуре Шуру-самоубийцу? Всегда в бурой
мохеровой шапочке с длинными, будто засахаренными ворсинками. Неужели и она?
Бог мой...
Огромная
туча старых женщин, аборигенов сталинских коммуналок, апологетов совестливой
российской жизни, рассеялась, и чистое, пустое, незнакомое небо открылось над
головой. Ни одной табуретки у подъезда, ни одного ящика. Святое место не пусто
– мальчишки, свободно разложив на земле детали, чинят велосипеды. Лязг железа,
ломкие подростковые голоса...
Одна-единственная
зацепка, одна хиленькая надежда на тех, кого забрали дети в другие дома и
районы, – о них всегда можно думать, что они живы, что еще подпирают
морщинистыми руками тонкую стену, отделяющую этот несовершенный мир от того, прекрасного. Ехидная кареглазая
бабка уехала к сыну и, говорят, день и ночь рыдает по своей коммуналке. И еще
одна перебралась к внучке, а комнату продала – такие теперь порядки...
Гуляет
ветер у северного подъезда, несет то поземку, то иностранные бумажки. Только
жеваные жвачки ни один вихрь не в силах поднять – прочно впечатались в тротуар,
стены, двери, окантовку лифта...
Гуляет
ветер, выветривает следы галош и широких, разбитых туфель, покинутых
ревматическими ногами их владелиц. Сгорели в мусорных печах осиротевшие
пожитки; лишь в памяти живых, ненадолго пришедших на смену, – синие пальто,
вытертые воротники, близорукие взгляды и, хором, всей тучей, – «Воистину
Воскреси» в Светлое, солнечное по другую сторону дома Воскресенье.
Одному
Богу известно насчет воскреси, но воистину они были...
Бабки,
где вы?
1995
Я
ЭТО ТВЕРДО ЗНАЮ...
Пусть осень у дверей,
я это твердо знаю...
Я
это твердо знала три дня назад, а сегодня, когда третьи сутки безснежную,
безлистную, колючую осень покрывает нескончаемый снегопад, я твердо знаю, что в
дверь вошла зима...
Почему-то
этими ноябрьскими, готовыми с самого утра наступить сумерками, вспоминается
миниатюрный первокурсник – однокурсник, одногруппник, абсолютно никакой роли в
моей жизни не сыгравший, ну разве одну небольшую... Впрочем...
...Я
– накануне восемнадцатилетия, он – девятнадцатилетия. Начало первого курса. И
хоть не в ту степь занесла меня
судьба, всё, кроме учебы, интересно. Мы, выпускники раздельных мужских и
женских школ, жадно, но стараясь не очень заметно, присматриваемся друг к
другу. Тем не менее замечаю, что он,
как сказали бы теперь, положил глаз
на меня. В ответ я, в последние школьные годы горевшая великой платонической
любовью, состроила ему глазки и позволила проводить меня до дома, испытывая – с
непривычки – страшную неловкость от прикосновения его пальцев к моим, хоть и
спрятанным в нитяные печатки.
Потом
на больших переменах мы совместно уплетали пятикопеечные пирожки с повидлом, на
лекциях многозначительно переглядывались, – рядом не садились, так казалось
интересней. И он, очень гордый в своем миниатюрном образе, стройный, с четко и
красиво вырезанными губами, блондинистым чубчиком, горделивым выражением лица,
позволял однако себе позволять мне некоторую фамильярность и даже простил
непростительную записку, которую я направила ему на лекции через ряды сокурсников
и в которой содержался весьма бестактный эскпромт: «Миленький, хорошенький маленький Сереженька, сердца только нет.
Перестань упрямиться, если хочешь нравиться, то пойдем в буфет...» Глупая
детская записка, – сердце у Сереженьки
было, и он не упрямился и ходил со мной в буфет есть пирожки, а слово
«маленький» наверняка резануло его самолюбие. Просто я немного зашлась в
непривычном для меня кокетстве, потому что в течение долгих (для щенячьего
возраста) лет привыкла придумывать
любимого, находясь в своем «прекрасном далеке» от него, а потому он был
примерно таким, каким я хотела его любить (примерно
– потому что редкое появление возлюбленного на горизонте нашей школьной
жизни вносило некоторые коррективы в образ)...
Итак,
надвигались отношения, к коим я до того относилась с большим сомнением, ибо
считала, что непререкаемым достоинством девушки является непорочность, при этом
имея весьма смутное представление о порочности.
В
день рождения Сережи мы просто вдвоем отправились гулять. Было начало декабря,
морозно, почему-то на Москве-реке, в районе Котельнической высотки, уже плавали
пласты и куски льда. Мы спустились по гранитной лестнице к воде, и я, в
кокетливом раже, со словами «а что если мне уплыть на этой льдине», протянула
ногу и уже было наступила на ненадежную субстанцию, но он сильно дернул меня за
руку, а потом прочувствованно, по-отечески, по-родственному, по-любовному отругал за легкомыслие, за
преступное непредвидение того, что могло бы случиться, если бы не его
мгновенная реакция... и т. д.
Я
так и не узнала, в каких выражениях рассказал он нашим согруппникам о моей
дурацкой, но все же не настолько значимой, чтобы о ней повествовать, выходке,
только несколько человек на следующий день подошли ко мне со словами «ты что, с
ума сошла?» – мы были еще дружными, заботливыми, наивными, не знающими жизни
первокурсниками, и даже самый мелкий факт нашего бытия был чрезвычайно важен...
Это
«событие» однако заметно сблизило нас, меня и Сережу, и через пару дней мы
долго сидели в моей комнате – делали задания, читали конспекты, которые я вела
прилежно, а он не очень, ели-пили; потом ему пора было идти домой, я проводила
его до двери, он вышел на лестничную площадку и вдруг таким же решительным
жестом, каким спас от утопления в холодной реке, дернул меня за руку, вытащив
на площадку, и... поцеловал к губы. Я поспешно попятилась в квартиру и закрыла
дверь...
Это
был первый в моей жизни поцелуй...
Далее,
по-видимому, шла борьба разума и плоти. Ум говорил: «Ты пала», – а плоти было интересно. Весь декабрь мы были
утвержденной общественностью парой – вместе ходили по институтскому коридору,
вместе после занятий выходили из института на набережную замерзшего водоканала,
где находился наш институт, иногда расставались на несколько часов, чтобы позже
встретиться для прогулки, и целовались, целовались в темных уголках зимней,
слабо освещенной, старой (новая еще не появилась) Москвы – тогда у всех на виду
не целовались.
Потом
наступил Новый год, мама с папой ушли, и вся группа дружно, без единого
исключения, явилась ко мне в две небольшие комнаты коммуналки, накрыли стол.
Быть может, для большинства – для меня определенно – это была первая встреча
Нового года, в которой не участвовали родители. Праздновали дружно,
вдохновенно, с огромным интересом друг к другу, всех ко всем.
Когда
веселье отшумело и все ушли, уже забрезжило снежное утро первого январского
дня, каким оно и должно быть и каким всегда было в далекой юности, а Пушкинское
«снег выпал только в январе» представлялось художественным образом. Так вот,
когда все ушли, и я, смертельно уставшая, наплевав на грязную посуду и весь
кавардак, оставшиеся после трех десятков гостей, направилась в постель, вдруг
обнаружилось, что Сережа не ушел и обнимает-целует меня, полуспящую,
распластанную на кровати прямо в нарядном платье и не способную ответить на его
ласки. Как ни старался он своими прекрасными губами и настойчивыми руками
разбудить мою чувственность, я не позволила прекрасному юноше заметить, что ему
это удалось, потому что она, разбуженная, твердо стояла на том, что пока будет
бодрствовать вдали от разбудившего. А когда Сережа принялся меня уверять, что
мы (в случае чего) обязательно
поженимся, я собрала последние силы и выпроводила его из квартиры.
Потом
была сессия, и после одного из экзаменов, в единственные полдня отдыха перед
очередной зарубежкой к следующему, Сережа повел меня в свой дом, чтобы
представить маме (папы у него, как и у многих моих сверстников, детей войны, не
было). Я сидела чинной девочкой и не могла расслабиться за вкусным обедом и
натянутым разговором. Наверное, я действительно понравилась его маме, как об
этом заявил Сережа, но сумма моих ощущений, сложившаяся к этому моменту из
любви к хорошему мальчику, взаимности чувств, новизны ситуации и, казалось,
день ото дня возраставшая, вдруг стала заметно уменьшаться – что-то стало из
нее вычитаться. Все чаще вспоминались годы пронзительного безответного чувства,
сладость страданий, трагические слова никогда
и невстреча как символы моей особой
судьбы, воля как счастье неразделенной любви.
Потом
были зимние каникулы, и на вечере в каком-то заводском клубе я, в синем костюме
с плиссированной юбкой и брошью на груди из маленьких золотых колокольчиков,
взялась приглашать на «белый танец» каких-то приглянувшихся мне юношей,
оставляя Сережу с замкнутым ртом и непроницаемым выражением лица. Я вдруг стала
замечать, что с его юных щек еще не сошли подростковые прыщи, что ему не
хватает роста, и что вообще образ несколько мелковат...
...Дальше
я отправилась по жизни без него, и надо сказать, что никогда об этом не
пожалела. Но почему-то иногда вспоминаю этого мальчика, которому дала –
по-видимому, без любви – свой первый невинный поцелуй. Может быть, потому, что
это было одно из многих безгорестных воспоминаний...
Он
не простил меня. До пятого курса не разговаривал со мной. На единственной
встрече однокурсников спустя двадцать пять лет – не поздоровался.
«Миленький,
хорошенький»... Но потом-то простил, Сережа? Давно наступило время прощать...
В
дверь вошла зима. Я это твердо знаю...
Проза.
Евгений Ильичёв
__________________________________________________________________
Евгений
Ильичёв
Евгений
Ильичёв (р. 1983). Окончил Смоленский государственный институт искусств. Живёт
и работает в Смоленске.
ДИКОЕ.
ЗВЕРИНОЕ
Живопись
фовистов преследует цель шокировать
и
раздражать глаз зрителя, заставить уйти
от
пассивного созерцания и погрузиться в стихию
красочной
материи, ощутить силу краски.
Дикое.
Звериное. Жёлтым водят по чёрному, чёрным по жёлтому – и ничуть не смешивая,
пятнами краплённые крылья с жирафовым окрасом. Позаимствованные краски у диких
фовистов Африки. Краски подобные не могли будоражить, не снились Анри Матиссу
(ни в осеннем салоне 1905 года – не волновали Дюфи, Дерена, Вламинка, Марке и
Руо) – ленивая бабочка Медведица уселась на жёлтый одуванчик. В среднерусской
полосе сгонишь с цветка – за реку: она тяжело свалится в высокой осоке, а ночью
уже окажешься наедине с дикими африканскими зверями (поди, тебя там найди!)
Медведица «Кайя», Медведица «Матронула», медведица «Доминула» («супруга»,
«хозяйка», «госпожа») – её мохнатая гусеница с бурой шерстью. Ночью приснится
бор, ностальгические русские бурые медведи – мохнатые и огромные, объедающие
кусты сладкой малины, их рёв. Приснится хвоя бесконечной таёжной Сибири… Далеко
забрался… И кто-то закричит в лепидоптеро-музее: «Не может быть! Это не
бабочка! Выдумано! Что за дикий вид!..» Действительно – что за дикие краски?
Невозможное. Немыслимое. Жёлтое и чёрное вместе. Шевелится словно живое,
расцветает. Ни одного оттенка, ни намёка: бабочка Медведица навевает чистыми
красками сон, неповоротливая. Здесь дикие краски – африканские саванны,
пространства расстилаются жёлтым, пятнами тени от редких деревьев, меж ними
ходят жирафы и лениво поднимаются на охоту пятнистые леопарды… Дикое… Звериное…
Удивительно красивое.
Публикацию
Евгения Ильичёва подготовил
Петр
Кобликов
Проза.
Поэзия. Эдуард Клыгуль
__________________________________________________________________
Эдуард
Клыгуль
(1937
– 2008)
Эдуард
Клыгуль
(1937
- 2008)
ОБ
ЭДУАРДЕ КЛЫГУЛЕ
Эдуард
Клыгуль, по гороскопу Рыба, родился в Москве 16 марта 1937 года и умер в Москве
же, 4 сентября 2008 года, в момент средоточия своих физических,
интеллектуальных и эмоциональных волн в нулевой точке, по таблице биоритмов. А
в промежутке между этими датами он прожил трудную, но интересную жизнь, богатую
внутренними впечатлениями, которые потом вошли в его книги, учился в Московском
авиационном институте, работал в многотиражке, работал на авиационном заводе,
стал кандидатом технических наук, но главное сформировался как неординарная
личность с поэтической, романтической,
трепетно-тонкой душой, с сильным мужским характером, с чувством собственного
достоинства, с аналитическим и художественным мышлением, со своим собственным
взглядом на мир и на человека и на разные явления жизни и в конце концов стал
писателем со своими темами и со своим почерком и доказал на своем примере, что
стать писателем никогда не поздно, даже и в позднем возрасте... Произведения
Эдуарда Клыгуля выходили в журнале "Наша улица", в альманахах
"Московский Парнас" и "Истоки", в газетах
"Слово", "Литературная Россия"... В 2001 году у него вышла
книга стихов "Облака моей юности", в 2003-м - книга прозы
"Столичная", с которой он был рекомендован и принят в Союз писателей
Москвы. В 2007-м году увидела свет его книга об эпохе рыночных отношений
"Женщины столичного банкира". В последнее время он интенсивно работал
над сценарии многосерийного телефильма, успел написать сценарий к восьми
сериям...
В
первом номере альманаха "Эолова арфа" читатели смогли ознакомиться с
рассказами Эдуарда Клыгуля "Костюм отца" и "Фамильная
ценность", которые передала альманаху его жена-вдова Татьяна Воронина.
Теперь она нашла у него в столе и передала нам его стихи и четыре его новеллы,
"Белый хлеб", "Цветы", "Ступени", "Дворовая
Собака", которые мы и предлагаем читателям. Грустно читать эти стихи и эти
новеллы, которые он написал от первого лица и в которых он фигурирует не в
прошедшем, а в настоящем времени, ходит по своей любимой Москве, показывает нам
ее в разных ракурсах... говорит о своей маме, которой уже нет на свете, о своей
тете, которой уже нет, о временах своего детства и своей юности, которых уже
нет, и о дворовой Собаке, которой уже нет... А его и самого уже нет... А все же
он есть - в своих произведениях. И все его герои, все, кого давно "на
свете нет", тоже там есть. И когда мы читаем о них, они воскресают по
теории моего земляка Фёдорова... Потому что они живут в Слове, а значит - в
Вечности.
Нина
Краснова
2
апреля 2009 г.
БЕЛЫЙ
ХЛЕБ
Тихую
грусть наводит во мне станция метро “Кропоткинская”. Идя среди её светло-серых,
светящихся изнутри, многогранных колонн,
уходящих звёздами-лепестками в потолок, я всегда вспоминаю своё детство, попавшее
под годы войны. Может, на мысль об этом времени наводит и нынешняя безлюдность
станции, объяснимая тем, что в этом районе людей стало жить меньше: в основном
все молодые москвичи уехали на новые микрорайонные окраины.
На
Остоженке родилась моя мама, в Первом Зачатьевском переулке жила её старшая
сестра – моя тётя, которая в последние годы войны работала на хлебозаводе.
Иногда у неё бывал белый хлеб, и поэтому я с детской голодной наивностью часто
упрашивал маму ехать в гости к тёте Нате. Маме, вероятно, было очень неудобно
перед сестрой, но она жалела меня, и мы отправлялись.
Шли
под гору по нашей родной булыжной Большой Спасской улице, затем по Каланчёвке с
гремящими трамваями и под мостом железной дороги выходили на площадь у трёх
вокзалов: Казанского, Ярославского, Ленинградского. Слева оставались клуб
мукомолов, где уже после войны часто
показывали трофейные фильмы, таможня. Под башней Казанского вокзала попадали в
метро.
Станция,
до которой мы ехали, тогда называлась не «Кропоткинская», а «Дворец Советов».
Позже из школьных учебников я узнал, что рядом будет построено грандиозное
сооружение из белого мрамора, а ещё позднее строители точно определили, что
воздвигнуть его не удастся: не та почва...
Мы
медленно поднимались по Метростроевской улице, мимо высокого дома с башней,
напоминающей колпачок Петрушки, строений с глубокими гулкими подворотнями. Я
любил останавливаться около вентиляционной решётки метро, выходящей прямо на
улицу. Откуда-то снизу, из под земли доносился гул уходящих поездов и тянуло теплом,
которого в жилищах тех военнных времён было так мало. Около булочной и
сквера поворачивали налево в переулок и,
чуть пройдя, входили в двухэтажное деревянное здание.
Тётя
жила на первом этаже. Телефонов в Москве тогда почти ни у кого не было. Она нас
не ждала. Радовалась тоже не всегда, хватало своих забот с маленькой дочкой.
Жили все трудно. Я сидел, смотрел на мерцающую керосинно-бензиновую горелку,
сделанную из старой, наверное, Кузнецовской, сахарницы, называвшуюся “фитюлькой”. Терпеливо ждал белого
хлеба.
Тётя
доставала где-то тщательно припрятанный,
уже зачерствевший батон, отрезала небольшой желтоватый ломтик и давала
мне. Светлый чай с сахарином и этот кусочек белого хлеба создавали радость в
моей зажатой той суровой порой детской душе. Казалось, в зашторенной, чуть
освещённой комнатке становилось ярко, как на детском празднике ёлки, лица
взрослых тоже просветлялись.
Иногда
я и теперь, беря привычно с лотка в булочной белый свежий батон, вдруг
останавливаюсь и вспоминаю тот живой белый хлеб моего детства, такой редкий в
те далёкие, но никогда не уйдущие в небытиё времена военной Москвы.
ЦВЕТЫ
В
панельных домах девятиэтажках нет подоконников и форточек. Может быть, поэтому
там редко у кого увидишь комнатные растения. Раньше, в старом городе домашние
цветы жили в каждой семье. Это была даже традиция, как, например, держать
кошек.
Узкое
окно нашей комнаты выходило во двор. Пол первого этажа находился на уровне
земли двора, и, глядя на моих сверстников, я как бы всегда находился среди них,
во дворе. Можно было спрятаться за цветами, и тогда девчонки не подозревали,
что за ними наблюдают.
Цветы
на окнах были разные: бегония, фикус, герань, лёгкие ёлочки-метёлочки и другие
зелёно–голубые, названия которых я не знал.
Особенно
мне нравилось, когда начинался тёплый летний дождь и мама выносила цветы во
двор. Вскоре рядом ставили цветочные горшки соседи. Дождь становился гуще,
пузырился в лужах. Листья цветов зябко вздрагивали в такт каплям. Серебристо и
клейко пахло тополями. Жители толпились в дверях и молча смотрели, как вольный
дождь моет комнатных нежных затворников,
напитывает горшковую землю июньским ароматом. Смотрели долго без мыслей, как смотрят
на огонь и воду.
Постепенно
дождь стихал, и тогда все умиротворённо, как после богослужения, разбирали
цветы и, словно зажжённые свечи, бережно несли их в свои жилища. В маленьких
помещениях сразу становилось светлее, радостнее, спокойнее. Это цветочное
омовение, как мне по- детски казалось,
сближало коммунальных людей. В этот день никто не ссорился, забывалось всё то
трудное, что начнётся завтра.
Возможно,
цветы не могут жить среди бетонных стен, наверное, им тяжело дышать и расти. Но
давайте, попробуем, возьмём к себе в дом хотя бы по маленькому цветку. Вдруг он
приживётся?
СТУПЕНИ
По
лестнице моего нового крупнопанельного дома я хожу довольно редко: если решу
спуститься за газетой пешком или когда неисправен лифт. Поэтому к лестничным
ступеням не присматриваюсь, да и кому придёт в голову вглядываться в
маловыразительные, блёкло-серые, изобретённые ещё в начале человечества порожки
для восхождения.
Другое
дело были ступени в доме моего детства на Большой Спасской улице. Строение
двухэтажное, низ - кирпичный, верх - деревянный, с парадным и чёрным входами.
Нас, мальчишек, конечно, больше увлекала узкая винтовая лестница чёрного хода,
которая вела через второй этаж на чердак. Ступени у неё жёлтые, оттёртые до
янтарного блеска ботинками жильцов, нередко подбитыми металлическими подковками
спереди и сзади. Каждая ступенька хранила свои воспоминания. Вот на этой мы
играли в “расшибалку”, на другой сидели и обменивались осколками от фугасок, на
третьей - чертили мелом стрелки, сражаясь в “казаки-разбойники”.
Лестница
упиралась в деревянный люк, открыв который, можно было попасть на чердак. Пол
на чердаке мягкий, посыпанный песком, пахнет кошками. С чердака через маленькое
оконце вылезали на крутую крышу и затем, напрягаясь от страха, шли вдоль
карниза к наружной пожарной лестнице, и цепляясь руками за её железные ржавые
круглые перекладины, делая гордый, независимый вид, спускались на виду у
девчонок во двор. А зимой мы поднимались по “пожарке” до второго этажа и,
“раскрыв” старый чёрный зонтик, прыгали в сугробы.
На
нашей улице находился известный на всю Москву Спасский ломбард. Здание
выстроено в странном полуготическом угрюмом стиле и покрашено
грязновато-красной краской. Внутри ломбард весь какой-то линялый. Линялыми
казались одежды его посетителей, а лица - унылыми. Сюда каждую весну родители
ходили закладывать зимние пальто, чтобы перекрутиться с долгами: время было
послевоенное.
Таких
истёртых лестничных ступеней, как в ломбарде, я больше не встречал нигде, разве
что в судах. Это от того, думалось мне, что люди шагают по ним медленно, трудно,
отяжелённые думами своими и печалями. Через много-много лет мне как-то пришлось
опять увидеть ступени этого ломбарда. Они не очень изменились.
Но
самыми светлыми в моей жизни были почерневшие деревянные ступени в двухэтажном
бревенчатом доме в Марьиной Роще. Много лет назад в этом шедевре купеческой столицы проходил
мой первый месяц семейной жизни. Я радостно взбегал по этим ступеням в узкую
комнатку, отделённую от многочисленных соседей коммуналки фанерной перегородкой.
Весело скрипели ступени. Это был один из многих в те времена домов в Москве,
где «удобства» находились во дворе. Поэтому жители в сильные морозы разные
отходы человеческой жизнедеятельности накапливали в вёдрах, а затем выносили их
наружу. Однажды, с таким полным ведром я сбегал по лестнице. Поскользнувшись на
обледенелых ступенях, упал и поехал вниз на спине. Ведро ударилось об одну из
ступенек, и всё содержимое выплеснулось мне в лицо. Я лежал на ступенях,
утирался ладонью и смеялся. Смеялся потому, что был счастлив, я любил и был любим...
А
сейчас я медленно поднимаюсь по лестнице моего нового многоквартирного дома,
останавливаюсь на площадке. Предо мною ступени. Слышу быстрые шаги. Вверх по
лестнице, чему-то улыбаясь, бежит мой сын.
Ему
нравится бегать вверх, перепрыгивая сразу через несколько ступенек.
ДВОРОВАЯ СОБАКА
Лет
двадцать-тридцать тому назад почти в каждом московском дворе жила своя Собака.
Где она ночевала, никто не знал, может, где-то между многочисленных хромых,
серых сараев, в которых хранились дрова, а скорей всего под лестницей чёрного
хода. На чердаке было бы уютнее: мягче, тише, теплее, но этим местом Собака
пренебрегала. Во-первых потому, что там было государство кошек, а самое
главное, из-за того, что вверху она не смогла бы выполнять свой основной долг–
сторожить дом и двор. Дворовая Собака охраняла весь двор, всех жителей, всё их
скромное добро, состоящее из кроватей с никелированными шариками, высокими
подушками и хрипящих настенных дедовских часов. Жильцы заботились о Собаке: не
выбрасывали косточки, оставшиеся после еды, а просили детей относить их Собаке.
Иногда взрослые и сами давали Собаке еду
для того, чтобы почувствовать тёплый благодарный собачий взгляд. Собака
отплачивала честностью: стоило незнакомцу с недобрыми намерениями вынырнуть из
проходного двора или появиться на крыше сарая, как она поднимала такой лай, что
все окна открывались и пришелец спешил покинуть двор.
Двор
свой Собака любила, людей, живущих в нём, уважала.
В
современных микрорайонах дворов нет. Все дома стоят как бы на одной изломанной
застройками улице. Не стало и дворовых собак. Зато появилось много собак
комнатных: от здоровенных благосклонных сенбернаров до карманных отчаянных
пинчеров. Вечером с девяти до десяти часов вместе с хозяевами они гуляют по
улице. Это шествие своим разнообразием пород и ритуальностью напоминает
маленькую собачью выставку. Круг задач у микрорайонных собак стал более
конкретным: охранять своего хозяина, быть товарищем только ему.
Не
так давно около нашего десятиподъездного трёхсотшестидесятиквартирного дома я стал
часто встречать небольшого пса, который ходил один, сидел один, в одиночку грыз
кость.
Шерсть
у него было серо-рыжая, нестриженая, он был немного похож на павиана. Дети
звали его Вулкан. Он был добр и играл с ними. Деловито бегал Вулкан вокруг
дома, ворчал на прохожих, не живущих в нём.
Однажды
я вышел очень рано и увидел, что около дома, на земле, под кустами, обхватив
голову лапами, спит Вулкан. Почуяв, что кто-то идёт, он проснулся и
приглушённо, чтобы не разбудить жителей, зарычал. И тут я понял, что пёс живёт
один, но остался верен потомственным традициям и сторожит весь дом, охраняет
всех жильцов, у него нет своего хозяина. Он – общий, Вулкан – дворовая Собака!
Теперь,
идя утром на работу, я уже всегда, как доброе напутствие, искал ответный взгляд
вдумчивых печальных тёмных глаз честного дворового труженика. Мне становилось
совестно, если я забывал принести ему что-нибудь поесть.
Вулкан
жил около нашей бетонной громадины года три, а затем исчез. Красивых комнатных
собак стало ещё больше. Они продолжают гулять и дорожить своими хозяевами. А
нашего общего пса-охранителя нет. Друга общего нет.
ИЛЛЮЗИИ
Я
в детство впал.
Я
надувал пузырь из мыла
и
видел: красно-фиолетовая сила
зажатым
воздухом ему бока водила.
Он
весь дрожал, но устоял.
Я
думал, вот он полетит
на
радость праздничному люду,
и
вместо солнечного чуда
светить
и греть он вечно будет
и,
как хрустальный, зазвенит...
Стеклянно-мыльный
шар!
Я
так хотел, чтоб он остался,
счастливым
был, сверкал, смеялся,
всё
больше, шире раздувался...
От
ветра лопнул шар
из
лунного стекла.
И
капля, как слеза,
с
соломинки стекла.
ОКТЯБРЬ
И
снова сумерки, и снова темнота,
и
лик расплывчат осени дождливой.
И
в немоту зимы уходит лета доброта,
и
льдом становятся октябрьские разливы.
А
город напряжённо-молчалив
и
сетью улиц ловит пересуды.
И
в тишине трамвай криклив,
и
вздрогнула в шкафу посуда.
В
туман! Из сумрачной квартиры.
И
лампа растворяется в окне
прощальным
фонарём
в
конце за этим миром,
так
бешено несущимся во мгле.
МЫ
В ВЕСНЕ
Танюше
Расплескался
у меня на плече
глаз
твоих заколдованный омут.
У
тебя, как в царевне-пчеле,
Тело
полно цветочного рома.
Голубой,
прозрачный ливень -
твои
волосы на руке.
А
во мне, как река в разливе,
или
птица в хмельной тоске.
Ближе,
ближе - и все закружилось,
и
я в омуте, и дожде.
Птица
вырвалась, как пружина,
как
пружина, звенит в весне.
ЖЕНСКОЕ БЕЗМОЛВИЕ
Как
в тайну волн,
Проникнуть
в женское безмолвие не суждено.
И
телу твоему поклон.
Я
сердцем ощущаю трепет мола,
предштормовую
зыбь...
И
падаю… на дно.
* *
*
Ворошить
не надо шорохи небес.
Мы
уйдём с тобою в недалёкий лес.
Васильки
покроют нашу наготу.
Я
тобой любуюсь, прошлое - сотру.
* *
*
Снег
- седина природная -
на
голову ложится,
между
ветвей безлистных
на
тихий сквер струится...
ДОРОГА
Руки
деревья тянут к дороге,
молят
дорогу: «Возьми нас с собой!»
Но
убегает дорога в тревоге.
Слиться
ей надо с небес синевой.
ЭЛЕКТРИЧКА
Электричка
людей слизнула с платформы
и
с криком рванулась вперёд.
И
вот уже скрылась в дали семафорной
в
рельсовый водоворот.
И
сразу за нею красный свет.
И
красным сверкают линии...
Лишь
дрогнули чуть электричке вслед
ресницы
шпал тёмно-синие.
ВЕСЕННЕЕ ШОССЕ
Весна.
В магазины везут мотоциклы,
пропитаны
краской и с новой резиной.
Сугробы
в грязи все, пожухли, поникли.
Весенние
лужи синеют бензином.
Вот
красные «Явы» и чёрные «Ижи»,
и
вот мотороллер, весь солнечно-рыжий.
От
жажды бензиновой стёкла мутнеют.
А
солнце всё греет сильнее, сильнее.
Вот
дом прокатил по частям и деталям,
тускнея
бетоном и сталью блистая.
растаял
в дали, чтоб собраться в жилище.
А
ветер в колёсах всё свищет и свищет.
Спелёнуты
корни у леса рожденцев.
Их
ветви, как голые руки младенцев,
беспомощно
небо хватают, кричат
и
просят машину вернуть их назад.
Назад
в глинозём, весь пропахнувший прелой листвою,
где
вместо асфальта лежит прошлогодняя хвоя,
где
нет модной стрижки весенних ветвей,
и
корни в решётках не сжаты. Скорей,
скорей,
всё скорее несутся машины,
чтоб
в город весну всем успеть привезти,
и
запах асфальта, и запах бензина,
и
почки, набухшие в быстром пути.
Редакция благодарит
Татьяну Воронину, которая
предоставила «Эоловой
арфе» произведения Эдуарда Клыгуля.
Проза.
Рассказы. Ваграм Кеворков
__________________________________________________________________
Ваграм Кеворков
В
произведениях Ваграма Кеворкова существует только то, что знает и чувствует он,
а о чем не догадывается и чего не может себе представить, того и не существует
как бы вовсе. Обладая жизненным опытом на двадцать томов, Ваграм Кеворков, прекрасный телевизионный режиссер,
начал штурм литературы в последнее десятилетие, воплотив этот яростный и
прекрасный штурм в превосходную высокохудожественную прозу. Впрочем, ранние писательские
старты или поздние не имеют равно никакого значения для обретения бессмертия
души. Его отец армянин Багдасар Геворкян стал выдающимся русским артистом
Борисом Кеворковым. Аромат чудесной прозы пятигорца Ваграма Кеворкова
напоминает мне лирическую стилистику чегемца Фазиля Искандера. Проза Ваграма
Кеворкова сдержанна и величественна, как горы Кавказа. Для меня ясно одно -
писатель Ваграм Кеворков сразу занял свое почетное место среди бессмертных.
Юрий
Кувалдин
Ваграм
Борисович Кеворков родился 1 июля 1938 года в Пятигорске. Окончил режиссерский
факультет ГИТИСа им. А. Луначарского, а до этого историко-филологический
факультет Пятигорского государственного педагогического института. Работал на телевидении
режиссером-постановщиком (в 70-е годы вел передачу "Спокойной ночи,
малыши!"), был диктором, актером, конферансье. Член Союза журналистов с
1978 года. Член Союза писателей России. Наиболее полно талант Ваграма Кеворкова
раскрылся в журнале Юрия Кувалдина “Наша улица", в альманахах
"Ре-Цепт" и "Золотая птица". Принимал участие в 1-м выпуске
альманаха "Эолова арфа". Автор книг "Романы бахт"
("Книжный сад", 2009), "Эликсир жизни" (Книжный сад",
2009).
ОПЕРАЦИЯ «ЭЛЬБРУС».
Рассказ
Ветер
от винта рванул так, что заросли облепихи растрепало, прижало к земле, они
страдали, не в силах подняться под бешеным напором воздуха, и только когда
вертолет, оторвавшись от прибрежной гальки, заскользил над Баксаном, зеленые
колючие ветви с желтоватыми ягодами постепенно пришли в себя и приподнялись.
Вертолет
шел высоко над рекой, приближаясь к Эльбрусу, к его гигантскому массиву справа
в конце большого ущелья, рассеченного горой Азау-Чегет надвое: неширокую ветвь
между Шат-горой и Азау и огромную между Азау и стеною Донгуз-Оруна с вершинными
треугольниками Когутаев, с белоснежной красавицей Накрой.
Саша
прильнул к иллюминатору, но изредка поглядывал на пилота.
Тот
нервничал. Он тушил пожары в сибирской тайге, когда его, пилота-рекордсмена,
перебросили вместе с машиной сюда: взлететь на Эльбрус, на его правый купол –
Грохот
в салоне, как в жестяном коробе, если по нему колотить молотком, поэтому все
молчат, увлеченно пялятся в иллюминаторы.
«Вертушка»
летит над склоном Эльбруса, повторяя рельеф метрах в трехстах повыше,
«карабкается» на вершину. И внезапно стремительно срывается вниз, - склон
приближается с ужасающей быстротой, у всех дух захватывает: «Неужели конец?!»
Почему
вдруг вертолет отвалил вправо и пошел на вираж, оказываясь все выше и выше над
резко уходящим вниз склоном, сразу понял только пилот: в последние секунды
перед ударом о твердь воздушная яма закончилась, лопасти оперлись о плотный
воздух, и машина чудом выполнила спасительный маневр.
Лица
у всех зеленые, еще не верится в спасение: «Погибнуть так глупо?!»
Пилот,
широко закладывая виражи, кружит, кружит и постепенно взлетает выше вершины!
«Ага! Лучше сесть на купол с высоты, а не «карабкаться» на него!» - оценил
Саша.
«Стрекоза»
медленно опускается. Люди ошеломлены: какое тут все огромное! И сам купол, и
весь Эльбрус – Шат-гора, - не охватить взором враз, только в панораме: и
склоны, и соседний купол, и соседние, и дальние горы – вся цепь! Странно
глядеть на нее с такой исполинской высоты и не сбоку, как из Пятигорска, а
вроде бы изнутри. «А где же Машук с телевышкой? А Бештау? Неужели это вон тот
едва различимый прыщичек? Ура, есть касание! Сели!»
Все
аплодируют, но в грохоте винта ничего не слышно! Пилот сбавляет обороты, но не
выключает двигатель, и машет рукой, - мол, давайте, вываливайтесь поскорее, -
машет рукой, как заводит что-то: скорей, скорей, пошевеливайтесь!
Паша
открывает дверь, и Саша первым прыгает на снег! И сразу за кинокамеру: вот она,
вершина! Красное знамя, охваченное голубоватым льдом, - впечатление, будто оно
вмерзло в прозрачное стекло: еще бы, сейчас, в конце июля, днем здесь минус
двенадцать, - Паша уже ведет замеры, в руках у него термометр и меленка из
четырех чашеобразных лопастей, - датчик фиксирует количество оборотов, потом из
этого можно вывести скорость ветра.
Быстрее
фотографироваться: у знамени, у мотоцикла с крупными шипами на обоих колесах, -
на нем прошлым летом кто-то въехал сюда, на вершину Европы, - мотоцикл тоже
заключен в прозрачную глыбу льда, оброс за год.
Все
в рубашечках с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу, всех мелко колотит
от холода, кажется, даже кишки успели промерзнуть!
Паша
торопит, - не очень-то слышно его за грохотом винта, но и так понятно: все,
пора, надо сматываться, пилот нервничает! «А чего нервничать-то? Сели же!» Но
Паша показывает: взлетать, взлетать скорее, и только тут, глядя на его
взволнованность, доходит до всех, что взлет ничуть не легче посадки!
Влезли
в салон, уселись, замерли: «Ну, летим?!»
Двигатель
ревет на форсаже, а вертолет ни с места! Разреженный воздух большой высоты
лишил лопасти опоры! Стало не по себе: все задубели, пеший спуск в рубашечках и
сандалиях с такой высоты, - не приведи Господь! «Хорошо, если удастся добраться
до Приюта одиннадцати, а если...»
Пилот,
осознав тщетность попыток взлететь вертикально, чуть тронул беговой ход машины,
и, рискуя скатиться, сорваться в пропасть, все же повис над ледовым склоном и
заскользил все ниже и ниже, и по мере снижения трясло поменьше: воздух становился
плотнее.
Снизу
густой пеленой стремительно клубились, плыли навстречу восходящие аэрозоли, и
только попав в эту мглу, осознали: это еще опаснее – без видимости влипнуть,
вмяться в скалу! В секундных разрывах определяясь с ближайшим курсом, пилот все
снижал и снижал машину, и преодолел, наконец, самую плотную часть аэрозолей! В
салоне шумно вздохнули, кое-кто отер холодный пот со лба.
Саша
все это снял.
Когда
оказались на гальке у тех же зарослей облепихи, поняли: могли не взлететь,
могли сорваться в пропасть, могли разбиться, могли…
Пилот
выключил двигатель и, ожидая остановки винтов, несущего и рулевого, сидел
неподвижно, закрыв глаза.
Через
час он увел «вертушку» в Минводский аэропорт, а остальные участники рекордного
полета повторили свой утренний путь к Эльбрусу уже по шоссе, на «газике».
Иногда
останавливались, ждали, когда скреперы и бульдозеры расчистят дорогу от
сошедших лавин. Саша снимал это, а Паша, оставив руль, коротая ожиданье,
рассказывал:
-
Станция здесь с двадцатых годов, сразу после гражданской войны. Сперва для
слежения за горами: лавины и все такое. Потом добавилась биология, - по моей
части. Я тогда еще не родился, в двадцать девятом, когда появился тут
Сиротинин. Он первым понял: можно лечить гипоксией – кислородным голоданием,
чем выше, тем сильней гипоксия. Последовательная смена высот есть лечение без
лекарств.
-
А кто это, Сиротинин? – встрял Саша.
-
Академик, шеф наш.
-
И что же лечите?
-
Бронхиальную астму, шизофрению, энцефалит. Лишь бы печень была здорова, с
больной печенью в горах делать нечего.
К
вечеру достигли Иткола, - здесь, в «финских» домиках среди сосен, и базируется
экспедиция.
За
ужином Паша познакомил телевизионщиков с научными сотрудниками и с Дашей,
хозяйкой столовой. Паше на вид где-то за тридцать, мужчинам-сотрудникам,
пожалуй, за сорок, а Даше, скорее всего, столько, когда «баба ягодка опять»,
Саше так и хотелось назвать ее Ягодкой, - крепкую, ладную, темноволосую,
белозубую, сероглазую, сразу видно – веселую. Ягодка да и только!
-
Она вот уж двадцать лет каждый день поутру за два километра в нарзанный колодец
ходит, в ледяной кипяток окунается!
Паша
заметил восхищенные взгляды рабов экрана и добил мужиков: - Кандидат наук!
Даша
блеснула улыбкой: - Здесь все кандидаты! А Паша четырехкратный!
В
пять утра по грибы в молодой соснячок! По-шустрому набрали там два огромных
бумажных мешка маслят, отнесли их в столовую, отдали Даше. Она наскоро
покормила хлебом с маслом, выпили сладкого чая, и бегом на дорогу: там ждет
Надир со своим бэтээром без башни, на гусеничном ходу. И вперед к Эльбрусу!
Надир
дорогу знает отлично, каждый день возит альпинистов, туристов, его тягач прет
по ущелью полным ходом через Иткол, Терскол, выворачивает на серпантин
Эльбруса, и в семь утра достигает Нового кругозора. Там движок умолкает, и сразу
оглушает первозданная тишина на высоте в две с половиной тысячи метров над
уровнем моря. Гипоксия и тишина – других лекарств здесь нету.
Саша
снимает панораму: десятки зеленоватых досчатых домиков – жилье тех больных,
которые обитают тут с мая по сентябрь: астматики, энцефалитники, шизофреники.
Кинокамера заканчивает обзор на противоположном склоне Чегета – там осыпи и
скалы, уходящие вверх, в молоко тумана, откуда иногда выплывают орлы.
Надир
сгружает со своего «такси» бидоны с молоком, пачки круп, ящики с тушонкой,
морковь, капусту – раз в неделю он «забрасывает» сюда эту снедь. Паша с
каким-то мужиком заносит продукты в один
из домиков, а вышедшие на шум бледные, погасшие женщины, глядят отрешенно и
безучастно.
Тягач
вновь рычит и, покрутившись с полчаса по изгибам кремнистой дороги, вылазит на
очередную высотку, где путь обрывается. Паша спрыгивает на снег: - Все! Ледовая
база! Три с лишним! Дальше ножками! Разбирайте вещи, навьючивайтесь!
Пеший
спуск в небольшую ложбинку – и ой-ой-ой, что это? Худо, худо, телевизионщики
бледнеют и зеленеют, их выворачивает, и Паша, поняв в чем дело, кричит: -
Скорей наверх!
И
увлекает за собою, а бледнозеленых подталкивает!
На
другом краю лощины хворые розовеют, улыбаются, а Паша, отведя всех метров на
сто повыше, объявляет привал, извлекает из рюкзака арбуз, разрезает его, и так
радостно поглощать сочную сладкую мякоть! Саша снимает красные ломти на белом
снегу – радостно, будто ест их своей кинокамерой!
Далее
медленно и упорно вверх без приключений, зон положительных ионов, куда угодили
в ложбинке, более не встречается. А по снежно-ледовым склонам несутся лыжники в
красном, синем, оранжевом – здесь полно европейцев, в СССР такой яркой
экипировки не водится, - жаль, пленка в «Конвасе» черно-белая!
И
вдруг – пушечный выстрел! С грохотом лопнул лед метрах в ста справа от маршрута
восхождения, обозначенного красными флажками. Скорей к свежей трещине! Когда до
нее метров десять, Паша останавливает группу, а Саша с кинокамерой подползает и
снимает сине-голубой излом шириной метров пять и длиной метров сорок! Раздается
опасный треск, Саша быстро отползает назад, и Паша поспешно отводит группу
подальше от растущего на глазах ледяного ущелья. Не дай Бог провалиться в такую
бездонную трещину, хорошо, что лед в стороне лопнул, а если бы под ногами?!
Солнце сияет, льды и снега сверкают – идиллия! Выходит, призрачная?
А
окольцованные суслики в клетках за спиною свистят коротко, часто, и кажется,
беззаботно. Впрочем, когда лед грохнул пушкой, притихли.
Телевизионники,
редактор и режиссер, седовласые и с пузцом, пыхтят вместе со всеми, помимо
клеток за спинами, тянут еще и «бандуру» - магнитофон, записывают шумное
дыхание идущих, поскрипывание снега под отриконенными ботинками – все, что
услышит и «вытянет» микрофон.
Саше
труднее всех: нужно заснять группу «с головы» и «с хвоста», и он то отстает,
чтобы снять уходящих, то опережает идущих, чтобы запечатлеть шеренгу и с
верхней точки, как бы с вершины.
Суслики
посвистывают уже по иному – глуше и реже, видно, гипоксия и на них навалилась.
Что ж говорить о людях, несущих их?! Дыхание тяжелое, частое, ноги с трудом
преодолевают снег, шаг за шагом, шаг за шагом, на полную ступню, а не на носок,
как обычно идут на подъем новички и потому быстро сваливаются от
перенапряжения. Воздуха не хватает, жадно дышится ртом, как рыбе, вытащенной из
воды, – организм стремительно обезвоживается и рука все чаще отправляет в рот
снег, благо, его здесь полно – чистейшего!
Паша
жестко следит за регламентом: через каждые пять минут тяжелого продвижения
вверх – «перекур», отдых, иначе, кажется, вены лопнут от перегрузки. Потом
снова вперед – молча, шаг за шагом, шаг за шагом, все подчинено доминанте
изнурительного размеренного восхождения.
Через
полтора часа Паша окончательно останавливается: - Клетки на снег!
Спасительная
команда! Силы уже на исходе, не сразу удается вынуть руки из лямок, опустить
тяжеленные клетки с тяжеленными сусликами на ослепительную белизну.
Паша
обходит клетки. Открывает одну, левой рукой в перчатке ловко цапает за шкирку
окольцованного суслика, правой рукою прикладывает к его сумашедше бьющемуся
сердечку стетоскоп, вслушивается, одновременно поглядывая на циферблат часов с
желтой секундной стрелкой, через минуту опускает подопытного «альпиниста» на
снег, предварительно закрыв дверцу клетки: путь к отступлению отрезан, теперь
только в мир сверкающего безмолвия и мороза.
Суслик
и рад свободе, и оглушен непривычной средой обитания, но, чуть освоившись,
устремляется вниз, «чешет» по склону, лишь изредка на секунды застывая столбиком:
решает, куда же дальше?
Остальные
узники ведут себя увереннее, - будучи отпущенными, сразу бегут вниз по уже
проложенному собратом пути. Саша следит за ними через объектив «Конваса». Паша
тоже смотрит им вслед: - Так и добегут до орлов! – И становится жаль этих
степных обитателей, приспособленных человеком для своих целей: - Жертвы науки!
И
принимается за людей: слушает и записывает частоту пульса, фиксирует давление;
последним обследует себя самого, смеется: - И я жертва!
И
команда на спуск!
Жалко
терять высоту: так трудно она набиралась! Но манит вечерний отдых со сладким
чаем, а ведь еще и грибная жареха с картохою намечается!
Надир уж заждался, и метров за сто до подхода
группы врубил движок, чтоб скорее вниз.
Коварную
ложбинку, на всякий случай, пришлось обойти, взяв ближе к уже огромной утренней
трещине, и все: дальше пусть везет техника.
Надир
избрал явно другую дорогу: утром не проезжали через это адоподобие! Громадные
черные скалы, черные камни высотою в сто, двести метров, среди них черное озеро,
окаймленное белым снегом, – Саша только успевает панорамировать.
Душу
захлестывает тревога, ожидание катастрофы, мрачные предчувствия давят мозг. И
еще скалы и озера, камни и озера – и все устрашающе черное.
Наконец,
миновали это жутковатое место, и Саша опустил кинокамеру: - Бог или дьявол, -
кто это наворочал?!
А
Паша раздумчиво: - В Никитском ботаническом саду, на Зеленом мысу под Батуми –
картины рая, здесь – ада!
-
Надир, зачем ты нас этой дорогой повез? – на самом-то деле Саша доволен: снять
такое!
Надир
лукаво: - Какой дорогой? Одна дорога!
-
Как одна? Утром мы не видели этого!
-
Утром вы на сиськи смотрели!
-
Куда?!
Рыжий
Надир, на секунду обернувшись, невозмутимо указал рукою на «груди» Эльбруса.
На
рассвете Саша проснулся оттого, что за открытым окошком кто-то посвистывал.
«Неужели суслик?» Осторожно, стараясь не скрипнуть раскладушкой и половицами,
подошел к оконцу и сбоку, не высовываясь, глянул в узкорек между стеною и
занавеской: точно, вот он прямо перед ним, в двух метрах от домика! Стоит столбиком,
передние лапки сложил на грудке, как хозяйка на фартуке, смотрит зорко,
настороженно. «Не иначе, живет под домиком, отрыл там норку, беглец! Смылся
из-под Дашиного присмотра! Как же славно он застыл так вот, столбиком!» И все
также про себя: «Эй, приятель, давай пообщаемся!» Не тут-то было! Стоило чуть
высунуться из-за занавески, как суслик шасть под домик! А все равно на душе
хорошо! Все равно пообщались чуток, - Саша его видел и радовался, он Сашу
увидел и испугался! «Ну, конечно, чего хорошего ждать от людей?!»
Широко
расставив ноги, утвердив ступни по разным берегам, гости наклонялись над
прозрачным звонко журчащим ручьем, ополаскивались по пояс, умывались. Внезапно
в воде – против течения, вверх по ручью, - шмыгнула серая крыса. Отпрянули, а Паша
засмеялся: - Чего испугались? Это же водяная, чистая, она форелью питается!
Смех
смехом, а аппетит на ручей пропал.
Быть
в Итколе и не подняться по кресельно-канатной дороге на Азау-Чегет?! Скользить
с кинокамерой в кресле над бездной, возносясь все выше и выше, сперва к кафе
«Ай» - «Солнышку», где заканчивается первая очередь канатки, затем, пересев в
другое кресло, еще выше, туда, где заканчивается и вторая очередь, - там почти
три километра, и уже полно снежников, а «жандармы», черными гигантскими зубцами
скал охраняющие вершину, грозны и неприступны. Саша прилип к видоискателю:
«Эффектные кадры!»
Здесь
рваные облака, клочья тумана, а внизу ясно и солнечно.
Кто-то
в долине бросил газету, и восходящие ветры подхватили ее, развернули сверкающим
в солнечных лучах зеркальцем и понесли над треугольными вершинами Когутаев в
Сванетию. И долго еще средь синевы над хребтом истаивала эта белая звездочка.
Саша
не впервые в горах, знает, как могучи вихревые потоки. Здесь бывало: откуда-то
с неба падал вдруг холодильник. Или корова, - то, что от нее осталось после
воздушного путешествия на высоте в два-три километра и падения. Или
перелетевшая снежный хребет крыша какого-то крестьянского дома. Много видели
эти горы.
Видели
балкарца Чокку Залиханова, всю жизнь прожившего в Баксанском ущелье и каждое
лето поднимавшегося на вершину Эльбруса – впервые мальчишкой, а в последний раз
стариком в сто с лишним лет.
Видели
сванов, деда и внука, в шерстяных домашних носках и галошах пересекших Эльбрус
через его седловину: гнали на продажу в Балкарию свою коровку. Продали,
переночевали у гостеприимных балкарцев, и ранним светом обратно, пешочком, в
галошах через Эльбрус.
Видели
незадачливых покорителей Ошхамахо – так по-кабардински зовется Эльбрус: Грудь
женщины; и сегодня еще можно встретить вдалеке от альпинистских маршрутов
вмерзших в прозрачные льды егерей немецкой дивизии «Эдельвейс», в сорок втором
ненадолго поднявших над вершиной Европы фашистское знамя, вышвырнутых оттуда
через несколько месяцев нашими воинами-альпинистами.
Помнят
горы топографа Пастухова, похороненного у вершины Машука. Молодой Пастухов – в
ясную погоду без бинокля – первым увидел с вершины Эльборуса Черное и
Каспийское моря, приазовскую впадину и всю цепь кавказских исполинов, рядом с
которыми Альпы попросту «отдыхают», - куда им до Ушбы, Шхельды, Дых – и
Коштан-тау, Казбека и Арарата – все эти горы с вершины Европы точно по траверсу
на восток. От пятитысячника Эльбруса до пятитысячника Демавенда в иранском
нагорье Эльбурс – все это единое горное царство, страна заоблачной выси.
В
Альпах, которые есть не что иное, как часть сплошного горного пояса Евразии от
Пиринеев до Гималаев, бывали случаи, когда толща льда лопалась и альпинисты
оказывались в глубочайших ледяных трещинах, и после недели пребывания там и
поисков выхода, следуя за наклоном огненного язычка свечи, выбирались из
ледового плена к подножью горы, к началу-окончанию ледника.
На
Эльбрусе толщина льда достигает двух километров, льды заполняют рельеф ущелий,
занимая обширнейшие пространства вдоль и поперек склонов. И не в одну ученую
голову пришла мысль о том, что если сбросить ядерные бомбы на округлые вершины
Эльбруса или Казбека, энергия атомных взрывов растопит льды и гигантская волна
смоет города и веси Большого Кавказа.
«Но
ведь то же самое можно проделать с Мак-Кинли! – мыслили уже другие головастые
гуманоиды. – А если сбросить ядерные бомбочки на Гренландию, под водою скроются
и Англия, и Дания, и Голландия и много чего еще!»
«Пока
я мыслю, я существую!» - любил повторять Декарт.
Что
ж, неандартальцы тоже мыслили по поводу того, как лучше, смертоносней
изготовить дубину для охоты, защиты и нападения.
Но
в умах просвещенных гуманоидов бродили и иные мысли: кто раньше окажется на
Луне – США или СССР? Или единовременно?
Саша
знал: в СССР моделью Луны избрали Эльбрус! Там, на вершине Европы, будут
проходить тренировки космонавтов перед высадкой на Луну!
Но
прежде нужно провести обширнейшие обследования вершины: атмосферное давление в
теплый и холодный периоды, температура воздуха, скорость ветра, количество
ультрафиолета в воздухе, степень гипоксии и т.д. и т.п. и пр. и мн.др.
В
долине Баксана задействовали стационарное слежение за нейтрино – Саша давно уже
снял это здание и его содержимое; в приэльбрусском Шат-Жат-Масе организовали
слежение за солнцем, на Бермамыте увеличили объем метеонаблюдений – Саша везде
побывал. Теперь необходимы стационарные датчики на вершине Эльбруса, день и
ночь, летом и зимой сообщающие о том, что там происходит.
А
в Итколе на опытной площадке, называемой полигоном, глубокую эмалированную
ванну заполнили холодной водой, побросали туда десятка два белых крыс –
«Лапушки мои, лапушки!» - приговаривала при этом Даша; крысы старались выплыть,
вылезти, но скользкие борта не позволяли им этого. Когда, утомившись, какая-то
«лапушка» начинала тонуть, Даша ее выхватывала и приступала к замерам давления,
частоты пульса, дыхания.
Саша
все это снимал общими, крупными, средними планами, пошутил: - Крысиная
летопись!
-
Крысопись! – отозвалась ему белозубой улыбкой Даша.
Потом
повторили опыт уже с ледяной водой: данные были совсем иные.
Подобное
много лет проделывается на разных высотах, от двух тысяч пятисот метров – в
поселке астматиков и шизофреников, до четырех тысяч двухсот – у Приюта
одиннадцати. Новые данные пополнят «лестницу гипоксии» - необходимое пособие
для лечения сменой высот.
Когда
возились с ванной и крысами, мимо быстро прошел подросток – нелюдимый,
замкнутый, опасливо стригущий глазами, - нырнул в соснячок. – Энцефалитник! –
ответила Даша на Сашин недоуменный взгляд. И рассказала, что парня укусил клещ,
жизнь удалось спасти, а вот психику…
Родители
– научные работники – пожертвовали карьерой, хватаются за любое дело, чтоб
заработать, - все подчинено лечению мальчика без лекарств. В марте привозят его
в Кисловодск, апрель с ним проводят в Итколе, май – на Новом кругозоре, с
астматиками и шизиками, июнь, июль – у Приюта одиннадцати и в седловине
Эльбруса, август – опять у шизиков, сентябрь в Кисловодске, потом домой в
Питер.
-
И что в результате?
-
Сам ходит в лес – уже поразительно! Паша верит, что к восемнадцати годочкам
будет здоров!
Саша
отправился снимать этих родителей.
За
ужином – каша перловая и грибная жареха – Паша сообщил озабоченно: - Завтра
придет вертолет. Гружен под завязку: панели для домика на вершине Эльбруса.
Летим туда все, кроме Даши. Выгружаем панели, и вертолет с телевизионщиками
уходит в Минводы. Мы втроем и кинооператор останемся на вершине. С собою взять
теплые вещи.
-
И что, вчетвером там монтировать домик?!
-
Группа Кахиани уже в Приюте одиннадцати. Завтра будет на правом кратере.
Поможет нам.
В
десять утра на полигоне сел вертолет – пилот тот же, что летал на вершину. С
трудом влезли в огромный салон: там в навал дюралевые панели, ящики с
аппаратурой.
Даша
долго махала прощально, - груженый вертолет еле поднялся, пилот заложил вираж
над Баксаном, Итколом и, обогнув Терскол, повел машину протяженным маршрутом к
правому куполу. Внизу проплывала ледовая пустыня с рваными выходами скал.
Облетев купол, медленно ввинчиваясь все выше, взойдя над седловиной, вертолет с
трудом еще взял вверх и медленно-медленно сел на вершину у кромки кратера.
Саша
первым выскочил на Эльбрус, - жадно снимал выгрузку панелей, ящиков и, забыв о
запрете цензуры снимать с верхней точки масштабные планы, - панораму
Приэльбрусья, Приют одиннадцати и седловину, второй купол и всю цепь по
траверсу; вновь обратился к людям – крупные, средние, портретные планы; потом,
увидев группу, поднимающуюся от седловины на купол, снимал ее, поняв, что это ведет
своих людей Кахиани; в конце дня запечатлел улетающую «вертушку», а после этого
– как ставят палатки, одну и другую.
Не
спалось. Первая ночь на высоте пять тысяч шестьсот сорок два метра над уровнем
моря. Спальник не очень-то греет. Если б не запасные спальники как подстилка,
совсем задубел бы.
Саша
развязал изнутри тесемку у шеи, расслабил, стал выбираться из стеганного мешка.
Теснота: Паша совсем рядом, похрапывает.
Медленно,
аккуратно, стараясь не задеть ткань палатки и не толкнуть ненароком Пашу, вылез.
«Прямо роды, из чрева матери выбрался!» Обулся. «Так, теперь немного
расшнуровать внизу вход в палатку и…»
Его
объял Космос! Тишина!
«Как
трудно дышится! Сколько сейчас мороза? А звезды горят! Громадные! А вон Ушба!»
Извечная
мечта альпинистов – двуединый неравновеликий гигантский клык, рядом с которым
знаменитый альпинистский пик Маттергорн вроде подростка, - великая страшная
Ушба темной громадой высилась на востоке, даже на черном небе манящая и
ужасная. Подойти к Ушбе, как, впрочем, и к высящейся за ней «соседке» Шхельде,
можно лишь ночью, когда мороз сковывает все и прекращается камнепад. Немногие
смельчаки достигли вершины двурогой Ушбы! Сотни альпинистов пытались подняться
на этот четырехтысячник – Маттергорн всего три шестьсот, - десятки могил внизу,
у подножья. А Шхельда, знаменитая Шхельды-тау?! Каким не пойти к ней ущельем –
Адыр-су, Адыл-су, - с самого начала скорбные камни: здесь погибла группа… здесь
сорвалась группа… погребена лавиной…
Великий
покоритель гор Михаил Хергиани, не раз бывавший на Шхельде, повел туда женскую
группу – тридцать альпинисток. Подошли к горе ночью, достигли поверхностей с
обратным уклоном, когда нависающая карнизом скала защищает от падающих камней.
Передневали там, привязавшись к вбитым в скалу стальным штырям. Следующей
ночью, дождавшись мороза покрепче, продолжили восхождение. И попали под
непонятный неожиданный камнепад. Погибли все тридцать. И Хергиани с ними, –
Шхельда показала характер!
«Бычок»
Кахиани, тоже Михаил и тоже сван, в секунды понял, какой нешуточный объем
работы предстоит его «монтажникам-высотникам» на вершине Европы. Поняв, уселся
на краю скалы, свесив ноги в обрыв, достал из рюкзака бутылку водки, вышиб
засургученную бумажную пробочку и буль-буль-буль – выдул, не отрываясь ни на
миг, всю бутылку!
Вершина
Эльбруса, относительно простая в своей топальной досягаемости, таит много
опасного. Можно ненароком попасть в зону положительных ионов и оттуда не
выбраться. Может настичь вдруг «горнячка», и хорошо, если печень справится,
иначе кранты. А можно хватануть азотного опьянения и, возомнив себя птицей,
броситься вниз со скалы, словно крылья, раскинув руки. Даже с мастерами спорта,
чаще женщинами, такое случалось. Гибли в восторге от ощущения собственного
могущества, - роковая черта!
И
вот на этой коварной высоте выдуть поллитру?! Это был мировой рекорд: здоровья,
лихости, безрассудства! Но после «шикарного жеста» Кахиани скомандовал:
«Спуск!» Разве им, альпинистам-асам, пристало заниматься рутинной работой по
сборке панелей какого-то метеодомика, таскать эти панели с вершины в кратер и
там водворять в специально вырванную подрывниками пещеру в скале?! «Нет! Пусть
плебеи корячатся!»
Паша
бросился к нему – рассказывал, объяснял, что их здесь останется четверо, три
кандидата наук и кинооператор, помощи ждать неоткуда, - сван был неумолим: увел
свою группу.
И
остались таскать панели к пещерке в кратере, собирать домик в длинном гроте,
специально устроенном взрывниками, таскать ящики с аппаратурой, чтоб потом
монтировать ее в собранном домике, - шаг за шагом, шаг за шагом, в условиях
жесточайшей гипоксии и катастрофического обезвоживания организма, остались там,
где каждое движение – страшный труд, - четыре «вшивых» интеллигента, - а больше
некому!
Луна
заливала ровным светом весь кратер. Абсолютная тишина поднебесной пустыни
нарушилась вдруг шумным выбросом гейзера – внизу, на самом дне кратера. Саша
снимал это днем, и сразу представил себе, как там сейчас потянуло сероводородом
и как почва гудит под ногами.
«Во
льдах Эльбруса солнце всходит,
Во
льдах Эльбруса жизни нет.
Вокруг него на небосводе
Течет алмазный круг планет».
«Кто
это? Бунин? Брюсов? А Брюсов был на Эльбрусе?» Саша как-то не задумывался об
этом раньше. И не предполагал, что и самому придется здесь побывать.
Снимал
сельскую хронику для «Новостей», и вдруг вызывают в город, в редакцию.
Улыбчивый зам.директора: - Санек, срочно летишь на Эльбрус! Скоро выход на
Москву и страну, режиссер и редактор уже в Приэльбрусье! Надо успеть, иначе
музыка Склифосовского, слова Кащенко, - понял?
Саша
рванул на попутках и успел ко взлету гигантской «вертушки» – в самом начале
Баксанского ущелья, за Кызбурунами.
Внизу,
в Итколе, перед вторым полетом на вершину, Саша пролистал книгу о гипоксии.
Поразили страницы об индейцах с горы Марокочи в Андах.
Индейские
подростки вытаскивают из высокогорных шахт тяжеленные грузы: ползут по узким
штрекам на животах – с мешками угля, привязанными к ногам. А шахтеры-индейцы
после работы обыгрывают в футбол приехавших в горы хорошо тренированных
спортсменов. Проверка в барокамере показала: эти индейцы без всякой подготовки
могут подняться на двенадцать тысяч метров!
«Хм!
Надо бы завтра себя проверить! Встать пораньше и взойти на соседний купол!»
Эх,
Саша-Саша! Знал бы ты, на что себя обрекаешь, как тяжко дышится на высоте в
пять с половиной тысяч метров, как труден здесь каждый шаг, - вряд ли решился
бы на этакое путешествие. Увы, постижение приходит с опытом. И отправился наш
Санек с утра пораньше, когда все еще спали, с одного белоснежного купола на
другой, не менее белоснежный и чуть менее громадный по высоте. Спуск с купола в
седловину еще не дал в полной мере понимания того, что затеял: с кинокамерой и
запасными кассетами в рюкзаке спуститься с купола и – главное – подняться на
другой исполинский купол. В седловине шевельнулось, было: «А не вернуться ли?»
Но упрямо начал восхождение, так хотелось повидать и другой кратер: а там что?
Горы
всегда загадочны, их поднебесье таит в себе тайну непостижимую, но всем
восходящим мнится ее открытие.
Долго
пыхтел Санек, пока поднялся на другой купол, не раз останавливался из-за
страшной одышки, не одну пригоршню снега отправил в рот, еще не зная, не
прочувствовав, как стремительно обезвоживается организм на такой высоте, - куда
быстрее, чем за полярным кругом! Но поднялся и зауважал себя: одолел, одолел
высоту, вновь на вершине!
И
застыл, пораженный: еще ближе, чем с того купола, здесь сурово сверкала Ушба,
за нею высилась громадой ледяная корона Шхельды, и далее вся цепь на восток.
Саша восторженно вскинул «Конвас» и приник к окуляру. «О, чудо!»
Потом
долго отдыхал, приходил в себя, ждал, пока успокоятся легкие, перестанут жадно
требовать все новых и новых вздохов, все новых и новых порций того самого
воздуха, которого здесь так мало! Поел снежку вволю. И начал спуск в кратер.
Сразу
шибануло в нос газами гейзеров, временами взлетающих над вроде бы спящими
недрами. Впадины на вершинах эльбрусских куполов можно назвать кратерами с
натяжкой: гигантские жерла давно уж затянуты твердью – застывшей магмой, в
первую очередь. Поэтому находиться здесь безопасно, только б не угодить под
кипяток гейзера!
Саша
долго снимал: тут каждый кадр – редкость, уникум.
Выбравшись
из кратера, прощально снял Ушбу.
А
когда ближе к вечеру вернулся, еле дыша, на западный купол, увидел, что Паша
один. Тот молча указал ему на две маленькие черные фигурки, медленно приближавшиеся
к Приюту одиннадцати.
Саша
невесело усмехнулся и вопросительно глянул на четырехкратного кандидата наук.
-
У Коли горнячка! – трудно вымолвил Паша, и добавил испытующе: - Ты, конечно,
можешь спуститься, ты ведь не обязан таскать со мною панели!
Саша
молча поднял «Конвас» и стал снимать фигурки у Приюта одиннадцати: теперь там
один тащил на себе другого.
Потом
отволок «Конвас» в палатку. Вернулся к Паше и молча стал перед ним.
-
Ну что, Санек, не подведем науку?
-
Лишь бы она нас не подвела! – тяжелым языком ответил Санек.
И
остались они на вершине вдвоем, Паша да Саша. Два «вшивых» интеллигента. А
больше некому.
Назавтра
первым делом допили баночку яблочно-морковного сока, поели снежку. И подошли к
панелям. «Взяли!» - выдохнул Саша.
От
тяжести сразу набрякли глаза, сердце забило колоколом, легкие задохнулись,
сдавило виски и будто кто-то схватил за шею клещами, а ноги и руки налились
ртутью или еще каким-то жидким металлом, вроде расплавленной стали. «Пых-дых –
пыхтят мой молоты!» В ушах шум-звон, шаг: пых-дых! Еще шаг: пых-дых! Пых-дых…
Пых-дых… Пых-дых… Пых-дых…
-
Стоп! Давай подышим! – Пашино широкое лицо разбухло, дыхание рвется со свистом.
Плотный и рослый, даже на вид сильный, он измочален.
«Интересно,
а я каков?» Подышали.
-
Ну, давай дальше!
И
поволокли неподъемное. Пых-дых… Пых-дых… Пых-дых… Пых-дых…
Спуск
в кратер. Паша впереди. Ему нужно удержать вес панели, ее устремление вперед.
Но Саше труднее: изо всех сил поднимать панель, чтоб она углом не уперлась в
склон, не прервала движение.
-
Стой, Паша!
Остановились,
опустили панель на ребро. Постояли, удерживая ее. Подышали. Поели снежку. Вроде
бы, отдохнули.
-
Давай, Паша!
Еле
подняли треклятую тяжесть. Едва не падая без сил, понесли. «Главное, дотащить
до грота! Потом будем монтировать!» Шаг...Шаг...Шаг…Шаг…
-
Стой, Саша! Я полежу!
Саша
едва удержал панель: Паша рухнул на снег!
Когда
дотащились до грота и прислонили панель к скале, рухнули оба. Долго лежали на
спине, упершись глазами в небесную голубень. Вяло жевали снег. И каждый думал:
«Сколько ж еще переть!»
Кое-как
поднялись на край кратера, легли на живот, и опять ели снег.
А
в Пятигорске редактор и режиссер, сбежав от эфирной текучки в уютный студийный
дворик, набрасывали «рыбу»: основу и острова текста, которые пригодятся к любым
кадрам, снятым оператором на Эльбрусе.
Потом
режиссер отслушивал уйму пленки, принесенной музоформителем в звукоцех. «Музыки
нужно поменьше, а может, и вовсе не будет, надо больше шумов, это даст
атмосферу подлинности!»
Что-то
удалось записать «Репортером», когда летали и шли на Эльбрус, - отлично вышел
посвист сусликов; что-то внизу, в Итколе. Но много, много нужно добрать в
фонотеке: рев горной реки, резкие крики орлов, переливы ручьев и шум горных
речек, - все, из чего складывается звукопись горной жизни.
А
замдиректора потихонечку психовал: скоро выход на Москву и страну, прямой эфир,
целых сорок пять минут эфирного времени, а от Саши ни слуху, ни духу. Не то,
чтобы зам сомневался в нем, но ведь мало ли что может случиться там, на
вершине.
Правда,
дни были ясные, Эльбрус виден с утра до ночи – это уже здорово: значит, нет в
горах бури, значит, эта гигантская кухня погоды – Ошхамахо – отдыхает от
попыток заварить какую-нибудь буранную кашу и сорвать телевизионные планы.
Но
все равно: рисковано, ох, рисковано! Успеют ли?
-
Первым русским альпинистом, Санек, был твой тезка – Суворов! И те, кто шел с
ним через Альпы!
-
Вроде, как мы с тобой! – улыбнулся потрескавшимися губами Санек. – Знаешь,
ночью вылез – звезды с кулак! Луна – как
сковородка огромная!
-
Здесь иная плазма, Санек! Другое измерение жизни! Жизнь есть горение! Жить –
значит, сгорать! Чем меньше кислорода, тем хуже горение! – Паша жадно хватанул
снег.
Саша
тоже ел снег: - Так мы здесь тлеем?
-
Тлеем, Санек!
-
Тлеем на вершине Европы?
-
Эх, Санек! Каких бы вершин мы не достигли при жизни, могильные холмики будут у
всех одинаковы!
-
Оптимист!
Все
панели, прислоненные ими к скале, повалились вдруг и все застыло, словно
тронутое пронзительной вспышкой: и косящий на него карий глаз Паши, и Пашины
белые зубы в крике, и дальний угол панели, ударивший Пашу в голову, и выражение
беззащитности на его перекошенном от боли и страха лице, и грозившее золотым
кулачком ставшее вдруг маленьким солнце…
Доли
секунды длился этот стоп-кадр, и в следующее мгновение Саша успел, успел, успел
подскочить и упереть руки в падающую на Пашу смертоносную тяжесть, остановил ее
мощью своих мышц и плечей!.. Было оглушительно тихо.
Потом
Саша, лежа рядом с ушибленным Пашей на краю кратера, мозговал: «Таскаем – это
хорошо! Но ведь надо снять! Как?»
Придумал:
сперва он снимет Пашу – тот поднимает свой край панели, потом Паша снимет его
за тем же занятием. А потом надо положить «Конвас» на снег, так, чтоб они с
Пашей несли бы панель на общем плане, включить «гашетку» стационарно, и пусть
камера «пашет». А чтоб пленку не «жечь» понапрасну, оставить панель секунд
через двадцать и скорей выключать аппарат.
Потом
отнести аппарат вниз, на дно кратера, там включить его, а самому скорее
тащиться наверх, к панели, и потянут они родимую (ненавистную!) вниз – вот и
получится, в совокупности, то, что надо: и сверху, и сбоку, и снизу снято
будет, как они тут корячатся! И средние планы будут – вначале-то друг друга
заснимут!
Сумашедше
пылал закат: все небо на западе объято багровым пожаром. «Марлю!» - через силу
вымолвил Паша, и они, достав из карманов курток марлевые повязки, водрузили их
на глаза.
Странно,
удивительно, но до сих пор – вот уже трое суток – они обходились без этого, Бог
миловал их от «куриной слепоты», - как много альпинистов слепнет в горах от
нестерпимого сверкания снегов! И лишь внизу, в долинах, зрение возвращается.
Они
стояли перед пылающим закатом и вяло жевали снег.
«Эфир
– усмехнулся Саша, - какой-то эфир… какая это все чушь… мелкость… эфир…
вечность – единственная подлинность… вечность!..»
А
ночью, в палатке, думалось: «Человек – капля! Человечество – океан! Капля
сгорает, океан остается! Но в книжке написано, что сейчас уже тридцать шестая
цивилизация! Значит, цивилизация умирает, как человек! Смерть есть средство
обновления! А Шамбала? Она тоже гибла? А здесь похоже на Шамбалу?..»
В
голове стало щелкать: щелк – и они с Пашей застыли от напряжения, пытаясь
поднять округлую спину панели; щелк – и Саша из последних сил волочит по снегу
ящик с аппаратурой; щелк – и они с Пашей никак не могут поднять последнюю,
самую тяжелую панель, но проклятые панели почему-то никак не кончаются; щелк –
и вся пленка в «Конвасе» оказывается засвеченной, и ничего не снято, и все
насмарку… Потом что-то сильно и ярко щелкнуло, вроде как лопнуло, и Сашу
отпустили видения… Он ровно сопел, чуть похрапывал, часто раздувая обросшие
щетиною щеки.
Снился
ему Кахиани: улыбчивый, как замдиректора, он жадно ел снег, подмигивал и звал с
собою на Ушбу.
А
маленький Саша смотрел на него, как на сельского дурачка и крутил пальцем у
виска: «Что я, с ума сошел?!» Кахиани пропал, а Саша отогнал хворостиной петуха
с ярким гребнем и долго-долго смотрел из своей казачьей станицы, из лазоревой
степи на розовоснежный Эльбрус, глядел, прикрывшись от слепящего солнца крепкой
загорелой ладошкой, словно козырьком армейской фуражки… А потом стоял на
вершине Эльбруса и молился своею молитвою: «Космос! Подними меня вверх и дай
мне защиту! Космос! Сними с меня темную программу и дай мне программу светлую!
Космос! Я пришел к тебе с миром, Космос! Я пришел к тебе с миром! …Я пришел к
тебе…»
К
концу четвертого дня, свернув палатки и спальники, навьючив их на себя и
оставив на снегу четыре порожних баночки из-под морковно-яблочного сока – все,
что смогли «съесть» здесь за это время, они медленно-медленно спустились к
Приюту одиннадцати. Едва войдя, рухнули на ступени.
Им
сразу принесли ведро сладкого чая, - на двоих. Жадно выпив его, мигом уснули,
здесь же – на лестнице. Через сутки проснулись и, поняв, что можно спать до
утра, выпили еще ведро и вновь провалились в сон. Утром их растолкали – они
просили об этом вечером накануне. Сонных, их опять напоили чаем и заставили
съесть по куску хлеба с маслом. После этого они начали спуск и, сбросив
полкилометра высоты, доплелись до Ледовой базы. Там дождались вездехода, и к
вечеру были в Итколе. Саша сразу упал – отрубился, а Пашу хватило связаться по
рации с Пятигорской турбазой.
Ровно
в девять утра заместителю директора ТV позвонил дежурный
турбазы, и через пятнадцать минут студийная «Волга» ушла в Иткол. В час дня
Саша с отснятой пленкой уже двигался из Иткола в столицу Осетии, на киностудию
– там есть проявка «широкой» пленки и, самое главное, печать позитива. Сразу по
приезде сдал материал в лабораторию, а сам завалился спать в операторской
комнате.
Зам.директора
нажал на все клавиши и лаборатория отбабахала вслед за дневной и ночную смену,
проявив негатив и, главное, отпечатав рабочий позитив, и утром следующего дня
студийная «Волга» уже катилась вниз к Пятигорску.
В
двенадцать часов режиссер, поразившись Сашиной худобе, обнял его и, получив
рабочий позитив, нырнул вместе с цензором в кинозал: смотреть!
Старик-режиссер,
сам когда-то снимавший «Конвасом» военную хронику, повидавший немало вершин,
наслаждался привезенными кадрами, хотя в горах куда ни поверни камеру, всюду
отличный пейзаж. Но в Сашиной съемке была «изюминка», свой взгляд на мир – с
частыми «размывами», переходящими в ясность, и в ясности, переходящей в
«размыв».
Увидев
нарушения – масштабные планы сверху – цензор пламенно протестовал: «Убрать!
Обязательно!» А на сокрушенную реакцию режиссера среагировал: «У вас столько
другого останется!»
Кляня
цензора на чем свет стоит, режиссер нырнул в монтажную.
Полдня
и ночь сидел в монтажной, не разгибаясь, к утру склеил чистовой вариант, сбегал
домой – поспал, поел, и ровно в полдень вместе с редактором они – два старика,
седые, как вершины Кавказа, - начали текст: «У гор нет мании величия…»
В
семнадцать ноль-ноль сдали текст в машбюро, умолив машинистку задержаться и
добить текст до конца. В девятнадцать двадцать сняли с каретки последний лист.
Главный редактор едва успел пробежать глазами отпечатанное. В девятнадцать
сорок пять вышли в прямой эфир – на Москву, на страну. Дикторы трухнули читать
текст с листа, и старику-редактору пришлось, отчаянно волнуясь, читать самому:
«У гор нет мании величия: они и в самом деле огромны и величавы».
Сразу
после эфира телетайп из Москвы: «Спасибо за «Операцию «Эльбрус». Золотой
материал. Редкостная удача».
Саша
ничего этого не знал: он спал. Что ему снилось, Бог весть! Может, Ушба, а
может, Шхельда
Но
уж точно не снилось то, что случилось через несколько месяцев.
В
ноябре пропал сигнал с вершины Эльбруса, из той самой лаборатории, которую Паша
и Саша с такими муками внесли и смонтировали в домике, плотно вошедшим в
сделанную подрывниками пещеру. Снова и снова пытались поймать сигнал, а его
будто и не было! Грешили на качество аппаратуры: не выдержала большого мороза!
Но
что делать? Не устраивать же зимнего восхождения из-за этого, - никакие мастера
спорта не согласятся. И вертолетчик не согласится опять лететь на вершину:
датчики успели сообщить, что зимою там ветер более трехсот километров в час.
При минус семидесяти.
Дождались
весны. И когда в полях стаял снег, километрах в пятидесяти от Эльбруса
колхозники нашли какие-то странные детали, вроде как от самолета какого-то.
Паша в Киеве, в украинской академии наук, узнав об этом, сразу заподзорил
неладное и срочно вылетел в Минводы, и на другой день достиг Иткола, что само
по себе было удивительно, ибо проскочить весной баксанскую дорогу без лавин, с
ходу – чуду подобно.
В
Итколе навел справки: в предгорьях и на полях найдено несколько дюралюминиевых
округлых панелей – значит, домик из пещеры просто-напросто выдуло. Со всею
аппаратурой.
Восхождение
подтвердило это: пещера была пуста.
Повторных
попыток установить в глубоком гроте домик с аппаратурой не делали, хотя
академик Сиротинин и утверждал, что если новый домик в пещере заложить
огромными скальными глыбами, его не выдует в новую зиму.
Но
кто будет таскать гигантские осколки скал на такой высоте? Вертолетчики
отказались напрочь, а человек слишком слаб для этого, даже если он заслуженный
мастер спорта или четырежды кандидат наук.
Постепенно
свезли в Иткол улетевшее – те самые панели, которые проектировал
авиаконструктор Антонов и которые изготовили на киевском авиапредприятии, те
самые панели, которые самолетом были доставлены из Киева в Минводы, а оттуда
вертолетом заброшены на вершину Эльбруса, те самые панели, которые, изнемогая
от гипоксии и перенапряжения, ворочали, таскали, монтировали четырежды кандидат
наук Паша и кинооператор Саша.
А
тут и лунную программу закрыли. Во-первых, американцы уже высадились на этом
гигантском спутнике Земли. А во-вторых, когда с опозданием подсчитали, сколько
потребуется средств, чтобы советский человек ступил на Луну, выяснилось:
придется на пять лет заморозить все жилищное строительство в СССР. Тягаться с
Соединенными Штатами не получилось.
Потом
вслед за «домиком Антонова», унесенного воздушным потоком, ветром времени
«выдуло» и весь Советский Союз.
Но
Саша, несмотря на все это, до самой последней своей минуты остро помнил тот
высший миг своей жизни – те четыре дня на вершине Европы и тот вечер третьего
дня, когда они с Пашей, измочаленные, стояли на краю кратера, ели снег и сквозь
марлевые повязки глядели на пылающий в полнеба закат, - они, в муках перенесшие
на себе все панели в кратер, к пещере, - они, смонтировавшие там из этих
панелей домик, - они, собравшие и запустившие аппаратуру со множеством
датчиков, - они сделали, сделали, сделали это! Они – два «вшивых» интеллигента!
Ведь больше, как оказалось, некому.
СОСТА
Рассказ
Утро
застало его в террасной пещере под самым верхом куэсты, гигантским утесом,
вознесшимся над водопадом.
Вечером
загнал его сюда дождь. Ночь получилась бессонной, всю ее он провел на ногах,
подрагивая в холодном ознобе. С рассветом принялся энергично расхаживать по
террасе, размахивая руками, и, отогревшись, остановился в ожидании солнышка
из-за хребта, - оно вот-вот бросит свои лучи на предгорье Эльбруса. Невольно
залюбовался далеким темно-зеленым разнотравьем на обширном плато, потом заметил
внизу, ближе к середине крутого склона куэсты, небольшого орла. Голод рано
выгнал хищника на охоту, ни змеи, ни ящерицы еще не выползли греться. Но орел
все носился, то взмахивая крыльями, то недвижно чертя ими плавный полет, и
человек, поглощенный своими мыслями, более не обращал на него внимания,
отрешенно наблюдая борьбу тумана с нарастающим рассветом.
Внезапно
человек замахал руками и крикнул: орел, незаметно взмыв, принял его, недвижно
стоящего, за каменный столб и хотел сесть на него отдохнуть. Испуганный жестами
и криком, орел из последних сил добрал высоты и сел на плоскую вершину куэсты,
тяжело заходив прямо над человеком в террасе. Было слышно, как валко шагает
птица, и человек подумал, что хищник может там, наверху, скорее добыть себе
пищу, как вдруг увидел, что орел сорвался с куэсты и стал обходить ее красивым
облетом, и обогнув утес, устремился по течению воздуха над ущельем.
Проводив
орла долгим взглядом, человек, закинув за плечи рюкзак, не спеша спустился к
Медовому водопаду. Медовый не потому, что вода в нем сладкая, вкусная, а
оттого, что кругом возле водопадных расщелин, от самого верха грохочущих струй
до низу когда-то росли медоносы-липы.
Человек
зачерпнул в пригоршню журчащую ледяную влагу и, напившись, пошел ущельем вслед
за орлом.
Ему
край надо было попасть к Замку коварства и любви как можно раньше, чтоб
попуткой уехать в Кисловодск, а далее автобусом в Прикумск, а потом в станицу:
в ночь оттуда пойдет грузовик с лодкой, настоящим рыбацким баркасом, аж на
СостУ – замечательную цепь озер в калмыцкой степи; ширина озер не ахти, и
километра не будет, а вот длиною едва ли не тридцать выйдет, одно из другого
тянется. Охота там редкая, птицы – бей, не хочу, но сейчас не сезон, да он и не
охотник, а вот рыбалкою насладиться, ушицы и спасительной воли похлебать
вдоволь – то самое, ради чего стоит трястись десятки километров на попутках, в
автобусах, на чем угодно, только не на телеге, ибо бесконечные просторы степные
не преодолеть на ней и в неделю, смешно даже.
Намотавшись
за день, Бых успел-таки к самому выезду из станицы, и сразу решил, что поедет
не в душном автобусе с балаболами-рыбаками, а на грузовике с лодкой, в кузове,
на свежем воздухе, наслаждаясь зримою в автофарах степью и ночным степным
воздухом.
Расставив
ноги пошире, упершись руками в кабину, он жадно впитывал ночное царство с
бесчисленными накатанными дорогами, с прыгающими перед машиной тушканчиками,
массивными совами, сидящими посреди степного пути и лупающими
глазами-громадинами, с заночевавшими на дорожной пыли орлами и ястребами.
Один
такой испуганный светом фар ястреб, сорвавшись, рванул вверх и так врезался в
левое плечо Быха, что тот едва не взвыл от боли, а обернувшись, успел увидеть
исчезающую во тьме ошалелую, растрепанную сильным ударом птицу.
Ночь
дышала настоенной на травах свежестью, и все у Быха вызывало восторг.
Завидев
мазанку, водитель остановился возле нее и пытался выспросить у одинокого
старика-калмыка, тоже не спавшего и наслаждавшегося ночной прохладой, долго ли
еще до Состы и верно ли они едут.
-
Туда, - сидящий на земле старик бесстрастно махнул рукой в никуда, - километров
пятьдесят…двести…
Шофер,
едва сдерживая матерок, поблагодарил, и грузовик снова отправился в неведомо
близкий или неведомо дальний путь. И снова совы, ястребы, орлы и тушканчики.
Где-то
позади в пыли от грузовика плелся автобус.
Около
двух ночи тьму прорезал огонечек костра, стали различимы становье и за ним
огромное пространство воды. Оказалось: прибыли.
-
Что ж вы, так вашу пожалуйста, долго ползли, раньше, что ль, выехать не могли?
– разорялся в отсветах костра рослый мужик, видимо, бригадир. – Вот не сплю,
вас жду, бар станичных!.. В казане уха, хлебайте да ложитесь, скоро на утреннюю
вставать, лежебоки халдейские!
Бых
соскочил с кузова, и вместе с парнем-шофером они солдатскими котелками,
стоявшими у костра, черпанули из казана. Бых выдул котелок безотрывно: после
долгого ночного пути холодная юшка была то, что надо!
Потом
отошел к озеру, опустился на землю и, потянувшись всласть, пропал в ровном,
глубоком сне.
И,
казалось, только уснул, раздался властный голос:
-
Хватит навоз сушить, раз-перераз, бери сеть!
Тут
же в уши проник сильный далекий гомон гусей, и, разлепив глаза, Бых увидел в
светлеющей сероватости кишащую тучу, едва ль не в полнеба: тысячи темных
силуэтов бестолково метались в воздухе – гуси, утки на том берегу поднялись на
крыло. Минут через десять оголтелой толчеи и сварливого крика разлетелись
куда-то, - значит, в этом, вроде бы, беспорядке был какой-то естественный
четкий порядок, - вся птичья рать исчезла, будто и не было.
Мимо
понесли сеть – развернутую, через каждые метра четыре шел рыбак, цепко ухватив
ячеистое плетение, и так сошли в воду и, зайдя по грудь, ровной линией потащили
параллельно берегу. Бых решил, было, помочь им, но очнулся, когда солнце уже
припекало вовсю, и не увидев никого у котла, понял, что проспал завтрак. На
всякий случай подошел к огромному казану, заглянул: на дне было немного ушицы с
кусками рыбы. «Пожалели беднягу!» И с аппетитом подмел все подчистую.
Подкатил
казан к озеру, и долго драил металлическое нутро прибрежной землицей, потом
ополоснул начисто.
Вернув
котел на место, отыскал бригадира в халабуде у тополей:
-
А где же автобус, лодка?
-
Проспал, тютя, они уж на другом озере!
-
Там же сумка моя!
-
Да вот она! – бригадир презрительно кивнул а угол, и Бых увидел свой сидор.
Весь
день Бых сосредоточенно строил себе жилище. От прошлогоднего шалаша остался
остов, он укрепил его заново, связав перекрестья жердей, потом в ближнем
кустарнике наломал веток, густо и многослойно навесил их на поперечины –
соорудил стены. Оставалась подстилка. Ни сена, ни соломы здесь не найти,
пришлось исползать все вокруг, пока не набралось достаточно сухотравья, укрыл
им мелко наломанные ветви с желтоватой листвой, накрыл все это вынутой из
рюкзака холстиной, - она уж год назад здесь же послужила ему, - постель готова.
Впервые
он заехал сюда прошлым летом, все хотелось узнать как живет местная казатва;
познакомился с директором хозяйства, - Сушко оказался чудесным дядькой –
простым , хлебосольным и любителем интересных бесед. Определился в дешевенькую
сельскую гостиницу, питался в столовой, жил-поживал, по станице похаживал, с
казатвою гутарил-знакомился, и все выуживал своим острым глазом: что да как?
Не
раз тогда сиживал он с Сушко и его приятелями в дегустационном зале на втором
этаже дирекции. Название пышное – дегустационный зал, - а на самом деле просто
большая комната с клетчатыми столиками посередине. По воскресеньям резались в
шахматы, попивая чудесное розовое вино совхозного производства, заедая местною
роскошью: огромным вяленым сазаном. Вино в лабораторных колбах благоухало,
сазан янтарно светился на солнце, истекая жирком и дразня ноздри своей
пахучестью, дни были спокойные, радостные, налитые солнечной виноградной силой.
Побывал
он в этих краях и зимой, когда Сушко пригласил его на сайгачью охоту.
Тогда
в дегустационном зале было неуютно, холодновато, думать-раздумывать не хотелось
и шахматы простаивали; говорили о пустяках, пили какое-то красное вино, вроде,
саперави, заедали вареной курицей. Бых, удрученный своими домашними делами,
нехотя сжевал куриную ножку, а пить ну никак не хотелось, еле уговорил его
Максович, винодел, хоть один стакан выцедить.
Долго
помнил Бых тот стакан. Вывернуло его ночью в гостинице, отравился он до высокой
температуры, до бреда: Максович винцо с табачком принес, - бочка с вином стояла
на табачных листьях, вино и вобрало в себя никотин, - «для крепости, тольки для
крепости», - и отрава готова.
Максович
был из немцев, еще в царское время поселившихся в долине между Бештау и
Машуком, сами немцы звали свою колонию Темпельгофом, а местные жители
Иноземцевым.
Поселенцы
оказались отличными виноделами, едва ли не всю долину заняли их виноградники:
рислинг, саперави, кабернэ, мускат, мускатель – чего тут только не было! В
огромных глиняных врытых в землю кувшинах хранились тысячи литров чудеснейших
вин, отсылаемых к столу генерал-губернатора и даже вседержителя земли русской.
В
советское время хозяйствовали они колхозом до самой войны, ну а уж с войною
турнули их куда-то в Казахстан и в Сибирь.
А
Максович, хитрован, перед самой войною смылся от курортов подальше, сперва в
глубинку степную, а потом в Дагестан, пересидел в нашем тылу нашествие своих
соплеменников, а после войны приткнулся к Сушко в совхоз, стал виноделом.
Поначалу он не позволял себе никаких «шахер-махеров», но местные потихоньку
обучили его казацким хитростям: зачем бесконечным гостям, навещавших станицу с
пустыми бочонками, наливать самолучшее вино из чистого виноградного сока? Ладно
уж своим, из райцентра, а краевым зачем? «И с табачком сойдет, пьяней будут!» И
сходило, и стало привычным.
Но
Быховский организм не перенес издевательства.
Из-за
его нездоровья в степь выехали днем позже.
Он
был наслышан о сайгаках, знал, что бывают годы, когда их поголовье прет со
страшной силой, и тогда местные газеты тревогу бьют: десятки тысяч диких
рогатых устремляются к выпасам домашнего скота, и только массовый отстрел этой
прорвы горбоносых антилоп спасает пастбища коров, коз и баранов.
Но
Сушко пригласил Быха просто поохотиться, и зная, что тот не стрелок и сам убить
не сможет, гуманист московский, заманил его, что называется, за компанию.
Был
с ними служебный газик, с него-то и велась охота, и хотя сайгачий бег до
шестидесяти километров в час, тяжко зверью состязаться с двигателем, у которого
вместо крови бензин.
Сушко
издали примечал, куда орлы погнали большое стадо или несколько десятков голов,
и мчался туда.
Нагнали
раз пернатую тварь в припорошенном распадке между холмов, - мощный орел, держа
огромной когтистою лапою козленка за круп, а другой за шею, сгибал его в
кольцо, ломал хребет, и жутко было слышать страшный крик козлика.
Сушко,
решив, что запросто прогонит орла и отнимет у него уже сломленного сайгачонка,
выскочил из машины с ружьем и сразу к хищнику, но орел, бросив добычу, яростно
кинулся на Сушко. Тот бухнул, не целясь, но попал, - орел вскричал хрипло и,
дергая лапами, завалился на спину. Промедли Сушко секунду – подрал бы его орел,
мог и без глаз оставить.
А
Сушко тут же разрядил второй ствол в козленка, чтоб не мучился, взрезал его
кинжалом, и стал сливать кровь, свежевать.
Потом
поехали к трубе.
Когда
летишь над ставропольскою степью, факелов горит уйма. Горит газ, дабы не
скопился где-то в глубине земли и не рванул бы. Эти трубы зовут оазисами: зимой
кругом снег, а тут трава зеленая, - так тепло от огромного факела.
К
такому-то факелу-трубе и подъехали.
Сушко
сразу занялся мариновкой мяса, а Бых и старик-шофер отправились за топливом для
костра. Повезло: метрах в ста от трубы наткнулись на груду толстого сушняка, -
видимо, кто-то припас это для своих нужд.
Раздевшись
до маек, развели костерок, шашлык жарили и наслаждались летом среди зимы.
Вернулись
в станицу на следующий день. В газике остро пахло кровью, зверьем: три
горбоносых козла лежали в задке машины.
Долго
потом в сельской столовой была дешевейшая мясная еда.
И
вот он снова в своем шалаше.
С
детства любимый запах иссохших трав сладко дурманил, и он сразу уснул –
чудесно, как никогда не спал дома! И ничего не снилось ему. Ранним утром,
вроде, привиделось что-то, но оказалось, что это не сон, а на самом деле
бригадир дергал его за ногу и кричал:
-
Вставай, раз-перераз, хрен балованый, приехал на Состу, так рыбаль!
Обидевшись
на судьбу, Бых вылез в сумрак и поплелся к сети. Мужики уже налаживали ее,
разворачивали, и пошли в воду, отдав ему самый край.
-
С таким бугаем, глядишь, тонну возьмем!
Бых
молча, поеживаясь, вошел в воду последним. Ноги глубоко увязали в иле, холодом
окатило живот, грудь, он аж задохнулся и задышал часто-часто, чем насмешил
мужиков, но скоро обвык и вода показалась вроде как тепловатой.
Он
не понял поначалу, что с краев тащить тяжелее всего; зашли в воду по плечи, ему
и рослому дядьке с другого края тащить надо первыми, и потянули они, а люди в
озере растянули сеть по дуге и поддержали их уж потом, когда длиннючий, метров
на пятьдесят, бредень зацепил массу рыбы.
Бригадир
вначале командовал с берега, потом, не утерпев, тоже полез в воду и, ухватив
сеть рядом с Быхом, стал тянуть непомерно тяжелый «кошель».
Когда,
войдя в азарт, выволокли на берег огромный сетевой мешок, возрадовались
рыбацкие души:
-
Ну, блин, точно, бугай помог, николи не брали стока!
И
давай черпать рыбу корзинами, сплетенными из ивовых прутьев, и нагрузив
полностью, попарно несли к весам, где уж хозяйничал бригадир, маневрируя гирями
на балансире:
-
О – та – та – та - та, вот взяли, так взяли!
Радостное
возбуждение охватило всех, и Бых в охотку впрягся в артельное дело, и таскал,
таскал корзины, и когда, достав из бесчисленных ячей застрявшую там мелкоту,
сважили все, оказалось, и вправду, тонна.
-
Ну, Федосеич, гони бугаю поллитру, не иначе, он фарт привез! – крикнул
белобрысый мужичонка с глазами – серыми бляшками, рыбаки его звали Шустриком.
Пять
лет назад занесло его сюда с далекого севера и, ошалев от щедрой южной природы,
он остался здесь навсегда, взяв в жены вдову-казачку – с детьми и с
домовладением.
Бригадир,
усмехнувшись шустриковым словам о бутылке, протянул Быху руку и сказал: -
Федосеич!
Словно
почетную грамоту дал!
Ладонь
была каменной силы и твердости.
-
Саввич! – в тон ему ответил Бых, и крепко пожал его руку.
Федосеич
опять усмехнулся.
Бых
не знал его ранее, да и вся артель была новая. Видно, Сушко, чтоб не обидеть
никого из селян, постоянно менял людей на озере, а то скажут: «Одни на
виноградниках спину гнут, а другие на Состе рыбу жрут!»
Через
час подошла машина калмыцкая, и корзины с рыбой опрастывали через высокий борт
прямо на доски кузова. Себе на уху оставили две корзины.
Рыба
все коробок, изредка сазан, линь, красноперка, щука. Коробок еще икрянкой
зовут, - рыба необычная, самцов нет, только самочки: сазан смечет молоки возле
икры сазаньей, коробок тут как тут, пользуется этими молоками, и потому с икрой
всегда, наготове, чтоб спереть чужое в любой момент.
Небольшая,
длиной в ладонь, но живучая! Голову ей не отсекают, с ней уха наваристей, а
чешую ножом сбросят, кишки выпустят, вспоров брюхо так, чтоб икру уберечь, в
котел кинут, и она еще долго ходит в кипятке – без чешуи, без нутра.
-
Ну, садизм! – впервые увидав это прошлым летом, ахнул Бых.
Однако
вкус ухи затмил рыбачью жестокость.
Видя,
с какой жадностью Бых ест вареную рыбку, запивая сладковатой юшкой, Федосеич
улыбался.
-
Налегай, налегай, тут этого добра не избыть, надоест еще!
В
субботу на трех автобусах заявились станичники: Сушко отправил людей на Состу,
чтоб покупались, поплавали, дармового вина попили, ухи похлебали, - чтоб отдохнули!
И
началось!
-
Ну, здравствуй, рюмочка, прощай, винцо! – поднял свой полный до краев граненый
стакан Федосеич! – Чтобы елось, и пилОсь, и хотелось, и моглось!
Все
одобрительно потянулись к нему, - подходили, чокались:
-
Дай-то бог! Дай-то бог!
Пили
до дна и тут же обратным ходом к Максовичу:
-
Налей ишшо!
Длинный,
как жердь, Максович улыбался, сверкая золотым зубом и суживая глаза до щелочек,
охотно лил и лил из белой пластмассовой канистры в подносимые пустые стаканы.
Помня
свой зимний опыт, Бых не стал пить, и мужики обиделись:
-
Человек долго жить думаить, вина не пьеть, механизм бережеть!
Смеялись
и кричали, пока он уходил к шалашу.
Подъехал
какой-то майор на зеленом уазике, ему поднесли вина и потянулись к нему, как к
хорошо знакомому, с полными стаканами, кружками, и вскоре раздалось громкое:
-
Мы – русские кавказцы!
Поддавшие
казаки и майор, стуча о стол пустыми кружками и стаканами, запели:
-
Наши деды – славные победы!
Вот
где наши деды!
Народ
пьянел быстро, после трех стаканов все уж пошатывались, искали местечко, где б
прикорнуть, и валились, где хмель скосил, - храпели у самой воды, у халабуды
под тополями, в кустарнике.
Бых
в шалаше, облокотившись о свое ложе, черкал в тетрадочке, вынутой из рюкзака.
Через
пару часов, устав кропать в тетрадочку, почувствовал, что ноги просят нагрузки,
пошел было, в степь, но вернулся: раскаленное до красна солнце зыбилось в
мареве и давило жаром.
Спасительная
прохлада озера взбодрила его, и он неспешно поплыл к тому берегу. Сейчас там ни
гуся ни уточки: с первым светом снимаются с места ночевки и улетают к дальним
озерам, иначе днем на суше орлы всех передушат.
Вернуться
заставили змеи. Бых знал: водяные почти неопасны, если что, надо ухватить гада
за хвост и, сильно тряхнув, сломать хребет, но было неприятно плыть «под
конвоем», - несколько тварей пристроилось с обеих сторон и плыли, часто
извиваясь, все ближе и ближе к нему.
Когда,
с трудом вытаскивая ноги из глубокого ила и шумно расплескивая воду руками,
стал выходить на берег, отстали.
Сидя
у воды, долго смывал с себя черный ил.
«СостА…
СостА… ЭлистА… Какие странные названия…» И осенило: «Соста-н! Ну, конечно!
Со-стан, Эли-стан!.. Все тот же «стан», - от тюрков!»
Вечером
примчавшийся из станицы Сушко раздраженно подгонял селян:
-
Живее, живее, работнички!
Люди,
пошатываясь, заполняли машины, время от времени из автобусных окошек
высовывались страдающие головы, исторгали непотребный фонтан и оставались
снаружи, жадно хватая ртом воздух, облегчаясь утробным стоном. «Русские
кавказцы», изнемогающие от любимого пойла, удалялись на автобусах в
стремительно темнеющую степь, чтобы завтра с утра продолжить возлияния – что за
воскресение без него, а уж в понедельник вершить трудовые подвиги с похмельной,
раскалывающейся башкой.
Тут
и на тоню пора! Народец сплошь болеющий, и если б не трезвый Бых и если б
Федосеич не очухался от винно-табачной отравы, ничего бы не вытянули, а так, с
натугой, но все-таки взяли центнер.
Бых
и Сушко, отпив свежей горячей юшки и воздав должное щуке, завернутой в лопухи и
запеченной в углях, коротали время у костерка.
Сушко,
ублаженный едою и степным вечерним покоем, размяк:
-
«Не ведаем, что творим!» Все ведаем, а творим! А как придет старость да
смертушка близкой станет, тут и ужалит: как бы душу спасти? А поздно! Вот и
выходит, что правы те, кто во все времена говорили: «Люби в Боге все, и во всем
люби Бога!»
Когда
он ушел спать к рыбакам в халабуду, Бых подивился себе: все здесь такое, вроде,
несвычное, а уж привычное! И тоня, и рыба, и вся эта степная южная пряность, и
воля!
Утром,
выспавшись после лова, поев рыбки вареной и запив ее вчерашней холодной юшкой,
неспешно двинули в сторону от Состы: Сушко давно обещал угостить степным
праздником.
Газик
тихо бежал по накатанному, за открытыми окошками плыла безжизненная накаленная пустошь.
Даже орлы и коршуны не кружат над ней, даже пустельга не трепещет в воздухе –
нечем поживиться пернатым охотникам: все спасается от палящего жара, забившись
в глубокие норы, в прохладу земли.
Только
вечером, когда солнце спрячется за горизонтом, когда посвежеет и живность
вылезет, выползет подышать вольным воздухом, - только тогда взлетят ввысь те,
от которых бескрылое население степи стремглав ныряет в подземные общежития.
-
Был бы ты здесь весной! Сплошной ковер из тюльпанов и маков! Ой! – Сушко,
свесив руку в окошко, нечаянно коснулся ею металлического корпуса и тут же
отдернул ее, обжегшись!
-
О, черт, как нагрелся!
Бых
попытался представить себе, что он один на этой бесконечной равнине, - и
сейчас, и весной, когда тюльпанно-ковыльное разноцветье волшебно преображает
ее, и постиг вдруг ту обширную тишину, которая издревле царит здесь, в краю
охотников и степняков-овцеводов. «Сколько тысяч лет этой степи?»
Пыльные
дороги то пересекались, сливаясь в одну, то разбегались в стороны.
-
Тут-то ехать всего-ничего, держись самой накатанной! – посоветовал шоферу
Сушко.
-
По ней и едем! – нехотя возразил старый водитель.
И
тут же увидали скопление машин, мотоциклов и стадиончик.
Оставив
шофера томиться в машине, чтоб ее не угнали, а то потом ищи-свищи в бескрайней
степи, они устроились на скамеечке первого ряда, - нашлась пара свободных мест,
- и только Сушко стал рассказывать Быху о здешних обычаях, как откуда ни
возьмись подошла к ним цыганка, и Сушко, видимо, желая предупредить ее
попрошайство, спросил:
-
На праздник пришла?
-
На праздник, - отвечала она спокойно.
И
дернуло Сушко посмеяться над нею:
-
А ты в цирке была?
-
Нет, не была! – так же спокойно отвечала цыганка.
-
Аа! – с чувством превосходства произнес Сушко. – Вот то-то!
-
А ты в цирке был? – вдруг с вызовом спросила она.
-
Ну, был! – опять же с чувством превосходства, но уже с некоторой тревогой
отвечал он: к чему бы это она спросила?
-
Слона там видел?
-
Видел! – уверенно, но все так же ожидая подвоха, отвечал он.
-
Так вот, пойди ему яйца покачай! – и пошла, не оглядываясь, повиливая бедрами.
Народец
вокруг грохнул, и Сушко засмеялся смущенно:
-
Вот чертова баба! Нет уж, лучше с цыганами не связываться!
Бых
видел эту цыганку и раньше, звали ее МардЯндя, и понял, что где-то рядом может
быть и его знакомица Катуха, и вскоре увидел ее: черноглазая красавица с
огромными золотыми серьгами-полумесяцами в ушах, одетая в легкую кремовую
блузку и модную серую юбку ниже колен, торговала мелочевкой – пудреницами,
тушью для ресниц, губной помадой. И Жорка, ее черноглазый муж, неподалеку
вертелся, ослепляя всех шикарной золотозубой улыбкой, успевая на ходу «впарить»
какому-нибудь калмыку нутриевую высокую шапку, тут же внимательно пересчитать
полученные ловэнцы, и кинуться дальше. Драл он за шапки нещадно, у него был
явный коммерческий дар: всучить неважнецкий товар так, что у покупателя
оставалась на душе радость и он прощался со своими денежками без особой жалости
и потом любовался купленной шапкой и хвастал ею перед товарищами. А Жорка,
продолжая свою гипнотическую деятельность, тут же обрушивал золотозубое обаяние
на новую жертву, и делал это весело, быстро, и жадно считал ловэнцы.
Катухе
было далеко до него в этом главном цыганском занятии «кинАва-бикинАва», -
купи-продай, - но и она мало помалу раскручивала свой бизнес, и все больше
молодых калмычек смотрелось в маленькие зеркала и пробовало пудру на своих
загорелых скуластых щеках, а кое-кто отваживался тут же обновить губную помаду.
Перехватив
мельком брошенный на него взгляд Катухи, Бых понял, что она давно уж его
приметила и что, возможно, она навестит его в шалаше. Он не виделся с нею с
прошлого лета, когда так же помогал рыбакам на Состе.
Сушко
меж тем купил с лотка две бутылки кумыса. Солнце еще не все прожарило,
газированный кумыс был холодный и приятно бодрил, освежая рот колючими
пузырьками.
К
стадиончику подъехали небольшие автобусы, оттуда вышли на спортивное поле
одетые в национальные костюмы калмыки, калмычки. Взявшись за руки, они образовали
огромный круг, музыканты уселись на землю и заиграли, и начался танец. Долго
топтались на месте под какую- то национальную мелодию, потом запели и стали
сходиться к середине круга.
А
в центре стадиончика в двух огромных котлах над кострами варились жеребята.
Прежде
чем погрузить в кипяток, освежеванных жеребят взвесили: надо, чтоб, их масса
была одинакова. Справа от одного котла и слева от другого положили по две белых
простыни. Под одну из них спрячут сваренного жеребенка, под другую батыр будет
бросать обглоданные им кости. Простыни скрывают, сколько тебе еще надо съесть и
сколько, судя по костям, ты уже съел. И сопернику не понять, кто кого опережает
в этом чудовищном соревновании: первым съесть жеребенка! Пока обжоры едят,
гостей праздника развлекают артисты, сходятся и расходятся в долгом танце.
Иногда хором кричат:
-
ХАльмик!
Но
главные артисты – это, конечно, сами батыры. Как – быстро или неспешно – они
едят, запивая пищу кумысом, кто из них симпатичней зрителям, на кого сделают
больше ставок в самодеятельном «тотализаторе»: пари здесь, у вроде бы
меланхоличных степняков, азартные, как на скачках. «Хальмики» кричат, спорят,
бранятся, - переживают за своего «героя». И за денежки, которых можно лишиться,
ежели проиграешь.
Повара,
в белых халатах и колпаках, по двое у каждого котла, огромными шумовками стали
вытаскивать сваренных жеребят, уносить их к простыням и там накрывать полотном.
Танец
прекратился.
Тогда
ударили в гонг на судейской трибуне, что-то крикнул главный судья, затрещали в
руках музыкантов деревянные дудки, загремели маленькие барабаны, и на стадион
въехали две тройки. Темносерые рысаки в белых «яблоках» сделали круг по
стадиону, чтобы каждый зритель мог видеть батыров. Огромные, как японские борцы
сумо, они восседали на линейках, прогнувшихся под их тяжестью, - важные, словно
Будда.
Совершив
круг знакомства, линейки подвезли богатырей к простыням.
Скамейки
взорвались аплодисментами. Казалось, не было ни жары, ни томительного ожидания,
ни мокрых от пота рубах, - появление батыров освежило зрителей лучше кобыльего
молока.
Тут
от судейской трибуны на двух тележках повезли к батырам кумыс, перед каждым из
них, тяжело опустившимися на землю меж двумя простынями, поставили по огромному
тазу, полному до краев. Снова затрещали деревянные дудки и раскатились
гороховой дробью малые барабаны, - батыры оторвали из-под простыней первые
куски мяса и поднесли их ко рту.
Девушки-танцорки
в национальных костюмах запели что-то о богатырях, часто повторяя: «Ба-а-тЫр!
Ба-а-тЫр!» и, внезапно оборвав пение, захлопали в ладоши, и зрители поддержали
их своими аплодисментами. Судья еще раз ударил в гонг: соревнование началось!
Челюсти заработали!
Бых
с изумлением смотрел на происходящее: «неужели сожрут?!» Сушко, угадав его
мысли, рассмеялся:
-
Сожрут! Вот увидишь!
Бых
сам был неплохим едоком, еще во ВГИКе выиграл немало пари: кто больше съест
пирожков? Но чтоб съесть жеребенка!
-
А сколько месяцев жеребятам этим?
-
А шут его знает! Важно, чтоб одинаково весили!
Бых
попытался прикинуть, сколько может весить то мясо, которое на глазах у всех
уложили под простыни, но тут прямо перед ним, совсем рядом, быстро прошли
Катуха и Жорка, - уже без товара. «Все продали!» Ром и ромнЫ не обращали на
праздник никакого внимания, спешили. «Ловэнцы карманы жгут!»
-
Видала тебя? – Сушко посмотрел им вслед.
-
Видала!
-
Придет?
Бых
молча пожал широкими плечами.
Солнце
палило нещадно, все употели, рубахи – хоть выжимай, на батыров смотреть
наскучило: жуют и жуют, изредка с трудом наклоняясь к тазу и отпивая кумыс,
однообразные танцы приелись, - все глазели по сторонам, искали, куда бы взгляд
притулить.
Позади
них с Сушко устроилась казатва, гутарили о хозяйстве, но потом:
-
Гля-кась, у ей платье шелковое! Просвечиваить!
-
И под платьем шелк!
Обернувшись,
Бых перехватил направление мужского внимания: как мухи к меду, липли взглядами,
пялились на продавщицу кумыса. Лицом калмычка, а тело под платьем – дивы
кустодиевской!
-
Не знаешь, как зовут ее? – Бых наклонился к приятелю.
-
Эту-то? – усмехнулся Сушко. – Роза! Да у ней муж есть, тоже калмык, я его знаю!
А
за спиной: - Такую корову подоить-ба! Дд-а-а!
Бых
решительно двинулся к Розе.
Отстояв
длинную очередь, он, наконец, оказался у киоска, и, протянув деньги, ласково
глянул в узковатые глаза Розы и улыбнулся ей:
-
Две бутылки!
Она, улыбаясь ответно, взяла деньги, сдала
лишнее и, ловко откупорив бутылки, протянула ему:
-
Пожалуйста!
И
тогда он, взяв кумыс, все также прямо и ласково глядя в глаза ей, сказал:
-
А ведь без вас и праздник был бы не праздник!
И
ушел, не обернувшись, зная, что она сейчас смотрит ему вслед и что она никогда
уж не забудет эти слова и его и что при следующей встрече их отношения получат
развитие.
Вернувшись,
протянул бутылку Сушко и отпил из своей. Кумыс был теплым.
Ситуация
на стадиончике изменилась. Дело шло к развязке. Мяса под полотнищами почти не
осталось, зато вспухли холмиками простыни, скрывавшие кости.
Все
медленнее работали усталые челюсти обоих батыров, все чаще они отпивали
стремительно исчезающий кумыс, сильно наклоняя к себе тазы.
Зрители
неистовствовали! Одни кричали:
-
УлАн! Улан! Улан!
Другие:
-
БадмА! Бадма! Бадма!
Казаки
за спиной возбужденно гутарили:
-
Мне бы стока мяса сожрать, я б с бабой сутки трудился , ширинку б не успевал
застегать!
-
Эт проще, чем верхней тыквой думать!
Сушко,
в ожидании гонга, посмотрел на судейскую трибуну:
-
За два часа управились!
Последний
жевок – и сидящий слева батыр победно вскинул руки!
Все
заорали, музыканты взыграли туш, судья ударил в гонг и раскатисто закричал в
микрофон:
-
Победил УлАн БасА – нов! Он награждается скакуном ар-рабской пор – роды – ы!
Крики,
аплодисменты, туш – все смешалось!
На
стадион вывели огромного жеребца цвета утренней зари, два дюжих калмыка держали
его под уздцы с обеих сторон. Зрители завопили:
-
Улан! Улан! Улан! Улан!
Жеребец
гневно фыркал, рвался; с трудом удерживая, его подвели к Улану, - богатырь уж
стоял в ожидании, - и когда к нему доставили выигрыш, сам вставил ногу в
стремя, охотно приняв помощь подбежавших от судейской трибуны мужчин, - они
подтолкнули вверх его огромное тело, помогли перекинуть свободную ногу через
коня и усесться в седле, и все так же едва совладая с чуть розоватым арабом с
победно сидящим на нем Уланом, повели со стадиона под вопли, свист и восторженные
аплодисменты!
Едва
Улан покинул стадиончик, с другой стороны выехала на поле линейка, к ней
привязан был, бежал позади нее жеребеночек, той же гнедой масти, что и
запряженные лошади, и судья возвестил в микрофон:
-
Второе место занял БадмА – а ЖА – лов, он награждается жеребенком – м – м!
Под
аплодисменты зрителей и песню оживших танцорок Бадма взгромоздился на линейку,
перекосив ее заметно потяжелевшей тушей, ездовый тронул лошадей, и линейка
покинула стадиончик. Пение прекратилось. Ударил гонг.
Праздник
был завершен.
Выигравшие
пари «уланисты» радостно прятали деньги в карманы, проигравшие «бадманисты»
сумрачно матерились.
-
Смотри, смотри, - плачет! – подтолкнул Сушко Быха, и точно: пожилой калмык
расставался с проигранным, прерывисто всхлипывая, не стесняясь слез.
Счастливчики
хохотали над неудачником.
Бых
грустно покачал головою: «Жесток мир!»
Розы
уже не было. На ее месте продавала пиво невысокая, усатая, мохнорукая женщина.
Мужики, посмеиваясь, перли к ней, как на аттракцион: торговка зубами срывала
металлические крышки с бутылок!
Сушко
рассмеялся:
-
Женя на боевом посту!
И
пояснил Быху, пораженно смотревшему на Женино действо:
-
Никак не может закадрить себе мужика на ночь, вот и придумала заманиху!
И
загорелся:
-
Давай-ка наберем пивка, оно здесь редко бывает!
Минут
через пять обратной дороги уперлись в большую отару, на несколько тысяч голов.
Чабанов пятеро, все верхом, все даргинцы.
Сушко
достал из машины пивко, поллитру, стаканы. Пиво чабаны выдули с наслаждением, а
от водки отказались:
-
Когда темно, овцы станут, тогда можно!
Бых
смотрел на бредущее перед ним шерстяное богатство, увидел и мериносов в пышной
шубе, и курдючных овец – их широкие и тяжелые жировые хвосты свисали, били по
задним ногам. Бараны-производители, изнемогая от жары, высунув сухие языки, с
трудом волокли по земле отвисшую окровавленную мошонку, огромные семенники
бились о грунт, о задние ноги, - каждый шаг был страдание.
Один
из верховых, Иса, не сходя с коня, ярлыгой – длиннющим оструганным и ошкуренным
шестом с деревянным крюком на конце – уцепил за заднюю ногу баранчика, подтянул
его и, спрыгнув с коня, левой рукой прижал к земле голову отчаянно блеющего
существа, правым коленом навалился на туловище, вынул из притороченного к поясу
кожаного чехла узкий нож и сильно полоснул им по горлу животного. Кровь ударила
мощной струей, баранчик задергался, и чабан, еще сильнее придавив коленом,
ждал, пока уменьшится поток крови и несчастный затихнет.
Угнетенная
жарой, мимо лениво брела отара, - ближние овцы беспокойно косились на казнь и
тревожно блеяли.
-
Молчание ягнят? – подошел и стал рядом Сушко.
-
Оно самое! – отвечал погрустневший Бых.
-
Шашлик кушить будишь? – крикнул Иса. – Шашлик любишь?
-
Кто ж не любит! – улыбнулся Сушко.
-
Будишь кушать шашлик, тибе женщины любить будут!
Бых
усмехнулся: «И так любят!»
На
закате, когда отару сбили в плотный гурт, чабаны, доверив охрану стада огромным
лохматым кавказским овчаркам, сидели вместе с гостями у костра, выпивали,
закусывая нежнейшей едой.
Оказалось,
дрова и дубовую бочку с пресной водой дагестанцы возят с собою в кибитке: в
редких степных колодцах вода солоноватая, для шурпы сойдет, а в питье лишь
скоту годится; ну а топлива в степи не сыскать, разве что перекати-поле, но оно
вспыхнет и нету! «Как Гобачев!» - посмеялись даргинцы, припомнив тут же горскую
пословицу: «Всяк ходит так, как позволяет сердце!»
Чабаны
– сказочные богатеи по быховским меркам, у каждого по сто своих овец в
колхозной отаре, хотя официально разрешается держать всего шесть, - о будущем
говорили с тревогой: - В Москве шурпу сварят, а у нас бурчать будет!
Сушко
от этих слов помрачнел:
-
Ломать – не строить! Хуже нет дилетантов у власти!
Луна
взошла над степью кроваво-красная. И, вроде, долго не трогалась с места, низко
висела. Потом незаметно поплыла вверх, постепенно желтея.
Сушко
решил спать в машине, а Бых растянулся, было, на гостеприимной бурке, но вскоре
вскочил: блохи жгли беспощадно! Отбежал от бурки подальше, пытался заснуть на
земле-матушке, но блохи не собирались с ним расставаться. Измучившись, заснул у
костра, видимо, блохи не выносили близкого жара.
Чабаны,
поочередно спавшие днем в запряженной клячей кибитке, после ночного бдения
найдя под утро Быха без бурки, в ответ на его жалобы посмеялись: - Вах, какой
нежный! Совсем омосквичился!
Чуть
развиднелось, отара двинулась к Черным землям – к выпасам. Передние овцы жадно
лизали росную почву, идущим за ними уж ничего не осталось: все было стоптано.
Сушко
на прощанье подарил чабанам поллитру, пожелал:
ЯхшИ
ел! – добрый путь!
-
СагОл, чох сагОл! – отвечали даргинцы. – Спасибо, большое спасибо!
И
снова степь - серая, бесконечная, прохладная!
Сушко
обернулся к сидевшему позади Быху, что-то хотел сказать – судя по слегка
прищуренным карим глазам, в седой голове директора засела какая-то едкая мысль,
но тут неожиданно выскочили к озерцу, сплошь в камышах, и Сушко обозлился: - Не
той дорогой поехали!
Старик-водитель
растерянно развел руками.
Оставив
машину метрах в тридцати, подошли к узкому незаросшему сходу к воде. И наткнулись
на змею: в ее пасти торчала лягушка – снаружи только голова и передние лапки.
-
Вот сволочь! – возмутился Сушко и, поискав взглядом палку и не найдя ничего,
попросил шофера: - Принеси-ка ты монтировку!
Пока
старый водила ходил к машине, увидели, как лягушка, устав бороться за жизнь,
барахтаться, остановилась, и змея мгновенно заглотила ее еще глубже. Лягушка
сразу же забилась опять!
Сушко
монтировкой прижал голову змеюки к земле, лягушка выпрыгнула и шлепнулась в
камыши.
-
Вот так-то! – довольно изрек Сушко и отпустил змею. В тот же миг она кинулась
на людей, и три взрослых мужика позорно бежали: змея, сгибаясь в зигзаг,
молнией выбрасывала свое тело метра на два вперед – бросок за броском!
Когда
влетели в газик и оглянулись, змеи не было! Тут захохотали над своей трусостью,
и пока ехали до становища, потешались над собой.
-
В жизни так быстро не бегал! – признался Сушко, и снова смеялись.
Немного
успокоившись, Бых обрел способность к аналитическому мышлению: «Змея и лягушка!
Это образ, это надо запомнить!»
Федосеич
хотел, было, для порядка приветить матерком, но при Сушко не посмел. Проворчал
что-то вроде: - Мамай губатый! - и буркнул: - Юшка на месте!
Сушко,
поев ухи, укатил в станицу, а Бых полез в воду – смыть с себя все, чем одарила
его чабанская бурка; потом, внимательно перетряхнув одежду, залег в шалаше,
чтоб отоспаться после блошиных атак.
Но
вернулись московские мысли: отчего жизнь берет так много за возможность
писательства? Напряженная, изнурительная работа по вычитыванию чужих текстов
выматывает, угнетает, отнимает драгоценное время, а деньги приносит куцые.
Отчего все так трудно дается ему?
Последние
дни в Москве он, обозлившись на себя, говорил с собою пренебрежительно: «Что,
пустота одолела? Тогда иди на завод, паши землю, иди в школу – на ноживу
орлятам, которые учатся летать, а научатся – сожрут тебя, не поморщатся!..
Можешь не писать – не пиши! А если знаешь, что не прожить без этого, - открой
чистый лист, возьми стило и вперед! Служи истине!» Он старался не думать о
семье, зная, что виноват перед ними всеми и что вина его все набухает, но зная
и то, что избранное им дело требует уединения, одиночества.
Тут,
у озера, он поймал себя на чувстве какой-то раздвоенности: хотелось сказать так
много, что жило и билось в нем, но на бумаге оказывалось вовсе не то, было
внешнее, неглубокое, не давалось, не шло то главное, что покорило с первого дня
здесь. Наполненную звоном цикад тишину, истекающий зноем палящий полдень,
неизъяснимую прелесть ночной степи с ее теряющим жар воздухом, - как передать это?
Как передать грубоватую красоту здешней речи, притягательность естественности
всего, что его окружает здесь?
Как
понять себя, когда так хочется всегда быть здесь, среди благодатной южной
природы, и тут же осознается, что он уже не может, не может жить без Москвы,
своей трудовой Мекки, без ее интеллекта и изощренности?!
Вечером,
после тони и ужина, уже засыпал, когда возле шалаша раздалось вдруг:
-
СовЭс? Спишь?
-
Нет! – мгновенно узнав голос, он стряхнул сон.
И
тотчас в шалаш юркнула и, обдав «Шанелью», повалилась на Быха Катуха.
-
Не радый, что опять мине встретил?
-
Рад!
Она
крепко влипла жаркими сухими губами в его погорячевшие губы. Оторвавшись,
лихорадочно срывала с себя одежду.
И
накатило! Да как! Казалось, ее хрупкое тело не выдержит бешеного напора! Но
выдержало!
Потом,
лежа рядом, повернувшись к нему, спросила, как бы усомнившись в нем:
-
А что ты подумал, когда я в прошлом году первая поцеловала тебя в губочки твои
сладкие, что подумал?
-
Что если такая Кармен меня целует, значит, я чего-нибудь стою!
Рассмеялась,
будто сорока застрекотала.
-
А откуда ты про Кармен узнал, что мине так зовуть?
-
И знать нечего, вылитая Кармен!
-
Мине рыжысер один, Лотян, так звал, он к нам все «Товарищи цыгани!», а я ему:
«Что, товарищ еврей?» Так он прям влюбился в мине, снимать хотел, а Жорка
сказал: «Ноги вырву и палки вставлю!» Он у мине страсть ревнивый, свалить и
ногами бьеть, сапоги одеваить и бьеть!
-
Как бьет?!
-
Так и бьеть, по бокам, раз печень разбил, потом зашивали!
«Так
вот отчего шрам у нее!» - изумился Бых.
-
Ну, ничево, я ему тожить дала! Поехала за сахаром, десять мешков привезла – на
шкурки менять, а его нету! Значить, в доярок с кого-то! Ну, я давай лопатой по
окнам лупить, откуда-нибудь да выскочить! С пятой хаты и сиганул! Как дала ему
лопатой по шее, чуть башку не срубила! Он от мине в тувалет спрятался,
«Каравул!»кричал! Страсть нервеный!
-
И в тюрьму села бы!
-
И в тюрьме живуть люди! Кому надо, охрана в чайниках икру черную носить, - сама
видала!
-
Сидела, что ль?
-
Не, Жорка сидел, за наркоту, а мы энтому раЯ, начальнику тюрьмы, сунули, и на
квартире стали жить. Жорка мине за сестру выдал, мы ж не расписанные, так энтот
раЯ умирал за мной, замуж звал, а сам женатый! Я ему три года мозги дурила,
пока срок не вышел! Как сказала ему, что я жена Жорки, раЯ аж заплакал! Все б
раЯ такие булЫ, нам бы легко жилось!
-
РаЯ – это начальник?
-
Ну! Все ж хотят быть начальниками! Каждая сосиська мечтает стать колбасой!
-
А зачем же ты за него замуж пошла, если он зверь такой?
-
Зверь! Он мине подло взял, как украл все равно!
Мать
с отцом на рынок уехали, а тут он со своими тетками, на линейке тожить, -
заметил, что я дома одна, ни братов, никого нема! Я все поняла, кричать стала,
а тетки свалили мине, рот заткнули, все содрали с мине, чтоб голая была, и
держали за руки – за ноги, а он, жеребец, спытал мине своим каром! А мине ж
тольки тринадцать лет булО, мине ж так больно було! А тетки держать так, быдто
цепями прикована!
-
А отец с матерью?
-
Потом уж и они, и браты появилися, а дело сделано! Никакой суд цыганский мине
назад целкой не сделаить! А Жорка с матерью и вотчимом в ноги кинулися, замуж
мине просять! Так и стали свадьбу играть! Ну, свадьба була! Неделю у нас
гуляли, неделю у них! Уж побесилися! БравИнта рекой лилась!
-
Бравинта – это водка?
-
Ну! Ловэ нанэ, бравинта пьяса! Полуян? Денег нет, водку пьем!
Бых
улыбнулся.
-
Богатая свадьба булА! Даже с Мелитополева, с Симферополева приехали! А скольки
со Львова ромА булО! Там же мой дядька самый барО у них, они зовуть его…как
это… Чи…гач-гук! Большой змей! Он сам, один, поезд джинсОв закупал! Так к нему
все ромА львовские: «Пусти нам на рилизацию!» Значить, дай взаймы на продажу!
Ну, он срок запишить, дасть, но если хто хоть на день задержить ловэнцы, -
штрахуить жутко! Сам штрахуить, а два дня – уж цыганский суд, все у них
заберуть и еще кнутов дадуть, чтоб держали цыганское слово!
-
А почему б вам с Жоркой не поступить в какой-нибудь ансамбль цыганский? Ведь,
наверно, и петь и плясать умеете?
-
Дэв-ла-лэ! Тут к нам цыганский хор приезжал, давно еще, нас с Жоркой звали к
себе, так они как запели «ТавЭн джидО, Ленино!», мы так и покатилися! А потом
про партию, тожить нахохоталися! Цыгану уж если петь, так про волю, как
надурить и украсть, и красючек любить! Думаешь, почему Бог цыган любить? Потому
что, када казнили Христа, один кузнец был цыган, и надурил, плохой гвоздь
сделал, он и сломался, када Христа прибивать стали, и Христу не так больно
булО! Вот потому Бог нас и любить! А без обмана и жизни не будить! Кто умный да
хитрый, тот живеть, а дурак для того и дурак, чтоб за его щет умный жил! Не
так, что ли?
-
Не знаю…
-
А зачем ты в Москве живешь, там же все трещить и воняить!
-
Работа!
-
У мине тожить работа! Я в твою Москву за товаром смотаюся, привезу сюда,
пропарим с Жоркой, вот и ловэ! И живи на воле, в своем доме, хоть лошадей
держи! А в тибе квартира?
Бых
кивнул в темноте.
И
книг много?
Бых
опять кивнул.
-
И ты все их читал?!
-
Читал!
-
А зачем?! Ты ж, вроде, не глупый!
-
Потому и читал!
-
У тибе что, своих мозгов нет?! У нас хто книги читаить, тот дурак, значить! У
мине отец ни одной книги не читал, а весь город в руках держить, все прокуроры
и судьи в кармане! У нас хорошая гадалка ничего не читаить, а по двадцать тыщ в
день получаить!
-
А ты тоже гадаешь?
-
Не, я тольки наговорить могу, - за коньяк с конфетами! А за ловэ – не, а то
набить могуть! Настоящая гадалка за секунду человека выкупить, глянить – и все
про него знаить! Тада можно и тысяАми брать! А я – не!
-
Ну, ловэ, ловэ, а что дальше?
-
Опять ловэ! Дети есть, внуки будут – опять ловэ надо!
-
Вся жизнь – ловэ?
-
А ты как думал! Станем с тобою старые, вонючие, кто за нами будить горшки
выносить? Опять ловэ!
-
Савич, - раздалось около шалаша, - вставай, бери сеть!
-
Вот гаджО! – обозлилась Катуха. – Сам и ловил ба!
-
Все, Катуха, пошел я. И ты иди! Придешь вечером?
-
Подыкх Аса!
-
«Посмотрим!» - догадался Бых, и вылез наружу.
Катуха
вслед так загнула про Федосеича, что Бых поежился.
Темным
вечером Катуха все же пришла, и снова было ее любовное постанывание, похожее на
мяуканье, и ее трескучий сорочий смех, и неостановимая говорливость:
-
Жорка не знаить, что я здесь, он думаить, что я тольки завтра с товаром приеду,
а я товар у калмычки, у Розы сховала!
Быха
полоснуло: пышное Розино тело под платьем!
-
А Жорка чичас какую-нибудь доярку за сосцы дергаить, мастер ночного доения стал
без мине! А я больше не смогу к тибе приходить, во Львов поеду, я тибе Розу
энту в подарок пришлю!
Бых,
обрадованный, протестующее помотал головой.
-
Пришлю, пришлю, она тибе еще на празднике приметила, у ей все есть, чево у мине
нету, я же вижу, чево тебе надо, у ей бУла, как три моих!
Утром
прощалась: - Ну, все, мой сладенький, чтоб у тебя всегда так торчал и ловэнцы
водились!
Проводив
ее, он скоро вернулся.
Чуть
слышно плескало озеро, было тепло и рассветно, он лежал у своего шалаша.
Приснилось, будто ветер в Пуще шумит, заполошно лают собаки от принесенного из
лесу волчьего духа… И одинокий куст у болота, на луговине… С этим проснулся. И
явилось, как называла его жена в медовый их месяц: «Быховище!» Теперь зовет
его: «Бышка!» Колючая!.. Сын и дочь как-то сами по себе… И он со своей
писательской маятой никому им не нужен… Только-то и спасение в его летних
отлучках, когда она с детьми уезжает на Дон, к своей казацкой родне…
-
Не спишь? – Федосеич подошел незаметно. – Тогда айда!
И
пошел к озеру.
Оно
еще ленилось рассветною негою, отливая белизною, как молоко, – ласковое,
парное, теплое. И светлая его широта дышала простором. И плыть бы и плыть по
нему – легко и долго!
И
как это здорово: идти с сетью, таскать рыбу к весам, есть уху – в охотку, в
усладочку, и все свежайшее, только что пойманное, и плавать, и ходить в степь,
и дышать вольным воздухом – здесь, у воды!
Две
недели, как он покинул Москву, две недели, а кажется, вечность!
Последними
его строчками в Москве были: «Жизнь по капле, словно кровь, из меня сочится,
жизнь ласкает, как любовь, душит, как волчица!
После
них подарил сыну перочинный нож, мысленно попрощался со всеми – в отчаянии
решил уйти из жизни, как только они уедут. И только они уехали, раздался звонок
Сушко: - Что ты киснешь в Москве, приезжай, рыбку половим, за жизнь потолкуем,
- приезжай, поживи на воле!
Вовремя
позвонил Сушко. Он уж собрался, было: «Закрою форточку, открою газ. И все!»
И
вот он у озера!
-
Ну что, Савич, берись за сеть!
-
Взялся!
Огромное
красное солнце уже зашло за тот берег, и теперь там пылало зарево. В воздухе
появились и стали метаться с криками тучи птиц и горизонт из-за них потемнел,
но минут через пятнадцать, когда гомонящие стаи уселись на ночлег, открылась
прощальная полоска догорающего дня.
Бых
лежал у кострища, привычно опершись о левый согнутый локоть, - как в шалаше,
когда черкал в тетрадочке. Угли седели, разваливались, потрескивая. Потянул с
озера робкий холодок, обнял горячее тело, постепенно остужая его и наполняя
воздух долгожданной прохладой, - он все лежал, опираясь на затекший, вмявшийся
в землю локоть. И незаметно уснул, придавив жухлую травушку своим огромным тяжелым
телом.
Проснулся
оттого, что кто-то щекотал ему ноздри. Отмахнувшись, открыл глаза, в слабом
малиновом свете луны увидел: рядом сидел Федосеич с травинкой в руке.
-
Иди, там до тибе калмычка пришла!
В
плотном сумраке шалаша, затаившись, ждала его Роза! Он сходу обнял ее:
-
Здравствуй, моя хорошая!
Она
засмеялась смущенно и радостно, повисла на шее, потом уронилась навзничь и
ждала, стыдливо прикрыв глаза рукою, - трогательная, горячая, манящая.
Когда
на другом берегу загалдели, проснулись гуси, Роза покрывала поцелуями его
широченную грудь, напоследок дохнула в самое ухо:
-
Еще приду!
И
все. Исчезла.
После
ее ухода он лежал, слушая трепетание листьев на тополях, в шалашовом входе
виделось смутное шевеление теней: утренний ветерок напомнил о новом дне. И
незаметно уснул – легко и спокойно.
Опять
разбудил Федосеич:
-
Савич, раз-перераз, два на полтора и обратно, пора за сеть браться, жених
калмыцкий!
Пришлось
выползти в рассветный полумрак.
Роза
не пришла ни светлым, ни темным вечером. И хотя Сушко и говорил, что «свежая
юшка и ядрит, и бодрит, и мущинство шевелит», Бых сначала не очень ждал, вроде,
насытился. Но хотелось еще раз взглянуть на нее, ощутить ее – горячую, ладную,
крупную!
С
напрасным ожиданием возникла досада, в голову полезли обидные мужские сомнения.
Ожидаючи, он пересилил сон, и потом плохо спал, и после рассветного побудного
мата Федосеича вылез из шалаша с тяжелой головой и вялым естеством, и долго
плескался в озере, прежде чем взяться за сеть.
Днем
приехал Сушко, и на вечернюю тоню пошли раньше обычного, решили пображничать, и
хотя взяли всего три центнера, не печалились: будет еще рыба на их веку!
На
закусь Сушко выложил вяленую конину, добытую у ногайцев. Вынул белую канистру
из газика: - Ну, казаки, у кого мозоли от стаканов, кто пить не будет?
Мужики,
улыбаясь лукаво, протянули к нему граненые емкости.
Бых
замешкался.
Сушко
взглянул на него понимающе: - Пей, пей, без подмесу!
Шустрик,
сморщившись в улыбке, словно надетая на руку резиновая кукла-перчатка,
пошучивал, когда мужики опрокидывали в себя пахучую влагу: - Она его берет! Она
его берет!
Когда
же выпил сам, отрицательно замотал головою: - Она его не берет! Она его не
берет!
Рыбаки
посмеялись:
-
Остряк-самоучка!
-
Эх, ма, кабы денег тьма! – вздохнул Федосеич.
-
И что, королевну купил ба? – вонзился в него глазами-бляшками Шустрик.
А
что королевна? – отбрил Федосеич. – Все у баб одинаковое! Тольки завертка
разная!
Привыкнув
к рыбакам, Бых чувствовал себя легко и свободно, и видел, как им легко с ним,
по-свойски, и тихо хмелел вместе с ними, но его второе «я», - трезвое,
неподвластное ничему, определяло главное в их разговоре и поведении, и
запоминало это накрепко, навсегда.
Он
тщательно скрывал от них сокровенное, опыт научил его: ни соседям, ни приятелям
не говорить о своем писательском деле, иначе сразу замкнутся, будут глядеть с
опаской, - а ну как о нас пропишет чего? И когда Федосеич спросил его о
профессии, ответил, как в прошлом году Сушко:
-
Корректор!
-
Эт што за зверь?
-
Журналисты сдают текст, а я вычитываю, убираю ошибки.
-
Вроде учителя?
-
Вроде!
На
лице Федосеича отразилось спокойствие, и Бых понял, что верно поступил, не
сказав полной правды.
Выпив
еще вина, бригадир поморщился:
-
Эх, пить так водку, любить, так молодку!
И
хитро подмигнул Быху.
Бых
смотрел на него с удовольствием: полуседая грива, большой умный лоб, чуть
выпуклые серо-болотистые глаза, мощные темные брови углом, сильный волевой
подбородок, широкие вислые по краям усы – «И откуда в нем эта порода?»
-
Ты каких кровей, Федосеич?
Тот
махнул рукой:
-
Всего намешано! Чукчей вот только не было!
Кукольное
лицо Шустрика растянуло улыбкой:
-
Ихние бабы не отпустили б тебя!
Федосеич
глянул на него снисходительно:
-
Да уж, такого, как ты, не сделал ба!
Шустрик
обиделся:
-
Да ты знаешь, что чукотские бабы мне говорили? «Сюкоськи музик пляхой, а руськи
музик осень слявны!»
Сушко
зашелся хохотом, все посмеялись за ним вослед, и Шустрик, озорно поглядывая на
сотрапезников, хихикал долго и радостно!
Луна,
как всегда, выползла и застряла у горизонта, кроваво красная.
Бых,
лежа у шалаша, остался наедине со своими мыслями. Хотелось кого-то позвать,
хотелось любви и слов, которые рождаются вдалеке… Он столько раз прощался с
любовью, с молодостью, ставил крест на себе.. Что было, - казалось, было не
так, не в полную силу, или было легковесно, мгновенно, или обещалось
загаданное, но явило свою прелесть, когда все отцвело… Не раз ожидалось, что
вот-вот придет счастье, но оно не приходило и не приходит. Придет ли?
Сойдя
в Кисловодске с поезда, он сразу попал в иной мир, а углубившись сперва в горы,
а теперь в степь, отдалился на тысячи километров от всего привычного,
казавшемся нормальным, обыденным и естественным, а теперь, отсюда – пустым и
бесцветным.
Все
думалось, что главное, лучшее еще впереди, и все еще будет, и вот-вот начнется
то, чего ждал и хотел, но понял здесь, что лучше, чем эти дни на Состе, вряд ли
уж будет!
Услышал
в кустах за шалашом голоса, один – грубоватый – Федосеича, другой женский –
ласковый, какой-то округлый, ладный.
-
Что ж ты айрану не принесла?
-
По жаре-то з ранку не приготовила, думала, и так скиснеть, а он тольки
задумался!
Казачка!
Все перемешалось в этих степных краях!
Казаки
– русские, украинцы, - калмыки, ногайцы, цыгане, горцы – ну и сплав! Многолика
ты, Русь!
Звезды
зажглись, приблизились, разгораясь, и к утру вновь отдалились, бледнея. Бых все
не спал. Неужели, это его последнее жаркое лето? Неужели теперь только осень и
зима его жизни? Все минует, как миновало его белорусское лесное начало – с
ягодно-грибными рассветами, с гулкими боями сохатых, огненными танцами лисов,
ярыми налетами селезня. И его, Быха, молодыми забавами на сеновалах, когда от
страсти пресекало дыхание…
Во
ВГИКе он учился у самого-самого, народного, корифея, тот считал его «надеждой
нашего кино», и, вдохновленный этим, Бых написал сценарий, как казалось ему,
гениальный, и отправил его другому народному, тоже корифею и классику, и
радостно ждал ответа, - что вот, мол, спасибо Вам, дорогой наш автор, запускаем
мы Ваше творение в производство незамедлительно!.. Ждал год…два…три… Уж с
тоской… А потом на экраны вышел фильм, в котором Бых узнал свой сценарий, но
его фамилии в титрах не было, была другая, чужая!.. «Шляпа ты, шляпа, - пенял
ему тогда однокурсник, - даже не зарегистрировал свое авторство, сейчас
судиться бы мог!»
С
тех пор Бых не писал сценариев, только прозу. Но печатали ее неохотно, по
крохам, и хотя полнили ею портфели редакций, ждать публикации приходилось едва
ли не десятилетие…
И
с каждой публикацией росла зависть к нему, и все больше фальши становилось
вокруг, и это подтачивало его, и стало грызть лютой московской бессонницей. И
он обессилел!..
Сумрак
уполз от воды и затаился где-то в кустарнике, грядущая заря пролила на иссохшие
травы первые слезы.
С
сетью зашли подальше от берега, - по шею, ноги вязли в глубоком иле,
измучились, но взяли всего два центнера. Уловы падали день ото дня, пора было
перебираться на другое место, хотя бы за километр отсюда, и Федосеич объявил:
-
Завтра после утренней тони переезжаем!
Хлебнув
холодной вчерашней юшки, Бых ушел к шалашу, лег возле и крепко уснул.
Проснулся
через пару часов. Глубокая небесная тишина, так ясно им угаданная, неотрывно
тянула к себе, и он все глядел и глядел вверх – на бездонную синь, и думал о
детях.
«Дай
Бог вам всего того, чем и сам жил, чтоб и крепко было, и горько, и сладостно!
Дай Бог вам такой вот Состы, - живу ей сейчас и еще долго ею жив буду!»
Серые
глаза его, вобравшие небесную синеву, незаметно закрылись, и перед ним побежала
дорога… Ее пересекало множество других степных накатанных дорог, но вот
осталась только одна – его дорога… И вместе с дорогой бежала, летела орлиная
тень…
А
орел, с огромной высоты глянув мимолетно на крохотного человека внизу, в
стороне от людишек, копошащихся на берегу, завершил прощальный круг над озером
и устремился к дальним своим владениям, светившимся тусклым серебром у самого
края земли.
Проза.
Рассказ «Первое задание». Александр Логинов
________________________________________________________________
Александр
Логинов
Александр
Логинов родился 9 мая 1955 года в Москве. Окончил международное отделение
факультета журналистики МГУ. Печатался в газетах «Московский комсомолец»,
«Советская культура», «Советская Россия», «АИФ», в журналах «Наша улица», «Иные
берега», «Крещатик», в альманахе «Эолова арфа». Автор книги «Итальянское
каприччо» (Санкт-Петербург, «Алетейя», 2007). Живет и работает в Женеве.
ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ
«
- Может
быть, ты и прав, - сказал я. - Но
как можно
избавиться
от желания, искреннего желания помочь
окружающим тебя
людям?
- Ну и как же, по-твоему, им можно помочь?
-
Облегчая их бремя. Самое малое, что можно сделать
для
окружающих нас людей - это попытаться их изменить. Ты
ведь
и сам занимаешься этим. Разве не так?
- Нет. Я этим не занимаюсь. Я не знаю, что
менять, да и зачем
что-либо
менять в окружающих меня людях».
«Отделенная реальность».
Карлос КАСТАНЕДА
-
Саша! Сашенька! - надрывался Лидунчик, окрылив янтарные глазки. - Ты что –
оглох, что ли? Обедать пойдешь?
Я
ошалело смотрел на свой удивительный пропуск. Крутил его так и сяк. Даже сдирал
с него прозрачную защитную кожуру, как палач кожу с жертвы. Чтобы до конца
убедить себя в том, что меня приняли
штатным корреспондентом в многотиражку завода «Электросила».
В
отличие от человеческого существа пропуск не исходил кровью с соплями и воплями, а безропотно распадался на три
элемента - лавсановую синюю рамочку, прозрачную пластиковую обложку и кусочек
картона с фото, личными данными и круглой печатью.
-
Что? На обед? Лида, иди, пожалуйста, без меня. Я дома пообедаю. А после обеда
вообще в редакцию не приду. Вон у тебя две моих информашки лежат.
-
Где? Что? Ты мне ничего не давал! - возмутился Лидунчик, эдакий агнец в
мелких кудряшках и крупных золотых
побрякушках.
-
Да вот они. Под сиреневой папкой. Я так понимаю, что Александр Иваныч с концами
уехали?
-
Уехали?! Он же один уехал!
Ясно.
Моя шутка канула в молоко.
-
Может, все же пойдешь, а? Скучно одной в столовую топать.
-
А ты отключи внутренний диалог. Не успеешь и глазом моргнуть, как в столовой
окажешься. А в столовой не забудь закрутиться от сглаза и порчи. Как я тебя
учил.
-
Ой, перестань паясничать!
Лида
фыркнула в знак мелкой обиды, приспустила махровые ресницы, лязгнула пишущим
агрегатом и стала шумно копаться в сумочке. Как белка в корзинке с орешками.
Я
потянул руку назад и на ощупь вырвал листик с отрывного календаря.
Меня
обычно забавляли календарные тексты и даты, но сегодня глазу не за что было
зацепиться.
-
Так, что у нас сёдни? 30 августа 1976 года. Понедельник. Эх! «Прощай, неудачное
лето, прощай, изнурительный зной! Устав от счастливых билетов, я нынче купил
проездной!» Чего у нас там знаменательного в эту дату стряслось? Ага! «30
августа 1700 года царь Петр I объявил войну
шведам. Война объявлялась «за многие неправды»
шведского короля...» Так, это
фигня. Что там дальше? «...Началась война разгромом русских войск у стен Нарвы,
а по окончании ее Россия стала одним из самых могучих государств Европы. Почти
столетие никто не смел...» Тоже фигня.
А, вот! «Кто с мечом к нам придет - от меча...»
Лида, продолжи крылатую фразу!
-
Ой, да ну тебя!
-
Ну, хоть, знаешь, кто это сказал?
-
Отстань! Я кошелек никак не найду!
-
Хорошо. Я тебе наводящий вопрос задам.
-
Все-все, убегаю! - Лида сделала страшные глаза и сказала сказочным басом: - Ой,
не прощу тебе, Сашка, что ты со мной на обед не пошел! Понял, чем это пахнет?
Лида
уже хлопала дверью, когда я крикнул ей вслед:
-
Черкасов это сказал! Неграмошная!
Нарочно
раньше не стал кричать. Чтобы совсем не обиделась.
Газета,
в редакции которой мы так мило беседовали, называлась «Луч» и выходила
трехтысячным тиражом два раза в неделю. Ее разносили по всем цехам и отделам в
начале рабочего дня, но «ночной
директор», заступавший на вахту с закатом и сдававший дела с рассветом, еще
ранним утром подкладывал на стол
парторгу, главному инженеру и директору свежевыпеченный - только из типографии
- номер газеты «Луч», которую в народе называли совсем по-другому, а именно
«Гальюн Таймс», по-пролетарски прозрачно намекая на основную функцию
многотиражки.
До
этого я работал в отделе главного технолога. Старшим техником. Для
инженера-технолога мне не хватало ума. То есть высшего образования.
И
не работал даже, а маялся, выпекая на «синьках» никому не нужные
технологические карты:
«Операция
1: Крепить на боковой панели «С» два кронштейна (см. чертеж). Крепеж: винт (
И
так далее - до посинения духа. Этими картами работяги не пользовались. Собирали
утюги, фонари и стиралки вслепую, как молодые бойцы автомат «АК-47».
На
завод «Светосила» меня занесли лукавые силы после стройбата. Как
злокозненный смерч забросил Дороти в
автономный край Оз. Помимо мистических сил меня в спину толкали вполне бытовые
пружины: на заводе работал мой родственник, дядя Миша, а у отца была мелкая
лапа в отделе кадров завода - там работал его бывший коллега по паспортному
столу Калининского района. А еще у меня за плечами был несуразный техникум, который я умудрился закончить до
армии.
Лида
упрыгала на обед, а я продолжал наслаждаться видом волшебного пропуска.
Хотя
ничем примечательным документ в глаза не бросался. Ни безобразием, ни красотой.
Для постороннего человека это был просто пластиковый прямоугольник. Но от
обычного пропуска он отличался красной косой полосой, похожей на ленточку на
папахе или на свежий шрам. Красная полоса означала, что пропуск был не простой,
а «свободный». То есть я мог миновать проходную в любое время и в любом
направлении - на выход и вход. В отличие от шестнадцати тысяч закрепощенных душ,
которые спешили пересечь роковую черту в отчеканенный сталью срок - чтобы не
лишиться квартальной премии или не получить по башке от начальства.
У
бедолаг-пролетариев трудовой дребедень начинался в семь тридцать утра, у
инженерно-технической аристократии - в восемь пятнадцать, а у вохровских
волкодавов на проходной труд был,
наверное, круглосуточным.
У
рабочих были зеленые пропуски, у ИТР - бесполосые синие, а у вохровцев были,
наверняка, не пропуски, а какие-нибудь тайные метки-татуировки на левой груди или правом плече в виде песьей
главы со скрещенными метлами.
«Свободные»
пропуски имела не только заводская элита: директор с замами, главный инженер,
главный механик, главный технолог, главный энергетик, секретари парткома,
начальники крупных цехов и отделов, но и те, кому по роду занятий приходилось
часто пересекать вертушку, в том числе
шоферюги, снабженцы, а также работники заводской газеты «Луч» и заводского
радио, которое никак не называлось. Кадры ежегодно требовали от обеих редакций новое заявление с обоснованием. И
редактор многотиражки, Александр Иванович Зятько, ежегодно писал без затей:
«Прошу
предоставить всем сотрудникам многотиражной газеты «Луч» специальный пропуск.
Обоснование: поездки в Таганскую типографию №3, в Калининский райком КПСС, в
Библиотеку им. В.И.Ленина, на семинары в Дом журналиста. Список сотрудников
прилагается».
Редактор
безымянного радио, Владимир Пиманов, считал унизительным для журналиста
переписывать слово в слово набивший оскомину текст и каждый раз сочинял
пространные челобитные по четыре листа. Позднее Лидунчик шепнул мне по секрету,
что однажды Пиманову позвонил начальник отдела кадров Иванин и сказал:
-
Володя, перестань выхлебываться. Пиши доходчиво и лаконично. Как Пушкин. Или
еще лучше - как Зятько.
А
казалось бы: всего-то - красная линия наперекос.
Оттого
и соблазн порождала великий. Это ведь не червонец и даже не «единый» подделать.
Мой друг, Саша-художник, каждый месяц над фальшивым «единым» по несколько суток
корпел и потом мутным пластиком оправлял, чтобы вовсе следы замести.
А
тут свобода искушала разум блядской доступностью.
А
что?
Нужно
было всего лишь содрать с пачки «Явы» красный целлофановый ободок, превратить
его в нужной длины полоску, наложить полоску на вкладыш, зафиксировать пластиком
и вставить в синюю рамочку. Правда, пользоваться этой паленкой можно было, по
очевидным причинам, лишь в случае крайней нужды. Но только немногие поддавались
соблазну. Потому что широкие массы, особенно родом из двадцатых-сороковых, чуяли в этой легкости подколодный подвох. И
правильно делали. Ушлый народец из ВОХРа не спал-не дремал, а рыл волчьи ямы на
лентяев и вольнодумцев.
Примерно
раз в пару лет на спецпропуски ставились тайные метки - звездочки, ромбики или
крестики. Операция по нанесению меток проводилась в строжайшем секрете и всего
за одно только утро.
Утром,
в день «Х», владельцы спецпропусков
проверялись вахтой на вшивость и, при отсутствии «вшей», вновь получали свои пропуска, но уже с тайным
штампиком. Мошенников же под конвоем препровождали в отстойник-распределитель -
гулкую комнату с длинным диваном вдоль конопатой стены и хроменьким столиком с
кипой газет и графином с желтой водой (стакана на столике, разумеется, не
было). А потом еще долго, в течение многих недель и месяцев, вохровцы с
удовольствием - за премиальные - отлавливали самозванцев с краснополосыми
пропусками без тайной пометки.
Поскольку
речь шла о подделке режимного документа, кара могла быть очень суровой, но
социалистический гуманизм и любовь к человеку брали свое, и виновных всего лишь
увольняли с завода по нехорошей статье. А с учетом выслуги лет могли и
помиловать, то есть просто лишали квартальной премии или лепили строгий выговор
с занесением, если попавшийся был партийцем.
Помилование
было прерогативой директора «Светосилы» - Семена Петровича Гарина.
Гораздо
позже, когда я полностью вжился в образ
заводского корреспондента, один вохровец, немолодой уже волкодав, с бабьим
оплывшим лицом, с выступавшими сквозь прорезь рта, как ростки на картошке, фосфорными клыками, в фуражке с
изумрудным околышем и в черной шинели,
задержал меня как-то раз на вертушке. У него еще был такой же вампиристый
брат-близнец, который работал на второй проходной. Или, возможно, наоборот -
это был как раз его брат, а сам он работал на второй мышеловке. Покрутив мой
пропуск, татуированный всеми законными кодами, клыкастый сказал мне с оттягом:
-
Шо ты все шмыгаешь - то туда, то сюда. Шмырь-шмырь! Шмырь-шмырь! Я тебя по пять
раз на дню засекаю. А ведь спецпропуск не для того тебе даден, чтобы вот так
вот шмырять!
-
А для чего? Разъясните подробно, пожалуйста. Со ссылками на соответствующие
документы и циркуляры.
Вохровец
побагровел.
-
Ах-ты!... Ты, значит, давай без этого... Без смехуечков. Красный пропуск - это
большая честь. Которую можно и потерять. Понимаешь, щянок?
-
Послушайте, я сейчас в спортклуб «Авангард» иду. Интервью буду делать с нашим
заводским борцом, чемпионом мира в наилегчайшем весе. Эльмаром Багировым.
Знаете такого? Это же гордость нашего
завода. Интервью читайте в следующем номере. Или вы нашу заводскую газету
не читаете?
В
ответ вохровец молча бросил мне пропуск.
Я
лишь недавно оставил постылое ОГТ, а пропуск-отмычку вообще получил
только-только (режимники хреновы с оформлением целых три месяца тянули), и
ощущение вновь обретенной свободы
настолько пучило мое деликатное эго, что мешало понять, что, несмотря
на мандат, я оставался в зависимости
редактора многотиражки, Александра Ивановича Зятько.
Однако
редактор «Луча» был далеко не так страшен, как главный технолог Лев
Самуилович Розенблидт. Это артрозное дряхлое существо с вываренными мозгами и энергией номенклатурщика не только
изнуряло сотрудников ОГТ бессмысленным потогонным трудом, но и драконовским
оком надзирало за тем, чтобы все они возникали за своими столами ровно в восемь
пятнадцать утра и исчезали ровно в восемнадцать ноль ноль.
Для
этого главный технолог завел себя специального зама - Юлия Федоровича Чехлова,
который был не только органическим стукачом, но и страстным футбольным болельщиком.
Болел он, естественно, за «Динамо».
Юлий
Чехлов, цветом лица походящий на бочковой огурец, а окрасом одежды - на
сельдь-иваси, обитал в укромном уголке огромного зала, в котором сгрудились
вперемешку технологические и конструкторские службы отдела, разделенные лишь
стеклянными ширмами и горшками с какой-то гигантской и острой, как бритва,
осокой, и с восьми десяти до восьми двадцати утра зорко следил за центральной,
как бы горловой дверью отдела. Задний проход, то есть дверь с противоположной
стороны, был по приказу Чехлова то ли забит, то ли закрыт на ключ.
Ровно
в восемь пятнадцать на весь зал трезвонил звонок-невидимка. Я так и не понял,
где этот звонок находился, поскольку омерзительный звук буравил уши со всех
сторон. Может быть, еще в сталинские времена по периметру стен были заживо
замурованы несколько вечных звонков. После того как звон умолкал, огэтэшники
долго внимали фантомной трели в ушах.
Если
сотрудник появлялся в дверях через две-три секунды после звонка, то Чехлов
громко кашлял и поднимал желтый квадратик на палочке, а если секунд через
тридцать или даже через минуту - махал первомайским флажком и кричал на весь
зал укоризненно:
-
Эй-эге-гей! Человек! Поталуй! Сергей Александрович! Слышь сюда! Красная
карточка вам, любезный!
Желтый
квадрат означал порицание или строгий выговор без занесения, а красный флажок -
лишение премии или льготной путевки.
Тех,
кто опаздывал на зримо-весомые сроки, то есть на пять или десять минут, вохровцы хомутали на проходной и отправляли в
отстойник. Далее следовала процедура суммарного разбирательства, начинавшаяся с
телефонной трели начальнику:
-
Доброго вам утреца и здоровья, Генрих Анисимович! Это вас с проходной
беспокоят. Старший вахтер Кривохин. Иван Алексеевич. Нами тут задержан и
препровожден старший инженер-конструктор
Вадим Борисович Уваров. По вашему ведомству числится. Что будем с ним
делать?
Более
чем на двадцать минут никто не опаздывал. Это было попросту неразумно. В случае
крупного опоздания люди предпочитали идти на прогул, поскольку расплата
разнилась, по мнению знатоков, в сущих минуто-копейках (лишних пяти минутах на
позорном ковре и изъятии лишней трехи из
премии), и направляли стопы либо в пивной павильон, либо в лабазы в надежде нарваться
на дефицит: пластинку гэдээровской группы «Пудис», шотландский мохеровый шарф,
индийские презервативы, французский
парфюм «Клима», набор женских слипов «Неделька», связку бананов по рубль
двадцать кило.
В
отличие от технолога Розенблидта газетчик Зятько по сталинщине не ностальгировал
и вообще старался не докучать никому своим веским присутствием. Человек он был
очень грузный, и оттого удары его протеза (одни говорили, что ногу он потерял
на войне, а другие - что подростком сорвался с подножки трамвая) - предваряли
его появление каменной поступью.
По
какой-то давней традиции день в редакции начинался в девять тридцать утра.
Александр Иванович приходил почти всегда вовремя. Он наскоро разбирал и
раскладывал почту, давал указания корреспондентам (мне и Варваре) и машинистке
(Лидунчику), верстал макет номера - на все про все у него уходило не более
получаса - и спешил «по делам» в направлении производства.
Возвращался
Зятько к обеду. Багровый, нетвердый и молчаливый. Если в этот день нужно было
везти уже склеенный номер в печатню, то Александр Иванович рыкал что-то
невнятное в цветок на окне, похожий на раскрашенную крапиву, забирал у Лиды
папку с макетом и исчезал до прихода
нового дня. А оконный цветок еще долго дурманил нас спиртовыми парами.
В
другие дни вернувшийся из цехов Александр Иванович, покряхтев в своем кресле
минут эдак с десять, бубнил, опять же обращаясь к цветку на окне, что он,
пожалуй, дома чего-нибудь перекусит. И, как в первом раскладе, решительно
исчезал.
Так
что моя свободная жизнь начиналась обычно с послеобедья.
При
непреложном условии, которое первые месяцы я старательно соблюдал.
Я
должен был выдавать в неделю четыре проходных информашки, зарисовки или заметки, по две-три страницы каждая. Иногда я
баловал себя фельетонами. Но Зятько фельетонам не доверял. Придирчиво их читал
и потом согласовывал по телефону с парткомом. Говорил мне угрюмо:
-
Ты, Саша, бросай это дело в зародыше.
Пока оно нам боком не вылезло.
Недельную
дань я выдавливал из себя очень быстро.
Зарисовки
я предварял торопливой беседой с героем, а информашки писал, не отходя от
стола, по примеру Варвары - второго или, вернее, первого корреспондента,
опытной журналистки, краснодипломницы МГУ.
Изредка
нам приносили заметки рабкоры. Но на выделку их заскорузлых творений уходили гораздо большие силы,
чем на создание новых. Радовал только юный слесарь Валера Старенко. Он писал о
своих старших товарищах краткие и сочные тексты, в которых почти нечего было
править.
Помню
такой вот зачин одной из его заметок под названием «Максим Ильич - молоток!»:
«Кажется,
все из нас умеют держать в руках молоток. Эка невидаль! - скажет невежда. Но
так, как держит в своих искусных руках молоток слесарь 6-го разряда Максим
Ильич Коротеев, не умеет держать никто. Даже бывалые члены партии и ветераны
войны и труда».
Но,
увы, со Старенко пришлось расстаться.
Однажды
рабкор вздумал нас разыграть и, прокравшись в редакцию в наше отсутствие,
спрятал пишущую машинку в шкаф. Потом уселся на стул и, как ни в чем ни бывало,
стал дожидаться первоприходца. Первым был я, а чуть позже приковылял редактор.
Старенко затеял с нами беседу, а сам чуть ни прыскал со смеху. Мы лишь
озадаченно переглядывались, поскольку,
как это было ни странно, пропажи «слона» не приметили. Встрепенулись мы только
тогда, когда Старенко со зловещей
ухмылкой спросил:
-
А куда вы Лидунчика дели? Да еще вместе с машинкой?
Редактор
так впился глазами в Лидочкин стол и так ударил протезом об пол, что я
испугался за его дряблое сердце. Мне кажется, что от инфаркта его уберег стакан
спирта, заблаговременно принятый в производственных недрах. В этот момент в
дверях появился Лидунчик.
И
хотя Старенко божился, что не знал, что пропажа пишущей машинки чревата
немедленным увольнением с заменой партбилета на волчий, Александр Иванович
навеки вычеркнул его имя из списка рабкоров.
Очень
редко Зятько оставался в редакции и после обеда.
В
этом случае он обычно сидел как истукан за столом, уперев глаза в разноцветные
листья крапивы. А порой доставал подшивку «Луча» за какой-нибудь тридцать
десятый год и лениво ее лохматил. Иногда он выдергивал из пластмассового
стаканчика карандаш «Конструктор-3Т», обводил им с хрустом какую-нибудь
статейку и подзывал к себе Лиду:
-
Лида, перепечатай для нового номера вот эту заметку. Очень она острая и
актуальная! Только даты поменяй и подпись поставь: «И. Александров». Ну, ты
сама все знаешь.
И
снова нырял в потемкинскую историю, лишь мельком бросая из прошлого мутные
взгляды. То на меня, «джинсовое чучело» (так меня в глаза называла Варвара). То
на кудрявого агнца Лиду, замужнюю, но легкомысленную милашку. То на малохольную
от дистонии и отсутствия положительных мужиков «Варвару-красу» (это я ее так за
глаза называл).
Несмотря
на богатых родителей и двухкомнатную квартиру в личной жизни Варвары-красы
застревали исключительно алкаши, тунеядцы, проходимцы и инвалиды. Причина была
проста: она была безобразна не только извне, но и внутри. Она была глупой,
лживой, обидчивой, жадной и к тому же
слегка сумасшедшей. А, может, и не слегка. Поскольку борзо и плодовито
строчила один к одному безумные репортажи:
«...Рабочие
и работницы, инженеры и техники, партийцы и руководство, все как единое коллективное целое, в красных косынках и с
алыми бантами на груди, вышли на первомайский субботник, чтобы ударным трудом почтить международный
день солидарности трудящихся всех частей света и континентов...".
А
еще у Варвары был хронический насморк. Я бы назвал его аллергическим, если бы
он не был, как выяснилось, круглогодичным. Или у нее на пишущую машинку или на
крапивный цветок была аллергия? А, может, на меня?
Зятько
все поделки Варвары ставил в газету не
глядя, потому что они с лихвой отвечали негласным канонам, за блюдением которых
следил второй секретарь парткома, Сергей Валентинович Виноградов.
Редактор
безымянного радио, Владимир Пиманов, называл Варвару Василисой Малыгиной из-за
ее радикальных суждений по поводу секса, семьи и любви. Да и мне самому -
джинсового чучела Варвара почти не стеснялась или, скорее, не замечала -
приходилось слышать из ее уст потрясающие откровения ультрафрейдистского
толка.
Исповедовалась
Варвара, как правило, по утрам, после отхода Зятко в дозор по цехам. Редактора
она побаивалась.
Однажды,
разметав в чашке с чаем колотый сахар, она подняла вялую руку, как изнуренная
бременем славы отличница, и капризно сказала Лидунчику:
-
Лида! Перестань машинкой трещать! Уши вянут. И вообще, как ты можешь с утра
портить ногти и маникюр? Вот послушай, что мне ночью приснилось. Я до сих пор в
себя прийти не могу. Шок! Просто шок!
Лида
широко растворила глаза и, как пианистка, разметала пальцы на клавишах. А
Варвара отхлебнула глоток цейлонского чая с мятой и странно на меня покосилась.
Как будто внезапно заметила мое присутствие.
-
Привет, Варвара.
-
Привет-привет, юное дарование, - брезгливо улыбнулась Варвара и снова
отключилась на Лиду. - А приснилось мне,
что мы с Мишей как будто поссорились, и он от меня ушел. Прямо в кальсонах. И
кальсоны какие-то странные на нем были. Расклешенные. Со складками и колокольчиками. А я стою в дверях в одной
комбинации. А никакой парадной двери вроде и нет. Так, проем один. Кирпичи
торчат, арматура, букашки какие-то ползают. И комбинация на мне тоже, я тебе
скажу, та еще! Какая-то вся на вате, стеганая, как телогрейка. И в каком-то
мазуте. Я Мише кричу: «Миша, вернись! Ты мне книжные полочки не повесил!» Ну,
ты знаешь, чешские такие книжные полки.
А Миша рукой махнул и убежал по лестнице. А у меня слезы из глаз валом
катятся. Ну, во сне. И на душе щемит так сильно, но так сладко при этом. Это
невозможно передать. А я смотрю на свою комбинацию уродскую. Боже мой, думаю,
вот почему Миша ушел! Он моей комбинации испугался. И где я только эту тряпку
нашла? В какой такой помойке? И я
комбинацию с себя срываю, а она никак не снимается, цепляется за меня, и как-то
невыносимо туго идет. Я ее рву кусками, ошметками, а куски липнут к ногам, к
рукам. Но я все-таки все с себя стащила. Бегаю голая по квартире. И даже не
бегаю, а летаю. Как космонавты в состоянии невесомости. Оттолкнусь от пола и
плыву. Аж дух захватывает. А у самой - мысль: а ведь двери-то нет! Кто угодно
может ворваться. Воры, убийцы, милиция. И тут я к зеркалу подлетаю. А зеркало
большое такое. Все по краям в малахите.
Помнишь хозяйку медной горы?
-
Это сказка какая-то?
-
Ну да, это Бажов. Уральский такой маразматик. Короче, не важно. И вот гляжусь я
на себя в это зеркало и вижу, что у меня... ужас-ужас!.. этого самого нет. Ну,
ты понимаешь!
-
Не понимаю! - искренне удивилась Лида.
-
Ну как же не понимаешь?! - начала закипать Варвара. - Самого главного...
женского... Поняла?... Как будто и не было. Или как будто оно отвалилось. И все
там такое гладкое-гладкое. Как у куклы.
-
Не понимаю, - сказала Лида, хлопая часто-часто ресницами.
-
Господи! Ну это... эта... понимаешь... на букву «п»! «П»! «П»! Исчезла, как не было! Ужас! Шок!
Варвара
выдувала звук «п» с чувственным придыханием, словно английскую фонетику
ставила.
-
Ой! Да ты что?! - наконец ужаснулась Лида. - Давай я тебе «Корвалола» дам?
На
Варвару было больно смотреть. У нее дрожал подбородок, и губы. Набряк
нечистотами нос.
-
Ду вот, - всплеснула руками с носовыми платками Варвара. - Дасборк
дачидается!
-
Варвара, а сейчас у тебя как? Все наладилось? - Лида шарила в ящике пузырек с
«Корвалолом».
-
Лида, дура, я же тебе сод рассказываю! - разрыдалась Варвара. - Ты что, де
подибаешь? Сод!
Тут
я подумал, что самое время оставить помещение. И сказал:
-
Пардон, я выйду в коридор. Покурю.
Я
вышел в коридор, хотя не курил. Как-то в детстве попробовал с другом
«Герцеговину-Флор» и, проблевавшись, навек завязал.
В
общем, так я и не узнал, чем закончился сон с пропажей непоседливой
"П".
А
потом постучался в редакцию радио.
К
Володе Пиманову и Надежде Ефремовой.
Володя
был редактором радио испокон веков. Вернее, с тех пор, как редакцию покинул
прежний ее глава, Леня Французов, который подался в писатели-юмористы - писать
скетчи для Петросяна и Клары Новиковой.
А
Надежда пришла на завод недавно. До этого она работала в школе учителем русского
языка и литературы, и в школе ее называли по имени-отчеству - Надежда
Сергеевна. Но однажды она наплевала на свой авторитет и предпочла поденщине
хоть какое-то творчество. Сначала Володя пытался ее наставлять, учить, как
писать радио-репортажи. Но очень скоро выяснилось, что Надежда писала их
гораздо лучше наставника. И вообще начала, по его мнению, воображать.
Тогда
он прибег к неожиданной тактике. Как-то раз после мелкой пирушки по поводу
годовщины прихода Надежды на радио, которую Вова и Надя отмечали один на один,
Пиманов вдруг встал из-за праздничного стола, подошел косым шагом к двери и
запер ее на ключ.
-
Надежда, - сказал он вкрадчиво и торжественно, - я открою эту дверь только
после того, как ты станешь моей.
-
Володечка, ты что - с дуба упал? - Надежда треснула его по лбу ладонью. - А
ну-ка гони сюда ключ.
Володя
жалобно посмотрел на Надежду и отдал ей ключ.
Надежде
было жалко Володю, но, увы, никаких сексуальных чувств он в ней не вздымал.
Козырным его местом был печальный с лукавинкой взгляд безвременно стареющего
еврея, но такой взгляд никакой надежды
ему не сулил.
Володя
пристально следил за судьбой Леонида Французова, который поднимался по ступеням
эстрады все выше и выше. Володя светло завидовал Лёне и не раз говорил, что
тоже пойдет по его стезе:
-
Вот только Ваня мой возмужает и Черныш немного окрепнет.
Ваня
был сыном Володи, а Черныш - его любимым котом.
Эта
Володина фраза, которую дамы пропускали мимо ушей, меня всегда озадачивала.
Поскольку я не совсем понимал, что Пиманов имеет в виду. К примеру, я знал, что
Черныш страдал циститом и геморроем, но никак не мог логически привязать этот
факт к карьерным прожектам Володи.
Время
от времени Пиманов писал юморески, которые ставил в местный эфир. После
передачи он всегда заглядывал к нам в газету и спрашивал:
-
Ну как? Глянулась юмореска?
Александра
Ивановича на месте застать было трудно. Я же молча вытягивал руку с
оттопыренным вверх большим пальцем. Варвара хмыкала и отворачивалась к окну. А Лидунчик
строил кокетливую гримаску и чувственно выдыхал:
-
Пиманов - ты гений! Я тебя люблю!
Володя
улыбался и исчезал.
Скетчи
так себе были. В стиле воскресного «Доброго утра». Хотя мы их не слушали. Не имели возможности.
У нас местное радио не работало. Но вызвать монтера охотников не находилось. Я
пытался починить репродуктор, тыкая наугад отверткой в дырки и щели на задней
панели. Но радио только хрюкало и трещало. А знал я о содержании юморесок
потому, что Александр Иванович обязательно пропускал их через газету. Мы вообще
с редакцией радио тесно контачили. Они нам материалы подбрасывали, а мы - им.
С
Володей Пимановым я дружил.
Именно
он перетащил меня в газету из ОГТ. Уломал Розенблидта и мою прямую начальницу -
Татьяну Петровну Балан, бил за меня челом в парткоме и в отделе кадров (нужна
была новая ставка), хотя все это должен был делать Зятько.
В
то время ОГТ бился, как рыба об лед, над внедрением в производство и быт
стиралки «Эврика-автомат», и в отделе сгустилась на редкость смрадная атмосфера.
Полуавтомат с грехом пополам внедрили. У машины был только один неизлечимый
изъян. На отжиме она начинала прыгать так, будто в нее вселялась центурия
бесов. Машина подпрыгивала аж на полметра.
А то и выше. На контрольном участке 1-го цеха, где собирали «Эврику»,
работали дородные и бывалые женщины-экзорцистки. Лишь только машина входила в раж и начинала
скакать по цеху, как пушка по палубе в сильную бурю, женщина-контролер ловко на
нее запрыгивала и гвоздила одержимую бесами к полу. Машина вначале крупно
дрожала и фыркала, как мустанг под ковбоем, но потом покорно стихала. Короче,
бесы ее покидали. Чтобы вселиться в новую, еще плывущую по конвейеру.
А
вот автомат не шел ни в какую. Косил уже на стадии стирки. Белье почему-то
мгновенно сбивалось в тяжелый ком, который бился чугунным ядром о стальной
барабан. Барабаны приходилось менять как перчатки. К тому же белье, извлеченное
из покореженного барабана, было рваным и почему-то замасленным. Начальник
сварочного бюро, Анатолий Иванович
Сурин, упрямо твердил: «Я же говорил - прокладки надо менять! Вместо резиновых
фторопластовые ставить!»
Обе
модели - полуавтомат и автомат - спроворили у немчуры.
Действовали
по протоптанной схеме: купили в ФРГ две
«бошки», разобрали их на заводе до последнего шпунтика, срисовали с них
чертежи, а потом стали кумекать над техпроцессом. И вот тут-то надолго
застряли. И начались для отдела черные дни и субботы. Без премий, отгулов и
профсоюзных путевок.
Чтобы
немного отвлечься от нервных, крикливых будней, я ради хохмы начал писать в
нашу заводскую газету незатейливые заметки.
Сначала
я написал о заводском хоккеисте, нападающем Толе Буянове, превратив его в
тонкого и светлого человека, любителя шахмат, рыбок и классики. Материал прошел
на ура. Мне позвонили газетчики: пиши еще, есть способности!
Я
написал рецензию на михалковскую «Рабу любви», которую давали в заводском
Дворце культуры. Рецензию тоже тиснули.
Тогда
я написал очерк о главном инженере
завода. Что-то там про кабинетные окна, которые светятся за полночь, про неумные
мысли о благе завода, про острый, пытливый ум заводского стратега. За этот опус
мне выдали премию. Целых пятнадцать рублей.
После
этого я написал зарисовку о кудеснике из цеха по сборке кунгов («Кунги - это
кто? Экзотические животные, да?» - как-то спросила меня одна девушка на
дискотеке), который плел провода, как паук паутину, а потом - раздумчивую
статью о том, как избежать колоссальных потерь технического спирта. Причина
потерь была очевидна. Спирт немедля выпивали рабочие. А в предназначенные для
спирта сосуды заливали водопроводную воду, добавляя для запаха ацетон. Радикалы
из породы старых большевиков предлагали сыпать в спирт цианистый калий, а на
сосуды лепить этикетку: «Осторожно - яд!» Но я, вместе с Татьяной Петровной
Балан, считал, что таким образом мы в считанные недели истребим всех заводских
пролетариев и завалим квартальный план. Поэтому я предлагал всего лишь
подкрашивать спирт неприятной для носа и глаз субстанцией. Например, раствором
йода и нашатыря. Статью про кудесника
напечатали, а про спирт - отвергли, посчитав невозможным обсуждать эту тему
публично.
В
канун международного Женского дня я послал в редакцию праздничный стих с такой
вот последней строкой: «...И обаяньем Жанны Самари».
Мне
почти тут же позвонили из редакции, и вместо задорного девичьего голоска я
впервые услышал глухой баритон (я тогда
еще не знал, что это - редактор «Луча»):
-
Александр, стихотворение у вас неплохое... Но напечатать не можем. Доработка
нужна. Ну вот кто такая Жанна Самари?
-
Актриса французская. Ее Ренуар рисовал.
-
Ну вот так я и думал. Еще и Ренуар какой-то. Либо новую строчку давайте, либо
стих не пойдет. Договорились?
Я
долго думал над рифмой к слову «озари». Но так ничего путного не придумал.
Стих
не напечатали.
Спустя
несколько дней, когда мы всем отделом чистили снег вокруг инженерского корпуса,
скребли деревянными и жестяными лопатами
по бородавчато-жабьей коросте, ко мне подошел человек в черном пальто с
поднятым воротником, но без шапки. Человек был довольно молод, однако не по
годам сед.
-
Александр? - спросил он с грустной, но лукавой усмешкой.
-
Александр, - согласился я.
-
Вот! Сразу вычислил! Это у меня репортерская хватка! - Человек в пальто
протянул мне руку. - Я редактор заводского радио. Владимир Пиманов. Ну что, давайте
дружить?
-
Дружить бы рад, скрести лопатой тошно, - протянул я руку в ответ.
-
Юморист? Приветствую! А почему прическа хиповая? Семизоров не пристает?
Дима
Семизоров был секретарем комсомольской организации ОГТ.
-
Да нет. Приставал вначале, потом привык. Длинные волосы для меня - это знамя.
-
Это в каком смысле? - насторожился Пиманов.
-
В самом гуманистическом и прогрессивном. Возьмите, к примеру, Карла Маркса и
Фридриха Энгельса...
-
Ну да, ну да. Понял, - улыбнулся Пиманов. - Это вы так, наверное, Семизорову лапшу на уши вешаете.
-
Ну вот вы сразу поняли, что это лапша. А на других действует. Хотя на самом
деле тут совсем другое. Понимаете, у Самсона в волосах вся сила была, а у меня
в волосах - весь ум. Если постригусь, то сразу дауном стану.
-
Ой, Александр-Александр! - пожурил меня мягко Пиманов и улыбнулся. - Это я
такой либерал, а другие ведь неправильно понять могут. Знаете что, приходите-ка
завтра где-нибудь в часик в редакцию газеты. Сможете?
-
Смогу. А где редакция находится?
-
Не знаете? Странно. Да вот в том желтом корпусе. Вон, угол из-за деревьев
виднеется. Третий подъезд, третий этаж. С лестницы - влево по коридору.
Пятая слева дверь - редакция «Луча». А мы, радисты, - напротив.
-
Интересно, почему вы меня приглашаете, а
не редактор «Луча»?
-
А у нас между радио и газетой - крепкая спайка. Как между городом и деревней.
Теперь
и я улыбнулся.
-
У нас мушкетерский принцип: один за всех и все за одного. А редактор, Александр
Иванович Зятько, как раз сейчас в типографию уехал. Номер сдавать. Поручил мне
вам передать, что завтра примерно в час он мог бы вас принять. Для серьезного
разговора. А вообще я тоже все ваши материалы читал, и они мне очень и очень
глянулись.
И
мое сердце затрепетало.
На
следующий день ровно в час я был в редакции.
За
столом у окна сидела милая девушка с короткой кокетливой стрижкой и большими
золотыми серьгами, а напротив нее сидел грузно-сутулый немолодой человек с
основательным носом, какими-то пластилиновыми ушами и редкими пепельными кудрями. Два ближних к двери стола пустовали.
На столе у девушки стояла серая пищущая машинка, но она читала «Комсомольскую
правду», распахнув ее дряблым парусом.
-
Здравствуйте, - угрюмо и глухо сказал человек с седыми кудрями. - Вы, как я понимаю,
Александр Сергеевич Новиков. - А я - Александр Иванович Зятько, главный
редактор многотиражной газеты «Луч». Вешайте куртку на вешалку или прямо на
стул кладите и присаживайтесь.
Я
повесил куртку на спинку стула и сел. Боковым зрением я видел, что девушка
скомкала парус и стала меня изучать. Я почувствовал, что густо краснею.
Я
думал, что редактор протянет мне руку, но руки он мне почему-то не подал. Зато
громко стукнул ботинком об пол.
-
Очень приятно, - сказал я на стук.
-
А это вот Лида-Лидуля-Лидок. Моя секретарша и машинистка. Прошу любить и
жаловать.
Лида
хихикнула и устыдившись собственного смешка, прижала ручку ко рту: «Ой!»
-
Очень приятно, - вновь сказал я, посмотрев на Лиду.
Лида,
сидя, ухитрилась изобразить подобие книксена.
-
А что там на улице - снег или дождик идет? - вдруг озадачил меня редактор.
-
Да нет. Сухо пока.
-
А что - вы уже пообедали или нет еще?
-
Уже пообедал, - соврал я.
-
Ну, тогда я сразу к делу перейду. - Редактор глухо покашлял в кулак. Кулак у него
был рябой и мосластый. - Ваши материалы нам всем понравились. У вас есть
способности. Хотя со стихом вы, конечно, дали промашку. Какая-то там Самари. Ну
куда это пристегнуть? Как говорится, не пришей к штанам рукав. Самари. Жанна к
тому же. М-да.
Лида
хихикнула. А у меня задрожали поджилки.
-
Ну ничего, случается. Причем даже и не такое! - редактор поднял назидательно
указательный палец. - Так что все это, как говорится, дым и пепел. В общем,
предлагаем вам должность второго корреспондента. С ОГТ, парткомом и кадрами мы
все утрясем. Обещаю. Остается только одно - получить ваше согласие.
-
Я согласен, - сказал я.
-
Во как шустро! И даже про зарплату ничего не спросили! А вдруг с понижением?
-
А что, правда, с понижением? Но я все равно согласен.
-
Да нет. Пошутил я. Рубликов пять-десять накинем. И еще премии будут. Почаще,
чем в ОГТ. Значит, запускаем бюрократическую машину?
-
И когда я смогу к вам переехать? - спросил я вместо ответа.
-
Недели через две, через три.
Я
испугался, что за это время непременно что-то сломается, и в газету меня не
возьмут.
-
А давайте я прямо сейчас заявление напишу. А вы подпишете.
-
Не стоит, - махнул рукой Зятько. - Всему свое время. Да не волнуйтесь вы так.
Газета не волк, в лес не убежит. Хе-хе-хе.
Лида
засмеялась, а я от волнения даже не улыбнулся.
«Убежит,
еще как убежит!» - хотелось мне крикнуть редактору.
И
тут я заметил, что за его спиной висит черно-белый портрет Дзержинского.
Каноничный такой. В фуражечке и с бородкой.
Зятько
понял, куда я смотрю.
-
На Дзержинского зря удивляетесь. Тут никаких кэгэбэшных намеков нет. Мы люди
вольные и либеральные. Правда, Лидунчик?
Лида
состроила озадаченную гримасу. Видно, не понимала, к чему Зятько клонит. Или не понимала слово «либеральный».
-
Александр, вы читали Дзержинского? Ну, хотя бы его полемические статьи об
искусстве и литературе.
-
Нет. Вообще ничего не читал, - ответил я честно, хотя понимал чреватость такого
ответа. Но куда, с другой стороны денешься? Ведь запросто на вранье поймает, и
тогда мне совсем уж труба пистолетом.
-
А вот у меня дома есть трехтомник Дзержинского, - напористо или даже как-то
задиристо начал редактор. - Практически
полное собрание сочинений. Писал Феликс Эдмундович мощно и глубоко. Я его
полемические статьи регулярно штудирую. Куда там до него
Белинскому-Писемскому-Луначарскому! А вот как-то на третий план оттеснили! Почему? Непонятно! Я как-нибудь принесу вам
первый том со статьей «Нужен ли нам красный террор в искусстве?» Почитаете - и
все сразу поймете. Как, принести?
-
Принести, конечно! - заторопился я. - Обязательно!
Лида
вдруг снова схватила «Комсомольскую правду» и утонула в ней с головой.
-
А что это у вас из кармана куртки за книжка торчит? Можно поинтересоваться?
-
Можно, конечно.
Я
вытащил из кармана дутой стеганки потрепанный «пейпербэк».
Редактор
нацепил на нос очки и стал исследовать обложку.
-
Инглиш! «Сепаратэ реалити». Карлос Кастанеда. Что это - мистика? Или
религиозное мракобесие?
-
Да нет, что вы. Это этнографическое исследование. С элементами индейского
фольклора.
-
А почему у человека вместо головы светящийся шар?
-
Это образ. Образ освобожденного сознания.
-
А вон там на заднем фоне мужичок в воздухе парит - это как?
-
Это индеец в сомбреро. И в воздухе он не висит. Это просто иллюстративный образ.
Обложка должна быть оригинальной и броской. На Западе, конечно.
- М-да. На Западе. А книга-то без душка? Прямо
скажите, не бойтесь. Вот где вы ее достали?
На
меня смотрели две пары прищуренно-подозрительных глаз - Зятько и Дзержинского.
-
В «Доме книги» купил, - соврал я. - В отделе английской и американской
литературы. Правда, дорого дерут. Пять рублей штука.
-
Ладно. Мы, марксисты, фольклора и мистики не боимся.
Редактор
наугад открыл книгу, полистал равнодушно и вернул мне обратно.
-
Значит, по-английски кумекаем?
-
Ну да.
-
Это хорошо. В плане общей эрудиции. - А как, интересно, по-английски будет
«домкрат»?
Я
заерзал на шатком, скрипучем стуле.
-
Ммм... Сейчас вспомню. Ой, нет. Что-то не всплывает в памяти.
-
А как будет «сорока»? Или, например, «дырокол»?
Тут
я совсем растерялся. Я никак не мог вспомнить, как будет по-английски «сорока»
и, тем более, «дырокол». Мне оставалось
только одно: ерзать на стуле и позорно молчать. Мне было стыдно втройне: перед
Лидой, Зятько и Дзержинским. Мне даже чудилось, что зарывшаяся в газету Лида
втихаря надо мной смеется.
-
Так говорите, что английским владеете? - мрачно усмехнулся редактор. - Ну-ну,
понимаю. Книжку, значит, для форсу в карман. Но чтобы обязательно кончик
торчал. С английским названием и со светящейся головой. Да? Вот, мол, смотрите, какой я герой!
По-английски свободно шпарю! Ну что, Лида? Нужен нам такой корреспондент?
В
дверь дробно постучали.
-
Входите! Здесь все одеты! - крикнул редактор.
В
редакцию втиснулся человечище неуемного роста. Метра за два. Он был не только
высок, но и могуч плечами и животом. От человека пахло лекарствами и
одеколоном.
-
Лида, мое почтение! Славка, привет! -
рыкнул он басом с сильной одышкой. - И вам, молодой человек, доброго дня
и хорошего настроения. Что-то я вас раньше ни разу не видел.
-
А это Саша Новиков, - сказала Лида, уложив газету на стол. У Лиды раскраснелось
лицо, и расплылась тушь на веках. - Наш новый корреспондент. Бронислав
Адольфович, я вас умоляю! Утихомирьте, пожалуйста, Славку! Этот балбес целый
час дурака валяет, над мальчиком издевается!
-
Лидунчик, это не издевательство, а прописка! - мягко парировал человек с седыми
кудрями, сидящий в кресле редактора. - Прописка! Розыгрыш! Это же очень смешно!
Я же видел, как ты газету жевала, чтобы не засмеяться. Каков я пасьянс
разложил, а?!
-
Ребята, я не понял: в чем дело? - громыхнул Бронислав Адольфович.
-
Козинцев сказал Саше, что он главный редактор... - начала Лида.
-
...И провел с кандидатом беседу, - подхватил Козинцев. - А зачем время терять,
если Александр Иваныч задерживается? Правильно, Бронислав Адольфович?
-
А, уловил! Это как в одном старом фильме... не помню название, - сказал
Бронислав Адольфович. - Там полотер себя за писателя выдавал.
-
А вот не надо меня с полотером сравнивать! - рассердился Слава, то ли всерьез,
то ли в продолжение игры. - Я опытный и единственный в своем роде внешкор! И
член Союза журналистов! Билет показать? Он у меня всегда при себе, в заднем
кармане кальсон - чтоб не украли. Показать?
-
Слава, спокуха, - подмигнул ему Бронислав Адольфович. - Полотер полотеру -
рознь. Я знаю одного полотера, который работает в МИДе. Так он получает раз в
десять больше, чем мы. А советники с
послами его на «вы» величают. Кстати, вспомнил похожую, ужасно смешную историю
из собственной жизни. Если хотите, могу рассказать...
Позже
я узнал, что Бронислав Адольфович
Плавский был нашим соседом и работал начальником отдела технического
снабжения в трех комнатах от нашей редакции. Плавский всегда пребывал в приподнятом
настроении, хотя был трезвенником по причине слабого сердца, и, несмотря на
земляничные россыпи псориаза на щеках и курносом носу, очень нравился женщинам.
Наверное, потому что неизменно был с ними учтив и уступчив. А еще он любил
одаривать женщин маленькими, казалось бы, совсем пустячными презентами.
Конфетами «Белочка», «Петушок-золотой гребешок», «Южная ночь», «Раковая шейка»,
шоколадками за двадцать копеек.
-
Вот вы думаете, что все эти конфетки-бараночки - чепуха, - говорил он мне и
Пиманову. - Но поверьте старому блядуну. Женщины на такие крючочки лучше всего
клюют. Тут только рыбацкое терпение нужно иметь. А я с детства рыбачить
люблю!
Кроме
того, Плавский был редким рассказчиком и балагуром. Из него просто сыпались,
как мука из рваного мешка, байки о собственной жизни, при этом он всегда уверял, что ни словечка не привирает.
Однажды
он рассказал мне такую историю.
Когда
началась война, его отца, Адольфа Иосифовича, вызвали, вопреки ожиданиям, не в
районный военкомат, а в одну нешуточную контору, где с ним долго беседовал
нудный, когтистый майор. Биография Адольфа Иосифовича была безупречной, но
майор все цеплялся за какие-то мелкие заусенцы. В конце концов майор вздохнул и
сказал: «Ну ладно. Все бы хорошо, да только вот имя вас подвело. Адольф.
Нехорошее, антисоветское имя!» - «Зато
отчество очень даже советское! Верно, товарищ майор?» - не растерялся отец.
-
Не обижаешься на меня? - сказал мне
Слава Козинцев, хлопая меня по плечу. - А что за Кастанеда такой?
Никогда не слышал. Расскажи!
-
Да долго рассказывать.
-
Саша, вы на Славку не обижайтесь, - сказала Лида. - На него иногда и не такое
находит. А так он у нас безобидный и очень добрый.
-
Я те покажу безобидный! - Слава показал Лиде веснушчатый кулак. - Я свирепый и
злобный. Как оскорбленный верблюд.
Слава
не очень внятно произнес букву «р» в эпитете «оскорбленный», отчего его реплика резко прибавила в ироничности и
остроте.
Козинцев
был и в правду похож на верблюда. И, видимо, знал об этом. А, возможно, втайне этим гордился. Чему вскоре нашлось
косвенное подтверждение. Как-то раз - я тогда уже работал в газете на законных
правах - Люда запустила мне ковриком-самолетом новый номер «Луча».
-
Почитай вторую страницу. Там очередной Славкин шедевр.
Я
перехватил листик в воздухе и пришлепнул к столу. Перевернул на вторую
страницу.
На
крючок названия рубрики «Литературный четверг» был подвешен столбик в три
строчки:
Вячеслав Козинцев
ЦИРК ПРИЕХАЛ
(Рассказ)
Далее,
разумеется, следовал текст, набранный нонпарелью по причине избыточного
объема.
Зятько
с Варварой в редакции не было. Зятько, как обычно, общался с цеховыми друзьями,
а Варвара сидела на бюллетене. Поэтому я до конца насладился вдохновенным
делирием Славы.
Рассказ
начисто выпадал из формата советской галиматьи, поскольку представлял собой
галиматью антисоветскую. Я не мог понять, как такое могло пройти сквозь
Зятько, партком, райком и районную типографию. Видно, недооценивал глубин
похренизма советских чиновников. Или им всем нонпарель подножку поставила?
Это
было некое подобие оруэлловской притчи о скотном дворе. В усеченном, но разнузданном виде. Цирковые
животные там разговаривали человеческими голосами, ругались, ссорились и даже
дрались с дрессировщиками и униформистами, а также покуривали тайком «Яву» и
«Беломор», пили жигулевское и московское пиво, которое воровали в буфете. В
директоре шапито я сразу угадал директора «Светосилы», в его заместителе -
главного инженера завода, в дрессировщиках - начальников разных весовых
категорий, включая технолога Розенблидта, в слоне - Бронислава Адольфовича, а в
язвительном и мудром верблюде - самого Славу Козинцева. Рассказ завершался тем, что во время
парада-алле звери учинили погром и под водительством слона и верблюда стали
крушить трибуны, топтать, кусать и рвать в клочья публику и цирковую
администрацию. А чтобы никто не мог избежать расправы, верблюд приказал
носорогам закупорить все входы и выходы. Горилла по кличке Герасим
(командиром заводского оперотряда по
борьбе с малолетней преступностью и нарушителями трудовой дисциплины был Гера
Герасимов) вырвала главный опорный
столб, на котором держался шатер, и цирк-шапито упал на кровавое месиво
из людей и зверей. В общем, Слава даже не революцию показал, а какой-то
пенджабский бунт, кровавый и беспощадный. Хотя сам он так говорил:
-
Я там просто начальника своего слегка пропесочил. За то что он меня летом в
отпуск не отпустил. А остальные просто под руку подвернулись.
Это
номер газеты я унес домой и время от времени рассказ перечитывал.
-
Вячеслав... как вас по отчеству? - встал я со стула.
-
Что, все-таки обиделся? Ну и зря! - сказал Козинцев, отступая к двери и напирая
спиной на Бронислава Адольфовича.
-
Да нет. Не обиделся. И все же, Вячеслав... как ваше отчество?
-
Да какое отчество! Зови меня просто Слава. Вон, у славы КПСС - и то никакого
отчества нет. И давай сразу на «ты». Я выканья терпеть не могу. Хотя
приходится, черт подери, выкать перед высоким начальством. Да вот и с тобой
тоже повыкать пришлось.
-
Слава, я просто хотел спросить: ты зачем Дзержинского на стенку повесил? Для
драматизма?
-
Я? Ты чего? Не вешал я Дзержинского! Зачем мне на душу такой грех
принимать? Гы-ы-ы. Это первый отдел
постарался. Здесь раньше режимники обитали. Черт-те уж знает с каких пор. Наверное, со времен Ивана
Грозного. А лет десять назад они отсюда слиняли.
-
Слава! Что-то с памятью твоей стало! - возмутилась Лида. - Да это всего три
года назад было! В семьдесят третьем. Первый отдел в главный корпус перевели,
поближе к кадрам. А нас сюда поселили.
-
Точно! Вот ведь, действительно, не мемория, а авоська! - Козинцев подошел к
портрету Дзержинского и щелкнул чекиста по носу пальцем.
-
Славка, ты чего? - ахнула Лида. - Это же кощунство!
-
Помню, мы все вместе эту комнату в порядок приводили, - сказал Слава. -
Столько, пардон, говна из шкафов и ящиков повыгребли. А на стене только портрет
Дзержинского висел. Остальных вождей режимники увели. От них только пятна на
обоях светились. А Феликса почему-то оставили. Наверное, решили нового себе
купить. Цветного. Я было полез его снимать, а Леня Французов и говорит:
«Ребята, а давайте Дзержинского оставим. Пусть он за дисциплиной следит. А то
совсем разболтаемся!» Просекли, каламбур? - подмигнул сразу всем Вячеслав. -
Про «совсем разболтаемся»? А? И потом,
говорит, все равно ведь заставят кого-то повесить. Гы-ы-ы! Ну, мы и оставили
портрет в покое. Привыкли к нему, полюбили даже. Я заметил, Лидунчик часто на
него засматривается.
-
Дурак ты, Козинцев! - сказала Лида.
Александр
Иванович появился в редакции около двух, когда я должен был уже уходить, и
никаких бесед он со мной, конечно, не проводил. Плюхнулся в кресло, которое
просело под ним, как штангист под рекордным весом, дохнул два раза в крапивный
цветок и спросил меня: согласен ли я перейти в газету?
И
сразу дал мне задание.
-
Что-то давненько мы в транспортный цех не заглядывали, - буркнул Зятько в
крапиву.
-
А что - у нас на заводе есть транспортный цех? - удивился Лидунчик.
Но
редактор будто ее не услышал.
-
Обо всех писали, а про транспортников как-то забыли. А чем они хуже? Тянут
работяги лямку, а о них в газете ни строчки. Непорядок! - топнул Зятько
деревянной ногой. - Да, Саша. Начальнику цеха привет от меня передавай. Зовут
его Константин Ерофеевич. Мы с ним, как
говорится, ребята с одного двора.
Миссия
мне показалась простой. Нужно было сходить в транспортный цех, взять у
начальника цеха список передовиков и сделать об одном из ударников зарисовку,
зацепив, по возможности, модную тему бригадного подряда.
Под
это задание Пиманов отпросил меня в ОГТ на два дня. Такие вопросы Володя решал гораздо лучше грозного и
прямолинейного Александра Ивановича.
Транспортный
цех находился на северных заводских окраинах. Там, где начинались трущобы: расхлебанные сарайчики и саркофаги, гнилые
контейнеры, овражки с битым стеклом, вигвамы из ржавого листового железа, трава
и кусты из проволоки, курганы древнего хлама, солярные реки с мазутными
берегами.
Трущобы
быстро сходили на нет, превращаясь в бурую прерию с лепешками грязного снега,
асфальтовыми тропинками без конца и начала и торчащими там и сям
изуверскими ржавыми артефактами, меж
которых бродили какие-то серые призраки. Наверное, сталкеры.
«Вот
где место силы нужно искать!» - подумалось мне.
Транспортный
цех был заложен и возведен в самом центре этого малоизученного ареала. Он
представлял собой длинную крытую шифером металлическую платформу, рассеченную
посередине кинжалом узкоколейки. Узкоколейка бежала дальше на север и упиралась
в сварные ворота из заостренных трехгранных брусьев. Бетонные стены,
примыкавшие к воротам с обеих сторон, были щедро увиты венками колючей
проволоки.
Из
любопытства я заглянул в один из вигвамов, приподняв кусок рубероида.
В
сумраке, при свете керосиновой лампы, два дядьки играли на ящиках в карты.
Одеты дядьки были неброско: в синие робы. Только у одного спецовка была совсем
новой, а у другого - облезлой и в дырах, сквозь которые полыхало разноцветное тело.
-
Извините, вы не подскажете, где мне найти начальника транспортного цеха?
-
Давай, чувак, сгоняем в буру, а потом мы тебе все расскажем.
-
Я вообще-то спешу.
-
Все мы спешим, причем по одной и той же дороге, - успокоил облезлый. - Мы
только три кона смусолим. И все.
-
Ладно, - присел я на ящик.
-
Только мы на интерес играем. По двадцать копеек за кон, - добавил дядька в
новом халате.
Через
десять минут я проиграл шестьдесят копеек и встал.
-
Мужики, мне пора.
-
Давай еще три конца. Отыграешься!
-
Нет, мне нужно к начальнику вашего цеха. Где его можно найти? Наверное, где-то
в районе платформы?
-
Ладно, давай по пятнадцать копеек два кона.
-
Нет, не могу.
-
А ну пошел, на хер, отсюда, сучоныш! Пока мылку не схолили! - гаркнул дядька в
синей обновке.
-
Мужики, извините!
Я
поспешно ретировался и запетлял между артефактами, избегая луж с жидкой грязью
и капканов из металлической стружки.
Будто
из-под земли, а на самом деле из провала в асфальте, выткалась серая тень.
Сутулый беззубый сталкер в телогрейке, ватных штанах и валенках с галошами.
Судя по выражению плоского, отрешенного
лица, сталкер был неопасный. Да и галоши
его излучали флюиды наивного детства.
-
Простите, товарищ, где мне найти начальника цеха?
Сталкер
молча махнул рукой на шифер платформы.
Я
заметил, что телага у сталкера была застегнута не на пуговицы, а на дюралевые
болты. А вместо ремня была перехвачена
бронзовой цепью и завязана на узелок.
Контора
начальника цеха ютилась на самом краю платформы.
Не
контора, а какая-то собачья конура с мутным одиноким окном и дверцей от старого
гардероба. Я схватился за гардеробную ручку и решительно ее потянул.
Внутри
царил полумрак.
Свет
проникал в помещение лишь из окна. Хотя на маленьком столике в центре каморки
была настольная лампа. Рядом с лампой стояла литровая банка, набитая до отказа
окурками. В каморке было тепло. Из угла гнал прожаренный воздух обогреватель - родной, заводской, марки
«Электросила-2М». Пахло не только окурками, но и чем-то приятным: блинами или
пирожками с капустой. За столом сидел средних лет человек в приличном, опрятном
костюме. Человек мял во рту потухшую папиросу и заполнял авторучкой какие-то
рассыпанные по столу таблицы.
-
Здравствуйте, Константин Ерофеевич!
-
Ты кто? - оторвал начальник глаза от
таблиц.
Глаза
были злые, но проницательные.
-
Я - Александр Новиков. Корреспондент заводской многотиражки.
-
И что теперь? - Начальник щелкнул кнопкой настольной лампы, и в каморке стало
немного светлее. Правда, ее хозяин стал похож на вампира.
-
Зарисовку буду о вас писать. Вернее, о ваших ударниках.
Константин
Ерофеевич озадачил глаза, вытащил изо рта сигарету и запихнул ее в банку.
-
Вы, наверное, дверью ошиблись. Нет у нас передовиков и ударников.
-
Ну, просто о хорошем работнике напишу. О добросовестном и старательном.
-
Да нет у нас добросовестных и старательных работников! Честное слово, нет!
Понимаете, работают все из-под палки, пьют как черти, да еще воруют всё, что ни
попадя. Знаете, я бы весь этот цех, на хрен, вчистую уволил и свежих, молодых
ребят набрал. Да только кто же сюда работать пойдет? Работа потому что
паскудная! Потому что сырая, грязная, вонючая! Малооплачиваемая! Понимаете?!
Вот и весь сказ!
Вампир
оскалил клыки и выпучил злые рачьи глаза.
-
А что мне теперь делать? Мне же нужно что-то про вас написать. Меня только что
в газету взяли. Я даже еще официально не оформлен. Это вроде как проба.
Контрольное испытание.
-
А что - так уж в «Гальюн таймс» неймется?
-
Так уж неймется!
-
Не понимаю.
-
Просто писать люблю.
Константин
Ерофеевич отыскал в банке бычок, которую он только что туда ткнул, нежно его
разгладил и снова засунул в рот. А, может, не тот, а другой. Хотя, какая, в
принципе, разница. Окурок окурку -
смольный товарищ и сводный брат Никодим.
-
А, может, мне с вашим замом поговорить?
-
Нет у меня заместителя!
-
А бригадир?
-
А бригадир у меня - главный алкаш. Зато люди у него хоть как-то работают.
Потому что сидел. Потому что подход к людям знает. А писать про него никак
нельзя. Про таких только старые следователи в своих записках пишут.
-
Константин Ерофеевич! У меня вот какая идея возникла. Давайте, я о вас напишу.
О вашем нелегком труде...
-
Знаете что, молодой человек, идите-ка вы на хер! Что я вам - шут гороховый?!
Где-нибудь в другом месте дурака поищите! Вон цехов вокруг сколько!
Я
понял, что задание было провалено.
Я
представил себе, как говорю редактору: «Александр Иваныч, не написал я ничего.
Нет в транспортном цехе передовиков. Честное слово!» И чуть не заплакал. Не видать мне работы в
«Луче»! Лишь Кастанеда в кармане мурлыкал мне что-то ласково мескалиновое.
-
Совсем забыл, Константин Ерофеевич, - сказал я придавленным голосом. - Вам
привет от Александра Иваныча.
-
От какого Александра Иваныча?
-
Зятько.
-
А-а-а, - вампир вдруг расплылся в улыбке. - Ну да, ну да.
Он
бросил авторучку на россыпь таблиц.
-
Ладно! Вот вам две фамилии. Кротов и Угневенок.
Пишите о них, что хотите.
-
А можно с ними поговорить?
-
Нельзя. Они за территорией шпалы конопатят. По крайней мере, я на это надеюсь.
Да и бесполезно с ними беседовать. Из них слова клещами не вытянешь. Пишите
обычную ахинею. Ну, вы там сами знаете. Я в обиде не буду.
-
А какие у них полные имена?
Начальник
заметно напрягся.
-
Сейчас... Так. Кротов Юрий Сергеевич, тридцатого года рождения, разнорабочий,
беспартийный. Угневенок Степан Николаевич, тридцать первого года рождения,
разнорабочий, беспартийный. Да. Кротов на мандолине немного играет. Не знаю,
пригодится ли вам это. Ну вот и все, вроде.
Я
быстро записал все в блокнотик.
-
Спасибо, Константин Ерофеевич! - потянулся я к ручке двери.
-
Не за что! А как вас, кстати, зовут?
-
Я же говорил. Новиков Александр. Можно просто Саша. И вообще на «ты».
-
Саша, ты... это... больше никогда сюда не приходи. Усек директиву?
-
Усек.
-
Александру Иванычу - привет от меня. Вот с такой вот кисточкой!
Константин
Ерофеевич так страстно раскинул руки, что кончики его пальцев едва не коснулись
стен утлой каморки.
Я
вышел на металлическую платформу.
По
платформе бегала мелкая собачонка с большими, как у овчарки, ушами. Увидев
меня, она вскрикнула, как человек, заметалась, заскользила по скользкому полу и
бросилась под платформу, на рельсы узкоколейки.
На
следующее утро я сидел в редакции за свободным столом и дописывал лживую
зарисовку о неразлучных застрельщиках бригадного подряда. У меня было такое
чувство, будто я рисую фальшивую десятку, чтобы купить на нее фальшивый
проездной билет в фальшивое будущее.
Я
утешал себя тем, что, прочитав репортаж, Кротов и Угневенок постараются
походить на бумажных героев. Ведь самое
малое, что мы можем сделать для окружающих нас людей, - это постараться их
изменить. При этом я гнал от себя
циничную мысль, что герои, возможно, и читать не умеют.
Многое
я просто передирал из старых подшивок - почти все статейки «Луча» были
напичканы штампами и затисканными оборотами. Правда, позднее Лида хвалила меня
за то, что я оживил газету и что ей меня интересно печатать в отличие от
лепешек Варвары. Я и верно, умудрялся втискивать в серые, лживые информашки
какие-то бойкие образы и словечки, которые, как ни странно, не только не
выпирали из текстов, но даже наоборот, придавали им шарм: так купленный в ГУМе
флакон французских духов на время дарил сверловщицам и крановщицам загадочную
романтичность. Но вот мой первый «транспортный» опыт вышел уверенно дохлым на двести
процентов.
Кроме
меня в редакции не было ни души. Редактор отсутствовал по известным причинам,
Варвара продолжала лелеять сосудистую дистонию, а у Лиды заболела маленькая
дочка.
Нелепо
отклянчившись в кресле и высунув набок язык, я мостил булыжниками клише дорогу
в свободный от рабства мир. Оказывается, булыжник - оружие не только
пролетариата.
«...Юрий
ловко подставлял один за другим поддоны, а Степан, уверенно оседлав автокар,
бережно ставил на них контейнеры, которые он потом вывозил из пасти вагона. За
два часа весь вагон разгрузили! Начальник цеха подошел и присвистнул: «Ай, да
молодцы! Двойную норму отгрохали! Вот что значит бригадный подряд!" А
ребята только пот со лба утирали...»
Или
лучше – «со лбов»? На этом месте я запнулся и стал машинально рисовать на
обрывке бумаги саблезубых волков с
раскосыми глазами. Такое занятие мне всегда помогало думать.
Дверь
в редакцию мягко открылась, и в комнату по-кошачьи бесшумно проникло ароматное
существо в красном коротком платье и с густо накрашенными губами. От смолистых,
туго прибранных волос существа, от его с поволокой блестящих глаз так и
искрило сексуальной энергией и свободой.
Существо
промелькнуло мимо меня и присело на гостевой Лидин стул. Я поспешно спрятал
язык, принял приличную позу и с опаской скосил глаза вправо.
На
краешке стула сидела гигантская красная бабочка с хищным, но безумно красивым
рисунком на крыльях.
-
Ты меня не бойся, - сказала бабочка. - Я - Катя. Меня здесь все знают. Я к Лиде пришла.
-
А ее сегодня не будет. У нее дочка заболела.
-
Странно. Она мне ничего не говорила. - Катя выдернула из каретки машинки листок
и стала его читать. - Ха-ха! Пиманов в своем репертуаре!
-
Лиде из садика позвонили, и редактор ее отпустил.
-
А Александр Иваныч, наверное, в 5-м цеху интервью у нормировщицы берет? Или она
у него?
Я
пожал плечами и сделал вид, что пишу.
-
А ты - Саша? Новый корреспондент? Мне Лида про тебя рассказывала.
-
Ну, я пока неофициально здесь сижу. Подснежником. А числюсь в ОГТ. Может, еще и
не возьмут.
-
Возьмут-возьмут. Я тебе говорю.
Я
еще не решил, как мне держать себя с Катей. Стоит ли мне поступить точно так
же, как и она, и тоже начать ей
«тыкать».
-
Слушай, по-моему, я тебя где-то видела.
-
Наверное, в нашей столовой.
-
Как романтически все сложилось, - сказала Катя и игриво мне подмигнула. -
Значит, мы с тобой здесь одни?
«Дешевая
провокация или наколка», - подумал я.
-
Пиманов с Надеждой напротив сидят.
-
А! - махнула Катя рукой. - Я к ним заглядывала. У них вообще дверь закрыта.
-
Катя, мне нужно срочно материал дописать. Совсем немного осталось.
-
А все равно Лиды нет. Кто печатать-то будет?
Катя
обольстительно мне улыбнулась.
-
А можно я покурю?
-
Вообще-то здесь не курят.
-
Да ничего. Я в форточку.
Катя
достала из сумочки зажигалку и тонкую, как соломинка, американскую сигаретку.
Затем вскарабкалась на подоконник и открыла форточку. Пыхнула пару раз наружу
вкусным дымком.
Катино
платье вызывающе натянулось-приподнялось, и я вовсю таращил глаза на то, что было
под ним. Катя неожиданно повернулась и поймала мой взгляд. Наверняка, это была
домашняя заготовка.
-
Что, нравлюсь?
Я
промолчал.
-
Нравлюсь-нравлюсь. Я всем нравлюсь.
Я
опять промолчал, выдавливая на бумагу какую-то белиберду.
-
Вот я тебе только подмигну, и ты за мной побежишь, как собачка.
-
Куда побегу?
-
Куда-куда! Сам знаешь, куда!
Катя
выбросила сигарету в форточку, спрыгнула с подоконника и уселась на край моего
стала, скрестив ножки в красных туфельках и черных узорных колготках.
Уставилась на меня, прищурив глаза и картинно закинув голову. Ну прямо сцена из
голливудского фильма.
-
Не побегу, - сказал я, рисуя ушастых волков на бумажке.
На
самом деле мне жутко хотелось схватить ее за хоботок, затащить в
темный-претемный угол и выбить, как из ковра, всю пыльцу с ее бархатных крыл.
-
Ай-яй-яй! Куда смотрим! - усмехнулась Катя.
Дверь
в редакцию резко открылась, и в комнате появился Александр Иванович Зятько.
Редактор был, по обыкновению, хмур и багров.
Катя
сбросила попу с края стола на стул, уронив попутно пару блокнотов и книг, и бодро сказала:
-
Здравствуйте, Александр Иваныч! Я тут к Лиде зашла, да с вашим новым
сотрудником заболталась.
-
Катя, марш отсюда! - сказал редактор, топнув деревянной ногой.
-
А я вот Сашу в курс дела ввожу, рассказываю о коллективе. О вас, между прочим,
тоже. Как вы два ордена на войне получили. И как вам ногу танк переехал.
-
Катя, я сказал, марш отсюда! - дохнул редактор на всю комнату кислым техническим спиртом.
-
Не надо со мной так, Александр Иваныч! Я ведь тоже могу достойно ответить!
Хотите?
-
Ладно, иди-иди.
-
Нет, Александр Иваныч, теперь уж просите прощения! За хамство!
Зятько
достучал до редакторского стола и с облегчением плюхнулся в кресло.
-
Прости, Катя! - буркнул он, зарывшись лицом в оконный цветок.
Катя
молча вскочила со стула и треснула дверью.
По
коридору нервно зацокали ее каблучки.
-
Проблядушка, - подвел итог Зятько.
Я
промолчал. Хотел было спросить его, почему он так грубо отозвался о Кате, но
передумал. Мне показались странно надрывными его отношения с Катей.
Родственники они, что ли? Или Катя в каком-то особом месте работает? Ничего непонятно.
«Ладно,
у Лиды все завтра узнаю», - придумал я выход.
-
Саша, с транспортным цехом как?
-
Заканчиваю уже.
-
Дай-ка сюда.
Я
протянул редактору листок.
- А это что еще за звери такие? - сказал он.
-
Ой! Это я листок перепутал! Вот, возьмите.
Редактор
долго читал заметку. С тяжелой, в хриплых дырках одышкой. Вернул листок мне.
Я
с опаской смотрел на Зятько. Потому что не знал: ладно ли вымостил путь к
избавленью?
-
А что? Неплохо пошумел, - сказал Александр Иванович. - Хвалю. Есть, есть
журналистская хватка! Давай закругляй и Лиде на стол клади. А потом на обед
шуруй. Проголодался, небось?
Стеклянная
пятиэтажка столовой примыкала к главному корпусу. Идти до нее было не близко и
не далеко. Минут эдак десять. Кормили в столовой неплохо. Готовили даже котлеты
по-киевски. За восемьдесят копеек там можно было сытно поесть. А за рубль -
нажраться от пуза.
В
раздевалке на первом этаже я встретил Вадика, с которым работал у Татьяны
Петровны Балан. Вадик был похож на доброго огра с косматой до плеч
шевелюрой. Вадика жалел весь отдел. Он
три раза неудачно поступал в МГИМО, причем на третий раз крупно сорвался. Его
свинтило острое нервное истощение. С тех пор он ежедневно глотал какие-то капсулы и не по дням, а по минутам
толстел. И превратился в добродушного великана. Ему только дубины за плечом не
хватало. Хотя зачем его доброй душе дубина?
В
очереди на раздаче мы чуть не столкнулся лбами с Володькой Шумилиным -
секретарем заводского комитета ВЛКСМ. Мы
с ним дружили на почве музыкального экстремизма и заводской дискотеки, в
которой я исполнял роль диск-жокея.
Не
успел я перекинуться с ним парой фраз, как увидел чуть дальше, почти у самой
кассы, хрупкую девушку в темно-зеленом облегающем платье. Она стояла ко мне
вполоборота, поэтому я мог ее хорошо рассмотреть.
Девушка
не была из породы красавиц. Скорее, ее можно было назвать посредственно милой.
Узковатые бедра, невысокая грудь, смазливое личико, но какое-то лисье и слишком
скуластое. Странным образом она походила на Криса Нормана в женском обличье. Но
было в ней что-то магически-гипнотическое. Особо ее выделяли гимнастическая
осанка и большие темно-зеленые глаза с изумрудным подсветом. А меня всю дорогу
тянуло к девушкам с зелеными или болотного цвета глазами. Наверное, из-за
пристрастия к Брэдбери, Толкиену и Бажову.
-
Ты на кого там пялишься? - толкнул меня в бок Шумилин. - А-а-а! Это Марина Филаткина. Из ОКБ. Только недавно
пришла. Я ее на учет ставил. Симпатичная, серьезная девушка. Хочешь,
познакомлю?
Через
десять минут мы сидели за одним столиком.
Деликатный
Шумилин проглотил обед, как удав, и оставил меня наедине с Мариной. Мерно орудуя вилкой, я ухитрялся
поддерживать на плаву учтивую беседу. К несчастью, дальше учтивости дело не
двигалось. Кроме того, я некстати надел в этот день вместо рэнглеровского
куртяка дерюжный финский отстой, у
которого пуговички гремели, как шутовские бубенчики. Я и без того с девицами не
ахти как обращаться умел, а тут и вовсе болваном себе казался.
-
Марина, а вы живопись любите?
-
Люблю.
-
А Илью Глазунова?
-
Тоже люблю. Но не все. Мне нравится его графика, особенно иллюстрации к
Достоевскому.
-
А хотите, я вас к Глазунову в мастерскую проведу. Он там эпохальное полотно
пишет. Мистерия двадцатого века. Посмотрите, как он работает.
-
Нет, спасибо. Мне кажется, что это не очень прилично. Все равно, что
подсматривать за человеком, который одевается.
-
А хотите на Малую Грузинскую сходить? На выставку художников-авангардистов?
-
А кто там выставляется?
-
Очень интересные люди. Сюрреалисты, к примеру.
-
Я сюрреализм не люблю.
-
А Дали?
-
И Дали не люблю. Он эпатажен и патологичен.
М-да.
Сложный и капризный мне достался объект.
-
А читать вы любите?
-
Люблю, конечно.
-
А читали «Улику на склоне» Стругацких?
-
Нет.
-
Хотите, принесу? Только в машинописном виде. Зато у меня - четкий второй экземпляр. И сразу обе части.
-
Нет, не надо. У меня времени сейчас мало.
-
А на английском, случайно, не читаете?
-
Увы.
-
Жаль. А то у меня есть просто уникальные книги.
Я
думал, что сейчас Марина обязательно спросит: «А вы что - на английском
читаете?» Но она ничего не спросила. «Вот ведь, цаца какая!» - разозлился я на
чопорную герлу, но виду не подал.
-
А хотите, на какой-нибудь сейшэн сходим? С музыкантами вас познакомлю. Белова
знаете? А Рацкевича?
-
Саша, извините, но у меня, честно, сейчас совсем нет времени. Я в институт
готовлюсь.
-
Так экзамены только летом будут.
-
Готовь сани летом, а телегу зимой, - улыбнулась Марина.
Так
я ничего из этого рандеву и не выжал.
Зато
влюбился в Марину по уши. Несмотря на ее гордыню и чванство. Любовь наполнила
меня до краев, и я ощущал себя чашкой со жгучим экспрессо. Видно, втайне от собственного
сознания давно ждал подобной встречи. Оттого и полыхнул как солома. О траурной
бабочке я и думать забыл. Топал с обеда и ощущал, как сквозь пуховку клубится
финский коттон.
После
обеда под напором высоких чувств я рисовал саблезубых волков и строчил
лирический стих.
А
вечером с гордостью показал стих старшему брату.
Брат
прочитал стихотворение и уклончиво сказал:
-
Ты знаешь, я сейчас Мандельштама читаю.
-
Ну и что? Не вижу связи. Как тебе мой стих?
-
Да фигня. Если честно.
-
Как это фигня?! - возмутился я. - Отличное стихотворение! А если критикуешь, то
обоснуй позицию!
-
Ладно, сейчас обосную. Ну вот, что это такое: «Прощай, неудачное лето!
Прощай, изнурительный зной! Устав от счастливых билетов, Я нынче купил
проездной». Ну скажи: какое лето?
какой зной? Ведь только-только весна начинается!
-
Да причем здесь весна или лето? Это же все поэтические условности! Стихи, как и
чувства, сезонам неподвластны!
-
Ну, а вот эти фальшивые красивости: «Пером расписного павлина я лету слегка
подмигнул...» Неужели тебе самому
это нравится?
-
Нравится! - искренне сказал я.
-
Ну, я не знаю! Помнишь, ты в школе на День победы поэму о войне накатал?
-
Ой, да забыл уже. Это же заказуха была.
-
А я помню. Вот, к примеру, там такие строки были: «Фашисты - душою калеки,
но телом холеным сильны. Не знала Россия вовеки такой беспощадной войны».
-
Ну и что?
-
А то, что про фашистов у тебя гораздо выразительней получилось. В общем, пиши
лучше на военно-патриотические темы.
-
Дурак ты, братец, хоть и Мандельштама читаешь!
-
Сам дурак! - отбрехнулся брат.
А
через пять минут мы играли с ним в шахматы.
-
Да! - сказал брат, делая длинную рокировку. - Ты же сегодня первый день в
редакции работал.
-
Ага.
-
Ну и как? Написал что-нибудь?
-
Написал. Зарисовку.
-
Про что?
-
Про то, что булыжник - это не только орудие пролетариата.
5 февраля 2009 года,
Женева.
Поэзия.
Григорий Певцов
__________________________________________________________________
Григорий
Певцов
ПРОШЛОЕ
СТРАСТНО ГЛЯДИТСЯ В ГРЯДУЩЕЕ...
В
августе 2008 года я побывал на творческом вечере московского поэта Григория
Певцова, с которым был уже неслучайно знаком. Прошлой осенью он подарил мне
свою книгу «Над бездной мгновенья». На современном литературном фоне стихи
Григория Певцова звучат необычно. Они напомнили поэтов первой русской
эмиграции, для которых, как и для Григория Дмитриевича Певцова, кумиром был
Александр Блок. Меня лично особенно тронули, кроме мастерства, сама тональность
его стихов и внутреннее родство с Константином Бальмонтом. Поэт также нередко
исполняет песни Александра Вертинского и тем самым воссоздает своим мастерством
и интонациями неповторимую завораживающую атмосферу той эпохи –
эмигрантского безвременья. Я видел, как
высоко это оценивают слушатели.
В
контексте сегодняшней русской поэзии Григорий Певцов не стремится во что бы то
ни стало вписаться в модные «современные течения». Например, в популярный в
определенной среде концептуализм, который, судя по всему, ему глубоко чужд, так
как поэт продолжает традиции Серебряного века, символизма и акмеизма.
Константин Бальмонт, Александр Блок – вот его стихия и истоки. Пусть иные
подумают, что это – пассеизм, пройденный этап, но, смею заверить, - то, что
близко Григорию Певцову, - дорого не только ему одному. При этом у поэта свой
неповторимый голос, которым он выражает свое отношение к нашему времени и к
русской поэзии ХХ века.
Ренэ ГЕРРА,
профессор-славист,
доктор филологических наук, почетный
член Российской Академии Художеств, заведующий кафедрой русской литературы
Государственного университета в Ницце (Франция)
БЛОКОВСКИЙ
КОНТРАПУНКТ
Памяти героев I
мировой войны
Больши
сея любве никтоже имать, да кто
душу
свою положит за други своя.
Евангелие от Иоанна
Вот Он – Христос – на златой иконе
В
скорбном мраке грядущих дней.
На
обагренном кровью престоле
Царь
последний земли моей.
В
его улыбке – холод заката
И
бирюза васильковых полей,
Где
в каждом колосе Русь распята,
Которой
не станет уже больней.
В
его глазах – даль синего неба
И
нив российских златое дно.
Убогий художник
создал небо,
Но Лик и синее небо –
одно.
Перед
иконой погасшие свечи
Близ
аналоя у Царских врат.
В
многоголосом стоне наречий
Стенания,
муки и кровь солдат.
В
многоголосом гуле наречий
Хрупкий
корабль последних надежд.
В
неутихающем реве картечей
Вечное
небо сомкнутых вежд.
Скорбь...
Офицер над бездной мгновенья
Застыл
под аркой у Царских Врат.
Китель,
стянутый портупеей,
Сковали
немые кресты наград.
Его
лицо – спокойная твердость
И
горечь, выпитая до дна.
В
его глазах – смешливая гордость:
Еще
мгновенье, и жизнь – игра.
Сестер
и раненых караваны,
В
память усопших кадит иерей.
Скорбящим
в муках врачуют раны
Бинты
и лапник походных церквей.
Гудят
повсюду злые вопросы
Тлей,
разъедающих большевиков.
Мотоциклетных
кентавров осы,
Черепашьи
панцири броневиков,
Монстров-орудий
шальная опека,
Аэропланов
бесшумный лет,
Крыл
ястребиных страшного века
Жуткий,
звенящий, мгновенный полет.
И
от судьбы орлиного ока
Спрятаться,
скрыться, уйти нельзя,
И
не постигнешь страшного рока,
Пока не станешь сам
как стезя ...
Пока такой же нищий
не будешь,
Не ляжешь, истоптан,
в глухой овраг,
Обо всем не забудешь,
и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как
мертвый злак.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В
«Блоковском контрапункте» курсивом выделены слова из стихотворения А. Блока
«Вот Он – Христос – в цепях и розах…», к которому и написан (по аналогии с
музыкальной формой) поэтический контрапункт.
ПАМЯТИ
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО
Живую
душу укачала,
Русь,
на своих просторах ты…
А. Блок
Ты
помнишь тот плетень,
Там,
на краю дороги,
Сухие
комья глины в колеях?
Дорога
та ведет за косогорье.
Ну,
вспомни – подорожник на камнях.
Мы
молча шли, влекомые тоскою,
По
стороне забытой и родной.
Нам
встретился старик – неведомое море
В
его глазах и мудрости покой.
Я
пристальней вгляделся в паутину
Его
морщин – невспаханных полей.
Ты
жадно шел вперед...
Тенистый
куст лещины нам обещал приют
В
шатре своих ветвей.
Нас
ждали впереди неведомые села,
Забытых
храмов выцветший асбест,
Глаза
мальчишек русых и веселых
И
издали растущий благовест.
Там
кочевали разные народы,
И
гордый финн, и вятич, и норманн,
И
Спасов лик на знаменах свободы.
Его
постиг бездонный Феофан.
......................................................
Зачем,
поведай мне иноплеменник,
Мы
родились в краю кровавых зорь?
Зачем
по вечерам душистый подмаренник
Пьянит,
вдыхая в нас тоску и боль?
Зачем
же, ненавидя всей душою
Самих
себя, клонились мы главой
Под
тетивой татарскою тугою,
Под
чужеземной алчущей ордой?
Зачем
славянских девушек в соломе
Любили
мы, не ведая стыда,
И
хрусталем березовых раздолий
Звенела
уходящая вода?
Уж
нет ее, и ты ушел далеко –
Навстречу
звездным и чужим ветрам,
Меня
оставив слушать одиноко
Встающий
по весне грачиный гам.
Здесь
все еще страдает и рыдает,
Живет
земля, сожженная дотла.
Ты
отдохни, –
зеленоглазый
русый мальчик
смеется
и
звонит
в
твои
колокола
...
***
Где
тот глагол, что некогда Адаму
Был
послан свыше Господом самим?
Я
на пути к неведомому храму,
Иду
к твердыням древним и немым.
Где
некогда вознесся дивный город,
Вобравший
все величие Земли,
Там
ныне лишь пустыни веет холод,
Лишь
тлен и прах приют свой обрели.
Вотще
ты ищешь, путник запоздалый,
Следов
его величья прежних дней.
Увы,
на месте башни величавой
Лишь
жалкие развалины камней.
Вспять
не вернуть рассеянных народов,
Не
станет плотью древний их язык.
Безумством
не достичь надмерных сводов.
Нет,
дерзкий раб не узрит Божий Лик.
Лишь
Богом вдохновенные поэты,
Храня
в душе Вселенной первый крик,
В
следах наречья, канувшего в лету,
В
ночи послышат вещий праязык.
***
Той
тропой Гефсиманского сада
Ты
ушел, покорившись судьбе,
И
лежал от Вселенского града
Скорбный
путь, нареченный Тебе.
Уходил
золотой колоннадой,
Средь
свечей пред крестом в глубине
Твое
сердце горело лампадой,
Хоры
славили Имя Твое.
Обагрилось
пречистою кровью
Вознесенное
Древо Креста.
Преломилась
нездешней любовью
Складка
мук, что сомкнула уста.
В
руце чистые душу живую
Ты
Небесного отдал Царя.
Но
разбудит ли душу иную
Над
пустыней Твой глас, вопия?
БЛАГОВЕЩАНИЕ
Весть
небес радость утра умножит.
Тихо
вздрогнет рука на плече.
Белокрылый
архангел положит
Ветвь
весны в золотистом луче.
В
светлой келье растет незабудка.
Там
прольется дыханье весны.
Тихо
кроткая сядет голубка,
Потекут
несказанные сны...
Белых
лилий ничто не встревожит.
В
нежном шепоте тайных речей
Кто-то
легкие крылия сложит,
Узрит
свет небывалых очей.
***
На
полях чуть заметные тени легли
Позолотой
вечернего солнца.
Я
смотрю с вышины... В золотистом окладе зари
Там
Твое голубое оконце.
Далеко-далеко,
за чертогом осенних лесов
Ты
смежила усталые вежды...
В
небе слышится хор журавлиных псалмов,
Бьется
криком последней надежды.
На
безбрежных просторах, в осенних долах
Разметались
убогие села.
В
златозвонных узорных лесов теремах
Ты
печалишься грустью веселой.
Ты,
вселенского горя изведав сполна,
Претерпев
несказанные муки,
Вознеслась
над градами, где стонет беда,
Заслонила,
простерла к Всевышнему руки.
И
когда закачаются кисти рябин
На
ветру по околицам ржавым,
Ты,
Святая, придешь из осенних глубин
Светлым
заревом дальних пожаров.
***
Тих
и сладок вешний вечер.
Светел
звон колоколов.
Что-то
нежно шепчут свечи
Вкруг
склонившихся голов.
В
чистых звонах погребальных
Свет
лазурной вышины,
Полукружье
знаков тайных
Непостижной
глубины.
Там
весна Тебе навстречу
Тихо
двери распахнет,
Там
священник сладкозвучный
В
ризах Радости пройдет.
***
Отцу Артемию
В
чистом поле, посреди раздолья,
Инок
пел веселые псалмы.
Троица
спустилась на приволье,
Загорелись
ближние холмы.
Вкруг
него стояли дети Бога,
Что
пришли на зов святых речей,
И
бежала дальняя дорога
В
мир лазурный, чистый и ничей.
На
земле пред ним стояла чаша,
А
вокруг – далекие леса...
И
казалось, что милей и краше
В
вышине сияли небеса.
Мы
тогда лазурное познали,
И
когда поцеловали Крест,
Он
увлек нас в голубые дали,
Что,
звеня, раскинулись окрест.
Понеслись
над дивными лугами...
Там
в сиянье Божьего Лица
Нам
поведал инок без печали
О
любви, не знающей конца.
КОНСТАНТИНУ
БАЛЬМОНТУ
Ты
создал мир свой вечный из огня.
В
нем солнца луч поет в эфире чистом.
Ты
в выси восходил путем тернистым,
Ты
видел свет за гранью бытия.
Взрастил
любви ты вечно юный сад,
Где
май качает колыбель сиреней
И
роз вечерних пламень откровений
Горит,
небесным пурпуром объят.
Взрастил
любви ты вечно юный сад…
Ты
жил всегда нездешнею мечтой,
Любя
и ненавидя все земное.
Ты
был, как солнце, вечно молодое,
Пылающее
в бездне голубой.
Ты
был, как солнце, вечно молодое…
МАЛЕНЬКОЕ
ALLEGRO
Памяти архитектора
Фельтена
В
сердце скорбящего города
Спустилась
церковь с небес.
Розовый
рассвет проплывал над городом,
Обозначил
шпилей, башенок лес.
Она
была вся бирюзовая,
Перевита
гирляндами белых роз.
В
небе таяла заря пунцовая,
Резвились
амуры в облачке грез.
Там
где утром лучезарным черные
Провалы
окон зажглись,
Она
сливается с небом,
Уходя
в лазурную высь.
Сонные,
бежали дни монотонно…
Белые
амуры держали крест.
Треугольник
маленького фронтона
Рассекал
глубину небес.
ДОМСКАЯ
ЦЕРКОВЬ В РИГЕ
Когда
отходит день и суета далёко,
И
город опустевший мирно спит,
Торжественный
собор на площади широкой,
В
туманной ночи мгле плывущий одиноко,
Симфонией
веков вдруг дивно зазвучит...
И
в этот самый миг орган его певучий
Уснет
в сыром холодном декабре,
И
строгий стройный хор готических созвучий
Зажжет
лучи в романском алтаре…
И
вот тогда в молчании высоком
Замрут
в ночи безлюдной купола
И
лик Христа откроется глубоко
В
мозаике поющего стекла…
Музыка. Елена Богданова
__________________________________________________________________
Елена
Богданова
Елена
Богданова – старший научный сотрудник ВНИИ информации по строительству и
архитектуре. Печаталась в журналах «Наша улица» (2001 г.), «Детское чтение для
сердца и разума» (2008 г.), в альманахе «Эолова арфа» (в 1-м выпуске 2009 г.).
Автор книги «Отражения в воде» (2003 г.).
ЕЩЕ
РАЗ О ГЛЕНЕ ГУЛЬДЕ
Досада…
Ах, какая досада! Подумать только,
судьба однажды милостиво предоставила
мне потрясающий шанс услышать и увидеть
гениального пианиста, но я, в полном своем неведении, должно быть, прошла мимо,
не сделав даже попытки воспользоваться
уникальной возможностью! Этот
упущенный шанс, который теперь так горько терзает меня, тогда был невероятно близок к осуществлению – только
руку протяни! Потому, что в мае 1957 года, а именно тогда
проходили в Москве гастроли юного Глена Гульда, я была
здесь же, совсем рядом, но даже не подозревала, какого масштаба событие происходит!
В то время я довольно часто
бывала в консерватории (увы, гораздо чаще,
чем теперь!), и очень может быть, что именно в тот день я пробегала
где-нибудь поблизости, скользнув рассеянным взглядом по афише, на которой
крупными синими буквами были три ничего
не значившие тогда для меня слова: Глен Гульд (Канада). К сожалению, этого
имени тогда не только я, но почти никто не знал. И весь шквал восторгов,
разразившийся сразу после этих
выступлений и захлестнувший потом, подобно цунами, весь музыкальный мир, на тот момент коснулся
только очень узкого круга музыкантов-профессионалов. До рядовых любителей
музыки, вроде меня, донеслось потом только гулкое эхо прекрасной легенды. Но
надо сказать, что тогда, к счастью, вслед за концертами Гульда, в Москве были
выпущены пластинки с записями его его
выступлений. Виниловые диски на 45 оборотов. И
вот теперь, из своего немыслимого
далека, спустя более пятидесяти лет
после этих гастролей, и почти тридцати лет после его ухода из жизни, я с бесконечным
сожалением говорю, что многое отдала бы за возможность хотя бы
раз увидеть этого человека!
Человек по имени Глен Гульд представляет собой
явление столь поразительное, что даже теперь,
по прошествии большого времени, его творчество и личность продолжают
волновать и привлекать к себе острейший интерес. И интерес этот со временем не только не угасает, но, наоборот, даже
возрастает, несмотря на то, что Гульд посвятил
собственно концертной деятельности всего девять из пятидесяти лет своей
не слишком долгой жизни. Затем он, внезапно отказавшись от дальнейших публичных
выступлений, исчезает с афиш на самом взлете своей феноменально успешной карьеры концертирующего
пианиста. Гульд исчез, навсегда скрывшись от взоров своих зрителей, став
затворником замкнутых пространств разных
звукозаписывающих студий, а также радиовещательных и телевизионных компаний
США и Канады. Однако, несмотря на свой отказ от публичной деятельности и затворнический образ жизни, Гульд не прерывал
чрезвычайно интенсивного и разнообразного творческого процесса. Просто теперь
инструментом его общения со слушателями стали
радиомикрофон и телевизионная камера.
Долгие
годы оставалась загадкой, что же в действительности стало причиной, побудившей
Глена отказаться от столь триумфально
начатой музыкальной карьеры,
блистательной карьеры пианиста, вознесенного на вершину мировой славы, получившего
самое громкое международное признание, ставшего одним из величайших музыкантов
в истории фортепьянного исполнительского искусства. Что, в самом деле, побудило
его внезапно отказаться от аплодисментов и громкой славы? Все его доводы в пользу своего решения
казались не слишком убедительными, и многие
даже заподозрили пианиста в мистификации. Однако время показало, что это
его решение было вполне искренним и окончательным. В попытках
разгадать эту тайну, биографы и
исследователи творчества Гульда обращаются к особенностям его столь яркой,
необычной, и бесконечно обаятельной личности.
В
наше время американские ученые-генетики все чаще говорят о появлении, так
называемых, детей «индиго». Детей,
названных так за синий биофизический
цветовой индекс, наблюдаемый у них в
отличие от обычного, оранжево-красного. Речь идет о детях новой генерации,
своим появлением как бы опередивших свое поколение, о детях, обладающих
необъяснимо высоким интеллектом и высокой степенью одаренности в самых разных сферах, о детях, обладающих
загадочной способностью с легкостью
улавливать потоки информации, получаемые ими едва ли не из воздуха, или из какого-то иного информационного пространства. Говорят, что эти дети, обладают какими-то особыми каналами сознания,
помогающими им необыкновенно интенсивно развиваться, следуя своим, во многом неразгаданным законам. Многие также говорят о детях
«индиго», как о
последующей ступени эволюции,
о людях будущего.
Что
касается Глена Гульда, то если существуют в реальности такие дети, то он,
наверное, являлся характерным представителем «индиго». Он
изначально, с самого рождения отличался от других детей, он был иным, он
пришел в этот мир другим.
Прежде всего, Глена отличала необыкновенная, органически присущая именно
ему наполненность музыкой. Его
можно было бы уподобить некоему музыкальному инструменту, в котором
постоянно звучит музыка, ставшая его
страстью, его образом жизни, его сутью. Природа
щедро наградила Глена такими
столь необходимыми для музыканта качествами,
как абсолютным музыкальным слухом, способностью к глубочайшей музыкальной
концентрации и феноменальной музыкальной памятью. Помимо всего этого, он был
наделен чем-то еще, трудно объяснимым, возможно даже, трансцендентальным.
Впрочем, появление гениев всегда загадка.
Личность
Глена формировалась в условиях весьма благоприятных для
его развития. Будучи единственным
ребенком во вполне благополучной и достаточно обеспеченной семье, он был щедро
одарен родительской заботой и любовью, и
поэтому рос весьма избалованным, а порой даже капризным. Поскольку Глен с
детства отличался слабым здоровьем, то его школьное и музыкальное
образование проходило преимущественно в
домашних условиях, с приглашенными преподавателями. Возможно, все эти обстоятельства и повлияли на то, что взаимоотношения юного Глена со своими сверстниками
складывались не лучшим образом. Как он сам, не без юмора, вспоминал о том времени: «Школьный опыт оказался для меня
крайне неудачным, потому что отношения с большинством учителей и со всеми моими
товарищами по классу были у меня из рук
вон плохи. Вероятно, то, что, выходя из
школы, я шел играть на фортепьяно, а не в хоккей, породило во мне ощущение, что
музыка – это что-то особенное, и что она дает мне право на одиночество. Я не
умел давать сдачи, из-за этого мальчишки воспринимали меня как легкую мишень и
нередко поколачивали. Но было бы преувеличением утверждать, что это случалось
каждый день. Через день – пожалуй». Самым верным другом
его школьных лет был
замечательный домашний пес - шотландский сеттер по кличке Сэр Никлсон
Гэрлохидский. Таким же верным другом для Глена была книжка -
он всегда очень много читал.
До
одиннадцати лет учителем музыки Глена была его собственная мать – Флоранс Эмма
Гульд, чутко следившая за музыкальным развитием
своего одаренного сына. Затем, после
поступления в Королевскую
консерваторию в Торонто, преподавателем Глена становится
профессор Альберто Герреро. А в
четырнадцать лет этот ребенок уже
заканчивает консерваторию. Глен,
что называется, быстро выскочил из
пеленок. Нетерпимый и категоричный, он, на протяжении всех лет своей
учебы, дерзко спорил с учителями,
демонстрируя совершенно независимый
взгляд на вещи, отрицая все мыслимые авторитеты и яростно сражаясь против всех
утвердившихся стереотипов. Вооруженный поразительно широкими познаниями в области
музыки и непоколебимый в своей убежденности, юноша ни в грош не ставил любых
оппонентов. Это был типичный «анфан терибль»! (Чем-то он мне очень
напомнил сэлинджеровского Холдена).
Глен
отличался острым интеллектом, позволявшим ему погружаться в глубины музыки,
аналитически исследуя структуру музыкальных произведений. И это делало его не
только исполнителем, но также и
интереснейшим интерпретатором исполняемых
произведений, что позволяло ему становиться как бы соучастником композиторского творчества. С самого начала определились
и его совершенно неординарные
музыкальные пристрастия: К примеру, он
терпеть не мог итальянскую оперу: «Верди для меня – это мука, а от Пуччини - мороз по коже», - говорил он. Также не
слишком жаловал он традиционную репертуарную, широко исполняемую
романтическую музыку Шопена, Листа, Шуберта. Он находил, что «музыка этой эпохи
полна бессмысленной театральности, показных эффектов, отталкивающей светскости
и гедонизма». Однако, когда речь заходила о чисто пианистическом искусстве,
Гульд признавал его вершиной именно
Фридерика Шопена, хотя и не считал вообще достойным серьезного внимания пианизм как таковой. Шопену он воздавал
должное только как большому мастеру миниатюр, при этом отказывая ему в мастерстве создания крупных музыкальных
форм. И, как ни странно, Гульд не слишком любил божественного Моцарта,
возможно, за то, что, выражаясь современным сленгом, тот «писал музыку для мобильников», то есть
за кажущуюся легкость ее восприятия. Возможно также, что он несколько преувеличивал значение Феликса
Мендельсона. При этом нельзя не отметить, что иногда суждения Гульда о
собственных музыкальных пристрастиях бывали спонтанными и даже
несколько противоречивыми.
С
одной стороны, Глен был приверженцем барочной музыки (например, его безмерно
восхищала музыка такого композитора
16-го века, как известный английский «девственник» Орландо Гиббонс), а, с
другой стороны, он был почитателем современной
авангардной атональной музыки (Шенберг, Берг, Веберн). Глен даже сам писал композиции в двенадцатитоновой технике. С большим пиететом он относился к
Вагнеру и, особенно, к Рихарду Штраусу. Можно не без удовольствия отметить также, что Глен высоко ценил русскую музыкальную культуру.
Его восхищал музыкальный гений М. П. Мусоргского (в чем он молчаливо отказывал
П. И. Чайковскому), а также талант
композиции и пианистическое искусство А. Н. Скрябина. Но самым его любимым и
наиболее часто исполняемым
композитором оставался,
конечно, И.-С. Бах. Любопытное наблюдение высказано
одним из музыкальных критиков, который отмечал, что когда Гульд играет
Шопена, то исчезает Шопен и остается
только Гульд, но если он исполняет Баха, то исчезает Гульд, и остается
только Бах.
К
особенностям игры Гульда
относилась потрясающая чистота и точность его звучания, а также новый подход к полифонической фактуре произведения, каждый
элемент которой выписан им с фантастической отчетливостью и наделен свободно дышащим
ритмом. Часто, погружаясь в музыку,
Гульд впадал в состояние экстаза. В
такие моменты он весь приходил в движение. И он радостно отдавался этому своему
состоянию, погружаясь в звуковую
стихию, подобно птице в
воздушный поток, и казался
неразделимо связанным с этой стихией.
Его
манера игры, на взгляд многих, казалась не только необычной, но в чем-то даже
непристойной, и вызывала неприятие и сильное раздражение, как
у части публики, так и у
музыкальных критиков. У Гульда была, например, привычка иногда во время игры
снимать обувь. Многих раздражала также
его ни на что не похожее
положение за инструментом. Глен терпеть не мог традиционной банкетки с мягким
сидением, устанавливаемой обычно перед роялем, и неизменно предпочитал
пользоваться в концертной практике своим знаменитым складным деревянным стулом, очень старым и очень
облезлым. Этот стул, вовсе лишенный
сидения, украшала только оставшаяся внутри деревянная рама, к тому же
расположенная на двадцать сантиметров ниже обычной стандартной высоты. Стул
устанавливался с большим наклоном назад, подобно Пизанской башне, что достигалось благодаря винтовому
увеличению высоты его передних
ножек. По этой причине Глен
играл, что называется, «носом»,
очень низко склоняясь над клавиатурой. Для того, чтобы еще больше
приблизиться к клавиатуре, он дополнительно приподнимал рояль,
устанавливая его ножки на деревянные подставки. А если
дополнить все эти причуды
исполнительской манеры Гульда еще и его
привычкой довольно громко петь во время
игры, а
иногда и дирижировать свободной рукой, то картина может показаться,
действительно, весьма экзотичной.
Но ведь все эти его экстатические состояния дарили миру
несравненные музыкальные откровения!
Конечно,
необычная исполнительская манера Гульда и, главное, органическая для него невозможность подчиняться
неким благопристойным, узаконенным
манерам, давала повод для непрестанных критических нападок, в которых язвительно расценивали
Гульда за роялем как комедианта и требовали от молодого человека «следить за
собой и прекратить кривляния»! Гульд же
с огорчением говорил, что его исполнительская манера является органическим
продолжением его сущности, и до такой степени присуща ему, что, как
только он пытается контролировать свое поведение, у него тут
же возникает ощущение скованности, что, в свою очередь, приводит
к потере
музыкальной концентрации и
ухудшению качества игры.
А
однажды эксцентричность Гульда сделала его
героем общественного скандала. В какой-то момент в
Канаде проводилась кампания с опросом общественного мнения по поводу выбора выдающейся личности, достойной украсить своим
портретом новую денежную купюру Канады.
Предложенная в этом качестве кандидатура
Глена Гульда вызвала бурное негодование
определенной части общества: «Как можно! Он же эксцентрик!» И вот столь печальным образом обыватели Канады отвергли своего национального гения, составившего гордость страны и ее национальное
достояние!
Можно
предположить, что именно критика со стороны прессы в какой-то мере так же
повлияла на решение Гульда уйти с концертного Олимпа.
Взаимоотношения Гульда с его публикой
постепенно вошли в конфликт. Возможно, что именно тогда Гульд выбрал
одиночество, как образ жизни, а
затворничество, как единственный способ, позволивший ему заниматься
музыкой, скрывшись от
любопытствующих глаз. В этом своем
отшельничестве Гульд создает огромное
число непревзойденных музыкальных записей, составивших золотой фонд мировой музыкальной культуры. Кроме того, он
пишет сценарии своих радио- и
телевизионных передач, в которых
является ведущим. Телевизионные
программы предоставляли ему широкое поле для творческих экспериментов. Гульдом
была придумана, так называемая, «контрапунктическая» система вещания,
касавшаяся построения литературных текстов его авторских радио- и телевизионных
программ и использованная, в частности,
в его широко известной программе «Идея Севера».
Кроме
того, Гульд не без основания считал себя литератором. Он много писал, и оставил
после себя глубокие музыкальные исследования, массу статей и блестящих
интервью. В одном из своих
многочисленных интервью Гульд говорил о том, что в музыке он стремился быть как бы человеком «эпохи Возрождения», способным
осуществлять множество самых разных проектов. Его мечтой было когда-нибудь, лет
в шестьдесят (увы, не дано судьбой!),
открыть собственный концертный зал, при условии, что слушателям в нем
было бы запрещено реагировать на
выступления артистов: ни аплодисментов, ни вызовов на «бис», ни свистков –
ничего! Он действительно считал, что было бы хорошо совершенно отказаться от
подобных вещей.
Большое внимание Глен уделял также экспериментальной
работе со звуком. Для достижения нужного ему звучания он усовершенствовал
клавиатуру собственного рояля, изменив
размер верхнего ряда клавиш и полностью
перебрав механику инструмента. Интересный
эксперимент был проделан им с изменением
звука рояля за счет отрыва его ножек от пола, как резонирующей поверхности,
путем установки их на упругие подставки,
преобразовав тем самым
акустические характеристики инструмента. При этом микрофон устанавливался снизу, под декой рояля. Работа Гульда в
звукозаписывающей студии по своей
творческой одержимости была сродни лабораторным занятиям алхимика.
Жизнь
и творчество Глена Гульда, после смерти великого музыканта, вызвали к жизни
целую плеяду «гульдинистов», и стали предметом пристального изучения
биографами. Таким исследователем творчества Гульда стал его близкий друг,
создатель ряда книг и фильмов о Гульде,
французский музыкант, писатель и кинематографист Бруно Монсенжон,
глубоко понимавший и любивший этого необычного человека. Монсенжон считал, что
«подвижническая цель, которой Гульд служил всю свою жизнь, превосходила цели его земного существования. Гульд
миссионерски служил чистоте и цельности музыки. Это было результатом особой
организации его ума, свободно владевшего категориями времени и пространства». И
еще, что
«существование Гульда было подчинено своим законам, отличным от законов
нашего физического мира и относящимся к трансцендентальной области».
Либретто
балетов «Синильга» и «Фарида». Дмитрий Игумнов
________________________________________________________________
Дмитрий Игумнов
Дмитрий
Игумнов родился в 1937 году в Москве. Окончил Всесоюзный заочный энергетический
институт.
Печатался
в журналах «Наш современник» и «Юность». Автор книги «Рыжий».
СИНИЛЬГА
(Либретто
балета в 3-х актах)
Действующие лица:
Синильга,
молоденькая северянка
Петр,
геолог
Шаманка,
владычица духов зимней тундры
Духи
зимней тундры:
синий
дух, лиловый дух
Геологи,
члены поисковой партии
Оленеводы,
обитатели стойбища
Снежинки
(кордебалет)
Акт
1
Заполярье,
тундра. Прошло короткое северное лето, кончается и грустно вздыхающая осень.
Вот-вот закружит снежная карусель, и наступит стылая зимняя тьма.
Стойбище
оленеводов. На ярко освещенной прощальными лучами солнца поляне пригрелись
несколько остроконечных чумов. Кое-где проглядывают остатки кудрявого оленьего
мха-ягеля. Вдали виднеется островок редкого полярного леса.
Обитатели
стойбища заняты своими повседневными заботами. Мужчины проверяют и чинят
упряжь, обрабатывают оленьи рога. Женщины что-то мастерят из оленьих шкур и
занимаются приготовлением обеда. Девушки помогают им и, конечно, скучают. Одна
из них Синильга. Она приехала из города погостить у родителей и скоро покинет с
детства знакомые места. Так хочется вернуться к городской жизни, но очарование
бескрайнего простора заполярья никак не может отпустить ее.
Вдруг
слышатся шаги приближающихся путников. Это геологи, заканчивающие свой полевой
сезон, набрели на стойбище оленеводов. И геологи, и обитатели стойбища рады
такой редкой в этих местах встрече. Веселье охватывает всех. В честь гостей
девушки исполняют национальный танец оленей. Затем молодежь устраивает хоровод,
завлекая в него гостей. Происходит первая встреча Синильги и молодого геолога
Петра. Он поражен самобытной северной красотой девушки, ранен лезвиями ее
искрящихся глаз. Синильга, смущенная его неожиданным порывом, убегает из
хоровода.
Наступает
время обеда. Хозяева приглашают гостей к трапезе и отдыху. Поляна стойбища пустеет.
Петр
выходит на поляну, ему очень-очень хочется вновь увидеть Синильгу. Она
посматривает на него из-за чума своих родителей. Не в силах справится с собой,
Синильга тоже выходит на поляну. Молодые люди несмело общаются друг с другом.
Затем начинается па-де-де. Нарастающий лиризм адажио, звуки скрипичных альтов,
и вот уже единая гармония чувств увлекает их в волшебный мир очарованья…
На
поляну выходят и оленеводы, и гости. Краткие сборы в дорогу. Геологи благодарят
радушных хозяев и покидают стойбище. Расстроенный своим расставанием с
Синильгой Петр тоже вынужден продолжить свой рабочий путь по тундре. Северный
менуэт прощанья. Грустные аккорды.
На
стойбище возобновляется обыденная жизнь. И только Синильга вся устремлена
вдаль, куда ушли геологи. Она завороженно смотрит вдогонку своей судьбе…
Акт
2
Прошло
несколько дней. Тундра заволоклась снежной порошей. Небольшой морозец сковывает
гладь озер, ручейков и болот. Вечерние сумерки.
Усталые
геологи ставят палатку и устраиваются на ночлег. Звучат мелодии наступления
зимних холодов, затем они переходят в вариации то тревожные, то радостно
трепетные, предвкушая что-то необычное и желанное.
Появляются
снежинки-девушки. Покрывая своим присутствием всю поляну, они танцуют снежный
вальс. Снежинки ждут прихода духов зимней тундры, радуются наступлению своего
времени. Вот и духи – верные помощники зимней владычицы этих мест. Они
стараются придать беззаботным танцам снежинок суровость, и сами демонстрируют
решительность и мощь. Снежинки вынуждены проявить покорность.
Но вот из палатки выходит Петр. Несмотря на усталость, он
не может заснуть. Все его думы обращены к милой северянке, к Синильге. При
появлении человека снежные духи спешат уйти под покровительство своей
повелительницы – шаманки. Снежинки-девушки только радуются и беззаботно
кружатся и кружатся. Вдруг в одной из снежинок Петр узнает Синильгу (на языке
эвенков слово «синильга» значит снег, снежинка). Он взволнован и бесконечно рад
этой встрече. Звучит нежная мелодия адажио, соло гобоя, начинается па-де-де.
Снежинки оттеняют лиризм танца Синильги и Петра.
Опять
появляются снежные духи. Теперь их ведет шаманка – владычица зимней тундры. Она решительно направляет свои
чары на Петра. По северному поверью, красавица шаманка бродит по зимней тундре
в поисках молодого мужчины и, найдя его, стремится замучить до смерти своими
ласками. Она любимая дочь зимней тундры. Снежные духи помогают устранить с пути
шаманки и всех снежинок, и, конечно, Синильгу. Но Синильга не поддается злым
духам и их повелительнице. Она тоже дочь тундры и не позволит околдовать своего
любимого. Встретив такой мощный и жертвенный отпор, шаманка и ее прихвостни на
время покидают стоянку геологов. Наступает временное затишье. Все снежинки
удаляются, увлекая с собой и свою подругу. Петр остается один. Утомленный и
пораженный, он уходит в палатку.
Музыкальное
вступление перед 3-м актом: пурга в тундре. Полярная метель, лютая зима, резкие
порывы ветра, поражающие все живое, проникающие вглубь, в самую душу.
Акт
3
Все бело вокруг. Палатка геологов превратилась в сугроб.
Растрескалась стужа. В замерзающих телах людей едва теплится жизнь. Пришло
раздолье для злых зимних духов.
Вот
появляется и их несравненная
повелительница. Радостная шаманка разрешает своим верным помощникам поухаживать
за ней. Она кокетничает с духами тундры и всей своей студеной сущностью смеется
над ними. Па-де-труа.
Но
идиллию злых властителей тундры нарушает позвякивание приближающихся оленьих
упряжек. Это Синильга, следуя позыву своего сердца, стремится спасти Петра и
его товарищей. Вся снежная круговерть покидает поляну. Синильга первой
появляется у заснеженной палатки и начинает расчищать вход в нее. С помощью
приехавших с ней оленеводов Синильга освобождает бедолаг-геологов из снежного
плена. Спасатели отчаянно стараются отогреть пленников шаманки: накрывают их
шубами, дают испить горячительные напитки. Эти старания не остаются напрасными.
Жизнь возвращается в измерзшие тела искателей сокровищ тундры. Общая радость.
Теперь
уже ничто не сможет разлучить Синильгу и Петра. Небольшое, но очень лиричное
адажио. Апофеоз победы жизни и любви над промерзшим мраком злых чар.
ФАРИДА
(Либретто
балета в 3-х актах)
Действующие лица:
Фарида,
первокурсница университета
Игорь,
студент
Маргарита,
студентка, сокурсница Игоря
Шавкат,
старший брат Фариды
Мать
Фариды
Домочадцы
и подельники Шавката
Студенты
и студентки (кордебалет)
Акт
1
Среднерусская полоса. Большой город. Конец апреля. Как часто
бывает в это время года, прохладные весенние дни вдруг сменились
теплой-претеплой истомной благодатью.
Площадка
перед входом в университет. Сбоку от нее небольшая зеленеющая полянка с
лавочками. Утро, время начала учебных занятий. Уже пора всем быть на своих
местах в аудиториях, но Ее Величество Весна не хочет отпускать беспечных
подданных. Кружатся и кружатся стайки студентов в весеннем вальсе.
Звучит требовательный звонок. Студенты устремляются в
здание храма науки. Площадка пустеет. Однако уходят не все, остается студент
старшего курса Игорь и его сокурсница Маргарита, которая уже давно неравнодушна
к нему. Сердце же Игоря принадлежит другой, тоненькой тростиночке чарующего
Востока – Фариде. Еще не прошло и года, как она стала студенткой, и ее южная
кровь никак не может подчиниться строгому расписанию занятий. Она частенько
запаздывает к началу первой лекции. Вот и сейчас тоже.
Игорь
ждет Фариду. Маргарита пытается и пытается привлечь его внимание к себе. Игорь
приветлив с ней, в меру ласков, но не более. Их парный танец проходит в темпе
анданте.
Вот,
наконец, и Фарида. Она отчаянно спешит к началу уже начавшихся занятий. Игорь
радостно встречает ее. Звучат весенние темы в партиях скрипки и альта. Парный
танец Фариды и Игоря. Маргарита смотрит на них из-за колонны у входа в
университет, и у нее зреет план мести.
Фарида
увлекает Игоря в здание университета. Ей ужасно не хочется опаздывать к началу
следующей лекции. На площадке перед входом в здание остается только терзаемая
отчаянием Маргарита.
Неожиданно
появляется Шавкат – старший брат Фариды.
После смерти отца он остался хозяином в семье. В отличие от своего отца Шавкат
считает, что девушке-мусульманке незачем получать высшее образование, а учиться
среди неверных вообще грех. Он приехал
забрать сестру домой.
Маргарита
подходит к Шавкату, начинается их общение в танце. Узнав о цели его приезда,
она решается реализовать свой план мести. Маргарита приглашает Шавката
посмотреть, чем занимается его сестра в свободное от учебы время. Они
договариваются о встрече на сегодняшний вечер. Шавкат уходит.
Звучит долгожданный звонок на перерыв, на перемену. Из
университета высыпает почти все студенчество. Весна, любовь, отрада. Беззаботно
кружатся юные создания.
Акт
2
Опушка лесопарка. Пряный вечер. Опьяненные весной пары то
проплывают, то пролетают под звуки лирических мелодий. Вкрадчиво нежные звуки
гобоя, пассажи
струнных.
Игорь
уже на месте и с нетерпением ждет Фариду. Вот и она. Если на белом свете есть
счастье, то оно, конечно, приходит только вместе с Фаридой. Их па-де-де
сопровождает соло скрипки и альта. Мерная и нежная поступь альта расцвечивается
искрящимися росинками звуков (рулад) скрипки.
Во время заключительных па за деревьями появляются
Маргарита и Шавкат. Он взбешен увиденным поведением сестры. С мыслями о
расправе Шавкат и Маргарита уходят.
На
опушке лесопарка вновь вальсируют студенческие парочки. Затем выходят Фарида и
Игорь, они своим танцем являют единение всех помыслов и поступков. Радость
переполняет их сердца. Постепенно звучание скрипки уходит в нижнюю часть своего
диапазона, а альта – в верхнюю. В заключение они играют почти в унисон в общем
для них регистре. Играют лирическую мелодию расцветающей любви.
Но
вот слышится тревога в позывах медных духовых инструментов. На опушке
появляется Шавкат со своими подельниками. Он подходит к Игорю сзади и ударом
ножа наносит ему смертельную рану. Фариду связывают, затыкают ей рот и быстро
уносят (в машину). Опушка пустеет.
На
ней остается только умирающий Игорь. Маргарита, увидевшая результат своих стараний,
безутешна. Она рыдает над остывающим телом Игоря.
А
кругом все благоухает и поет. В завораживающей первой зелени листвы и буйстве цветения медуницы звучит ода жизни
и любви.
Акт
3
Восток.
Средняя Азия. Внутренний двор жилища зажиточного правоверного мусульманина.
Нижний полуподвальный этаж дома окрашен белой известью. Выше – само жилище с
плоской черепичной крышей, опорными столбами террасы и окнами, выходящими во
двор. У кирпичной ограды полоска возделанной земли с цветами и абрикосовыми
деревьями. За забором вдалеке виднеется башня минарета и кроны чинар.
Окаменевшая
от горя Фарида. Неимоверное страдание, свалившееся на это тоненькое создание,
измотало душу, истребило светлые мечты, похитило весь смысл существования. Брат
спешит выдать ее замуж и получить желанный калым. Скоро она должна стать еще
одной женой старого бая.
Выходит
из дома Шавкат. Он презрительно и грубо обращается с сестрой, угрожает ей,
требует безропотного подчинения. Она смотрит на него с ненавистью и
отворачивается. Шавкат пытается отхлестать ее плетью. Выбегает их старая мать и
заслоняет собой свое несчастное дитя. Шавкат с великим раздражением уходит.
Мать пытается утешить Фариду, просит смириться. Ведь такая доля обычна для
женщин многих народов Востока.
Слышится
напев муэдзина, призывающего совершить вечерний намаз. Все погружаются в
молитву. Фарида тоже молится, исступленно молится Аллаху
великому, щедрому, милостивому и милосердному. Она, грешница, молит
Всевышнего только об одном, только о том, чтобы он вернул ей потерянное счастье
любви. Пусть лишь на один вечер, на час, на минуту… Милость Аллаха безгранична:
с террасы дома сходит такой желанный и ласковый Игорь. Неземное блаженство
встречи. Грустное лирическое адажио светлых воспоминаний.
Но вот кончилось время намаза, и Игорь исчезает. Фарида в
отчаянии, она не может перенести разлуку и решается уйти за ним. Фарида
обливает себя керосином и поджигает. Тоненькая тростиночка вспыхивает, как
факел. Вот-вот кончатся земные муки.
Выбегают
домочадцы. Они пытаются погасить огонь и спасти несчастную. Однако уже поздно,
ее душа покинула бренный мир. Все крайне подавлены. Двор пустеет.
В
музыкальное повествование все настойчивее пробивается соло скрипки, а затем и
альта. Их звучания сближаются и, наконец, входят в унисон. Наступило полное
единение таких когда-то далеких друг от друга, но теперь бесконечно близких
душ.
Проза.
Игорь Нерлин
__________________________________________________________________
Игорь
Нерлин
ТЕМА:
ОН И ОНА
1.
УВЕРТЮРА
Она
кусалась и царапалась, как кошка. Но не больно. Впрочем, иногда было и больно.
Она хотела его сломать пополам, гнула и выгибала.
«Наверное,
Она очень искушенная в сексе!» - Подумал Он. Ему было интересно. Он смотрел,
что будет дальше.
Потом
на руках остались царапины и красные точки от ее ногтей. На спине тоже
остались.
–
Возьми мне кусочки кальмара к пиву. – Попросила Она недавно.
–
Конечно! – Сказал Он.
Они
сидели в летнем палаточном кафе и постепенно надирались. Первая кружка пива,
вторая кружка. Закуски почти никакой. Потому что у него было мало денег. А
просить у нее было невозможно, по его принципам.
– Ты какую музыку любишь? – спросила Она.
– Мелодичную. Типа «Энигмы». – Ответил Он.
–
А я люблю тяжелый металл. «Металлику», например. – Она потягивала пиво и
смотрела на него вызывающе.
–
Я тоже тяжеленькое могу слушать. «Пинк-Флойд», например.
–
А-а! – сказала Она.
Он
вспомнил, как Она элегантно села на японский дорогой мотоцикл, который когда-то
попался на их пути. Он был чужой, но это не остановило ее.
Она
ловко вскочила на подножку, высоко и далеко, грациозно вскинула правую
джинсовую ногу и плавно опустилась в седло. «Интересно!» – Подумал Он. – «Стал
бы возражать хозяин этого монстра, если бы увидел ее сидящей в своем седле? Она
ведь очень симпатична!».
–
У меня когда-нибудь будет свой «Харлей». – Заявила Она.
–
Неплохо бы! – Ответил Он.
Когда
они подходили к метро, то уже изрядно пошатывались. Ей нужно было ехать к подруге,
чтобы готовится к сессии. По крайней мере, Она так говорила.
–
Зачем ты так поздно едешь к подруге заниматься, и пьяная? – Спросил Он. – Ты
все равно заснешь!
–
Ты прав! – Сказала Она. – Тогда поехали ко мне!
Последняя,
почти пустая, электричка метро медленно ползла по тоннелю. Он был спокоен.
Денег на такси не было.
–
В тебе что-то есть! – Сказала Она уже в постели.
Они
ожесточенно целовались. Целовались так, как будто не делали этого уже давно.
Целовались до стука зубов. И Он почувствовал, когда у него отвалился маленький
кусочек зубной эмали.
Потом заснули.
Ночью
хмель вышел из головы. Он проснулся. Сон был неприятным, многосерийным, с
одинаковым концом. В конце каждой серии Она уезжала вдаль на «Харлее»,
вцепившись пальцами в кожанку бородатого рокера, сидящего за рулем.
Он
привстал на локте и стал нахально рассматривать при лунном свете ее обнаженную
молодую грудь. Соски чуть-чуть подрагивали от молодежного, удалого рокерского
храпа.
Утром
Она неожиданно попросила мяса. Его, почему-то, это привело в замешательство. Он
сделал вид, что не расслышал.
–
Сходим в парк? Погуляем? – Спросила Она после завтрака.
–
У меня сегодня дела. – Ответил Он. – Я позвоню вечером!
Он
уходил в то утро в полной уверенности, что будет возвращаться сюда всю
оставшуюся жизнь. Но не вернулся больше никогда.
Только
на руках еще неделю оставались царапины и красные точки от ногтей. На спине
тоже оставались.
2.
НОКТЮРН
Она
просто путешествовала. А он, как оказалось, просто попал на экскурсию в
детство. Поскольку все надежды были сразу и безвозвратно потеряны, как только
их глаза встретились через стекло вагона на Курском вокзале.
Дальше
– Питер. Как и было договорено.
–
Посмотрим, на что ты способен! – Писала Она ему ранее в онлайне.
Имелось
в виду то, как Он сможет организовать поездку в Питер из Москвы.
До
столицы добралась сама.
–
Зачем ты купил эти розы? – поинтересовалась Она.
–
Тебе! – Сказал Он.
Вечером
были бутерброды со знаменитым украинским салом и колбасами, южными помидорами,
огурцами и редисом. Она привезла с собой кусочек Незалежной. Потом он ушел ночевать к другу.
И
вот – гранитные набережные. Светлое Питерское влажное утро.
Набор
обычный. Эрмитаж, Исакий, уродливый каменный царь в крепости, банки с уродцами,
Петергоф.
Петергоф
уже не тот, что был в семидесятых. Многое изменилось. Многое отстроилось и
отремонтировалось. Самсон, все такой же золотой, умопомрачительные фонтаны.
Даже хулиганский обливающий фонтанчик теперь не один. Теперь такие фонтанчики
почти на каждом шагу. Они пользуются огромным успехом у туристов и, особенно,
детей.
Он
работал фотографом. Она на фоне дворцов, Она на фоне скульптур, Она на фоне
цветов. В Петергофе много клумб с роскошными цветами. И Она, южный цветок,
прекрасно смотрелась на их фоне.
Вечером
Она опять сварганила у себя в номере бутерброды с салом и колбасой. Выпили
кофе. О чем-то поболтали, поспорили. Спать Он ушел в свой номер.
Постоянно
какие-то глупые споры возникали у них. Например, когда летели на водных крыльях
в Петергоф на «Ракете».
Она
спросила:
–
Это море?
–
Да. – Ответил Он.
–
Нет! Это не море! – Резюмировала Она. – Это Финский залив!
–
Ну все равно же море!
–
Нет! Это не море. – Она никогда не ошибалась. – Море начинается дальше! А это
залив...
По
его логике, море начиналось прямо с берега. Ведь, если зайдешь в него и
поплывешь, то все равно это уже море. Если обнимешь женщину и она не
вырывается, то она уже твоя.
А
если в море так и не зайдешь, и не обнимешь?
В
последний день пребывания в Питере Он взял да и выпил коктейля у себя в номере.
Просто такое чувство было, что что-то все равно должно произойти. А если никак
не происходит, то надо как-нибудь подтолкнуть.
Тоска,
короче.
И
точно. Она сама позвонила ему. После того, как уже попрощались на ночь и
разошлись по номерам.
–
Давай прогуляемся по ночным набережным? – Сказала Она, с придыханием, в трубку.
–
Нет проблем! – Бодро ответил Он. – Собираюсь!
Они
долго прогуливались по ночным набережным, было необычайно красиво. Огни,
каналы, дворцы. Как же не прокатиться по водным протокам на прогулочном катере,
да еще и ночью? Прокатились. Он опять пил пиво, Она тоже выпила стаканчик. А
следующий, который он заботливо принес, качаясь, по шатающейся палубе,
решительно бросила прямо в Невскую черную глубь.
Наверное,
это был протест.
А
какой может быть протест? Это красиво. Плыть по ночным Питерским каналам и пить
пиво, заедая его солеными сухариками из пакетика.
Он
немножко нализался. В гостиницу возвращались уже ночью. Она всегда была на
несколько шагов впереди. Не шла рядом.
–
Тебе завтра будет стыдно! – Сказала Она.
–
Не будет! – Ответил Он.
И
не было стыдно. Она зашла первой в свой номер и резко захлопнула дверь перед
его носом. Он засмеялся, и пошел в свой номер.
Чего
стыдиться?
Если
б что-то было, то можно было б и стыдиться. А так, ничего и не было. Просто
съездили на экскурсию в Питер. Она в первый раз, а он вспомнил свои
четырнадцать. То время, когда все было по-другому. Но тоже было сложно. И тоже
не было ответов на все вопросы.
3.
МИНОРНЫЙ ФИНАЛ
Сегодня
к нему залетел голубь. Он еще спал, поэтому испугался. Голубь, наверное, сидел
на подоконнике, а потом решил шагнуть к нему в гости. Потом сразу забился об
стекло, испугавшись.
Он
смотрел из-под одеяла испуганными сонными глазами и ничего не мог понять. Штора
вдруг ожила, зашевелилась, стала страшно шуметь. Первая мысль была о том, что
началась третья мировая война. Очнувшись ото сна, Он встал и, прямо через
штору, подвел руками голубя к открытой форточке. Это знак, или не знак?
Последний раз к нему залетала птица два с половиной месяца назад.
Уж
такая птица!..
Можно
сказать, сама сняла его сразу после просмотра идиотского фильма. Уж он и не мог
вспомнить, как разговор пошел о сексе. Очевидно, она сумела привести разговор к
этой теме и сразу спросила: «Ты хочешь секса, да?». Он был ошеломлен. Он никак
не предполагал, что, сводив девушку в кино, можно сразу переходить к интимным
отношениям. Не знал, что ответить, и просто поцеловал ее в губы.
–
Значит, хочешь? – спросила Она.
Он
поцеловал ее еще раз. Ласково, лишь слегка касаясь губ.
–
Так хочешь, или не хочешь? – Она провоцировала и безоговорочно владела
ситуацией.
–
Конечно, хочу! – смиренно ответил Он и опять поцеловал.
Через
два дня Она была в его постели.
–
Секс – это хорошо! – Сказала Она. – У меня давно не было секса!
Она,
как-то сразу, встала в оппозицию к нему. Увидела на серванте бутылку жидкого
мыла для интимных частей тела и подумала невесть что.
Она
назвала его развратником.
–
Ну и что! – Сказал он. – Я купил это мыло для того, чтобы лицо умывать!
Во-первых, это все фигня, что на пластиковых бутылочках пишут, во-вторых, лицо,
по моему мнению, самая интимная часть тела, в третьих - просто мягкое, не
сушащее кожу, мыло. Всего-то!
–
А две пачки презервативов откуда?
–
Так ты же сама предупредила, чтобы я их купил!
Она
назвала его параноиком! Возможно, это правда, ну и что? Даже серьезно спросила,
не лечился ли он когда-нибудь у психиатра.
Нет,
не лечился. Странная постановка вопроса.
Потом
Она сказала, что Он хорошо целуется. Наверное, это действительно было хорошо.
Им обоим это понравилось. По-французски. Глубоко, с языком. Очень долго. Они
хулиганили. Делали вид, что хотят откусить язык друг у друга.
Потом
она назвала его ребенком. Это после того, как он сказал, что полюбил ее и хочет
серьезных отношений.
–
Перепихнулись и разбежались! – Сказала Она. – Мне ничего больше не надо.
–
Ты не проститутка? – Удивился он.
Она
засмеялась.
–
Нет, не проститутка! Не бойся! Мне твоих денежков не надо!
Она
назвала его странным. Это после того, как Он сказал, что не сможет свыкнуться с
мыслью, что Она больше не придет.
–
Зачем привязываться? – Сказала Она. – У меня в жизни и так все хорошо! А
мужиков вообще всех надо расстрелять!
–
Тебя кто-нибудь обидел? Из наших? – Осторожно поинтересовался Он.
–
Да ты что! – Фыркнула Она. – Как Ваши могут меня обидеть? Просто секса у меня
давно не было, а так мужики – просто никчемные люди!
–
Может быть, тебе просто не повезло с бывшим мужем?
–
Почему? С ним было хорошо в интимном плане. – Она помрачнела. – Просто он
фатально не мог заработать никаких денег. Морока одна!
Он
знал, что сейчас много таких, как Она. Что заводить серьезные отношения уже не
так уж и модно. Что женщины хотят всего такого же, как и у мужчин. Это навевало
на него грусть. Наверное, он просто бабник.
–
Не печалься! – сказала Она. – Как полюбил, так и разлюбишь! Откуда ты вообще
можешь знать, что такое любовь!
Потом
она назвала его алкоголиком. После того, как они пополам выпили бутылку водки.
Наверное, ей показалось, что это он выпил все (может, это и так).
–
Но ты же сама сказала купить водки! – Взмолился Он. – И мы поровну, вроде,
пили.
–
Все равно! Это слишком много! – Она была категорична. – Тебе, пожалуй, вообще
никто и не нужен! С чего ты взял, что влюблен?
Голубь
давно улетел в раннее свежее небо. Почему Он вспомнил про нее? Почему пришла
грусть?
Она
в постели была просто идеальна. Труженица, не требующая взамен ничего.
–
Как же ты изголодалась! – Сказал Он ей тогда. – Давай, я сделаю тебе приятно.
–
Мне ничего не надо! – Она встрепенулась. – Мне и так хорошо!
Утром
проснулись одновременно. Вернее, он проснулся на мгновение раньше.
–
Можно еще поспать? – Сонно спросила Она. – Ты меня не прогоняешь?
–
Что ты! Спи, сколько хочешь!
При
следующем раскрытии глаз он удивленно обнаружил, что Она уже в дверях и
надевает на себя последние вещи.
–
Ты куда так быстро? Давай я накормлю тебя завтраком?
–
Зачем? Я дома поем. – Она немного растерялась. – Проспала долго!
А там сын один с моей матерью... Надо ехать!
–
Постой! Я тебя, хотя бы, провожу!
–
Не надо! Я так люблю уходить. – Она была неумолима. – Ты лежи, спи! Я захлопну
дверь.
Он
до сих пор не понял, хорошо это или плохо. Когда так от него уходят. Наверное,
Он действительно ребенок.
Считается,
что это плохая примета, когда птица залетает в окно. Будто ангел прилетает за
душой. «За жизнью чьей? Моей, или...» - подумалось ему. Но у него больше никого
ведь и не было.
Голубь
уронил, когда бился об стекло, пепельницу с подоконника. Пришлось совсем
проснуться и пропылесосить ковер под окном. Холостяцкие заморочки с куревом.
Раньше, при жене, здесь стояли цветы.
«Когда теперь еще залетит ко мне какая-нибудь
птица?» – Подумал Он грустно. – «Может быть, начался тот самый отстрел
никчемного племени?»
Проза.
Людмила Осокина. Отрывок из романа «Козёл отпущения»
__________________________________________________________________
Людмила
Осокина
Людмила
Осокина – московская поэтесса. Автор поэтических книг «Природы затаенное дыханье», «Черная дверь»,
«Черная кошка» и т. д. Печаталась в таких изданиях, как «Юность», «Сельская
молодежь», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Истоки», «Дети Ра».
Член Московского Союза литераторов и Союза писателей Москвы. Главный редактор
«Библиотечки поэзии» СП Москвы. Помимо стихов пишет еще и прозу. Автор 1-го
выпуска альманаха «Эолова арфа».
И
КАКОЙ ЖЕ ЧЕРТ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?…
(Отрывок
из романа «Козел отпущения»)
Для
перемещений по Поднебью черти использовали ветра, или, как здесь их называли, – буйки.
Буйки
различались и по силе, и по скорости, и по направлениям. Для обычных поездок
использовались небольшие буйки силою 1 –2 узла и размером с небольшого
чертенка. Одного среднего черта или двух малых он запросто мог везти. Буйки
возили как на своих горбах, так и, для
удобства, их запрягали в тележки – клани. Горбы у буйков были изменчивые: если
садился один ездок, то буек выгибал два горба и черт садился между ними, если
ехали два нечистых, то буек делался трехгорбым, чтоб было удобно сидеть и было
за что держаться.
Молодые
черти ездили так, меж горбов. Солидные, степенные черти, бесяры и их мадам –
чертихи и бесихи, конечно же, закладывали клани. На буйка надевали красивую
упряжь, и он степенно двигался по назначению. Но степенно могли ходить только
такие же солидные буйки, как и их ездоки. Молодого буйка в упряжке было не
удержать. Он рвался вперед стремительно, порой переворачивая клани и выкидывая
на дорогу всех сидевших в них чертей, а порой и вовсе вырывался из упряжи и
улетал неведомо куда. А незадачливые седоки так и оставались с разинутыми ртами
посреди дороги. Поэтому, чтобы буйки нормально ходили, как заправские лошади
или верблюды, их нужно было учить этому сызмальства в специальной Школе
запряжной езды, а для полного контроля буйкам надо было подрезать крылья, а для
полного счастья приделать пару-другую ног. С ногами не так, как с крыльями, –
особо не разгуляешься! Буйки с приделанными ногами сначала не понимали, для
чего они нужны: они путались в них, спотыкались, а иногда, намаявшись, просто
отрывали и забрасывали их куда подальше. Но бескрылым буйкам приходилось к
ногам-таки приноравливаться, иначе перемещаться было проблематично. Но когда
они осваивали ноги, то тогда уже проблем с перевозками не возникало: буйки
становились совершенно послушными.
Для
перевозки больших грузов приходилось взращивать или ловить больших буйков. Для
скоростных поездок такие буйки были непригодны, так как ползли они как
черепахи, но скорость в данном случае была не так важна, главным было доставить
груз.
Большой
проблемой, связанной с буйками, было то, что каждый буек мог двигаться только в
одном направлении в зависимости от своего происхождения, ведь они по сути были
ветрами. Бывали восточные буйки, и двигаться с их помощью можно было только на
восток. Бывали – западные, и перемещаться они могли только на запад.
Соответственно существовали буйки северные, южные, а также более мелкие
промежуточные: северо-западные, северо-восточные, юго-западные и юго-восточные.
Так что на одном буйке мало кто куда ездил, приходилось запрягать целую упряжь,
как минимум четырех буйков, чтобы свобода движения ничем не ограничивалась. С
одним буйком пускалась в путь только какая-нибудь беднота. Им приходилось потом
нести своего буйка на собственном горбу, либо увязанным в дорожной сумке, так как
в обратном направлении он уже не мог сделать ни шагу. Богатые черти смеялись
над такими бедолагами: зачем было буйка заводить, чтобы потом его на себе
таскать! Правда, появились умельцы которые научились по необходимости менять
направление буйков. Но переориентировать буйка было не так просто: для этого
его надо было сдувать и надувать потом заново – противоположной силой. Путем
длительной селекции вывели некоторое количество двусторонних буйков. Сдувать их
уже не было необходимости, достаточно было лишь менять активный узел, повернув
рычаг, чтобы буек пошел в обратном направлении. Поднебесными умельцами выведено
было и некоторое количество разносторонних буйков, двигаться они могли в каком
угодно направлении, но они были плохо управляемы, их могло понести в какую
угодно сторону, так что перемещаться на них было весьма проблематично.
Частенько такой буек закручивался смерчом и уносил своих ездоков со всей
поклажей под облака или под самый небесный свод. Ударившись о небо, он
рассыпался мелким воздушным бисером, потом, медленно переливаясь огнями, как
северное сияние, опускался вниз. Завораживающее зрелище! Вместе с буйком
опускались вниз и его ездоки – черти, правда, намного быстрее, и страшно
ушибались, грохнувшись об землю. После этого особого желания ездить на таких
сомнительных буйках уже не было.
Бедным
было удобнее ездить на специальном ветровом такси: на одних буйках – в одном
направлении, на других – в другом. И стоило такое такси недорого, не то, что
собственный выезд. Ведь мало приобрести буйков, за ними еще нужно было
ухаживать. Их нужно было кормить свежесобранным воздухом, поить чистыми
дождями, выдувать из них пыль, вычищать грязь и даже выбрасывать разные мелкие
предметы, попавшие по дороге: мелкие камни, песок, траву, листья, сучки, ветки,
каких-либо комаров и мошек, и даже мелких животных и птиц. Все это буйки могли
засосать в свое нутро, двигаясь по дороге, либо случайно, либо преднамеренно,
для собственного развлечения, так как, честно говоря, работать лошадками по у
них не было ни малейшего желания. Они с тоской глядели на своих сородичей –
диких буйков, которые прозывались буйнаками, они целыми стадами обитали в
окружающей природе: в степях, лесах, горах, на морях и озерах. Дни напролет они
резвились, где им вздумается, иногда, для развлечения, налетали на чертовские
поселения, наводя там беспорядок и смуту. Иногда они лишь шалили, гоняя пыль во
дворе, да обрывая листья, а иногда и подвергали все хозяйство сущему разорению:
срывали крыши с домов, вырывали с корнем деревья, били окна, засыпали песком
сады и огороды.
Убегая,
буйнаки могли прихватить с собой и домашних буйков, если те были плохо
привязаны или не были спрятаны в сарае. Буйки и сами рады были сбежать из
неволи и порой умоляли набежавших буйнаков прихватить их с собой. Но по
большому счету, они не были им особо нужны, так как на воле домашним буйкам
жить было весьма проблематично. Дикая природа их пугала, и они или разучились
или не умели добывать себе пропитание. Да и в характере у них не было той
разбойности, которая была у буйнаков. Буйнакам было скучно с буйками, они их
презирали и потешались над ними. Так что порой какому-либо сбежавшему буйку
приходилось через некоторое время понуро возвращаться назад к своему хозяину.
Тот его примерно наказывал, но в дом принимал, так как буек все-таки был ценным
домашним животным и приносил существенную пользу чертовской семье.
Интервью. Людмила Осокина
______________________________________________________________
Людмила
Осокина
ТАЙНЫ КРЕСТА
(Женщина, которая не
тонет, открывает тайны Бытия)
Людмила
Осокина не просто поэтесса, она обладает
одним необыкновенным сверхфизическим свойством, а именно, ее тело не тонет в обычной пресной воде.
Это свойство появилось у нее где-то лет 8 назад. С той поры к Людмиле зачастили
телевизионщики. Известные российские каналы сделали о ней ряд передач.
Но
Людмила этому свойству самостоятельного значения не придает и считает его лишь
неким знаком другой своей уникальной способности: расшифровывать тайны бытия –
тайны Библии, креста и просто жизни. Она возлагает таким образом на себя пророческую миссию, а
ее способность не тонуть - всего лишь некий знак для того, чтобы ей поверили.
Предлагаем
интервью с Людмилой на одну из многочисленных и обширных тем о тайнах бытия.
Корр.: Людмила, вот вы говорите, что раскрыли
какие-то, никому до этого неведомые тайны креста. Я, вообще, не совсем понимаю,
какие у креста могут быть тайны? Ясно только, что это – один из христианских
символов – символ распятия Христа, поэтому крест носят верующие. Но какие еще у
креста могут быть тайны?
Л.О.: Я раньше тоже особо
этим вопросом не интересовалась. Чисто случайно возник этот интерес. Просто долгое
время мой путь от дома до работы пролегал мимо одной церкви. Небольшой такой
церквушки, увенчанной, как и положено, крестом. Это был очень величественный
крест: золотой, с тремя перекладинами. Он парил где-то там далеко, в лазурном
небе. Вечером небо становилось черно-синим и вот на великолепном глубоком фоне
этот золотой крест выглядел действительно грандиозно. Со временем я
присмотрелась к нему. Он притягивал меня все больше и больше. И я стала
размышлять.
Корр.: Что же в нем было необычного?
Л.О.: Многое. Даже чисто
внешне. У православного креста три
перекладины, а не одна. Как у католического. Эти перекладины разной
длины по отношению друг к другу. Верхняя, например, самая короткая, средняя –
центральная – самая длинная, а нижняя еще к тому же и наклонная. Почему так?
Может, кто-то и думал над этим вопросом, но особо не задумывался, наверное,
воспринимая всё как само собой разумеющееся. Но самое главное конечно, не во
внешних деталях, а во внутренних мистических откровениях, которые открыл мне крест.
Корр.:
Расскажите. Пожалуйста, что это за откровения.
Л.О.: Тайн много, и они
удивительны. Я сама была удивлена этой информацией. Такого я не ожидала, кроме
того, я нигде ни в какой литературе подобных откровений больше не встречала.
Корр.: Это
тем более интересно. Значит, ваши открытия будут иметь особую ценность.
Л.О.: Надеюсь на это.
Первое, что мне открылось, так это то, что крест является идеальной моделью
мироздания, в нем в зашифрованном виде сокрыто и наше прошлое, и настоящее, и
будущее. Сокрыта даже информация о конце света.
Корр.: Вы
меня очень заинтриговали, это действительно серьезная информация, многие ученые
умы бьются над разгадкой подобных вопросов. Даже удивительно, почему ее узнали
именно вы, а не какие-то известные ученые или мистики. Ну а что-нибудь
поконкретнее?
Л.О.: Я выяснила, почему у
православного креста именно три перекладины, а не одна.
Корр.: Ну, наверное, потому что на нем был распят Христос: на
верхней перекладине была прикреплена табличка: «Царь Иудейский», на средней –
располагались руки Христа, а нижняя – служила подставкой для ног.
Л.О.: Я понимаю вашу
иронию и согласна в какой-то мере и с этой трактовкой. Это, так сказать,
экзотерическая трактовка, для народа. А вот эзотерическая, то есть тайная,
несколько иная.
Корр.: Хотелось бы узнать, какая же.
Л.О.: Эта трактовка, как
ни странно вам знакома, только ею оперируют
в несколько иной области – в научной. Дело в том, что мы живем в третьем
измерении, поэтому и крест наш – тройной. Именно этот факт и констатируют
три перекладины креста.
Корр.:
Оригинально.
Вы как-то органично соединили в этом факте религиозные и научные данные, и они
почему-то между собой не конфликтуют, а наоборот – поддерживают друг друга. Как
вам это удалось?
Л.О.: Как-то удалось. Так
оно и должно быть в реальных открытиях: религиозные факты должны поддерживать
науку, научные – религию. Здесь никакого противоречия нет. Оно есть в том
случае, если сами факты – недостоверные или информация ложная.
Корр.:
Если
уж зашел вопрос об измерениях, может быть, вы знаете, почему в мы живем именно
в третьем измерении?
Л.О.: Потому что сюда
попали наши прародители: Адам и Ева. Это связано с грехопадением. Ещё раз
повторяю с грехо-падением наших прародителей. В результате совершенного греха
они упали, они совершили тройной грех: духом, душой и телом и поэтому попали
именно в третье измерение, в третий мир. Кстати, на третью планету от Солнца.
Они, получается, трижды отдалились от Бога. Умерли, так сказать, «тройной»
смертью.
Корр.: А почему – умерли? Вроде бы Адам и Ева на Земле еще
долго жили и положили начало роду человеческому и нам с вами, в том числе.
Л.О.: Они действительно
умерли, хотя и существовали потом. Но то, что мы называем жизнью, это есть
смерть с точки зрения Бога. Смерть – это падение, удаление от Бога, а не потеря
физического тела. Разрыв связи с Богом, погружение во тьму духовную, это и есть
смерть. Поэтому все на земле, начиная с Адама и Евы уже мертвы. Об этом как раз
и говорил Христос: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Под «мертвыми» он
имел в виду людей.
Корр.: Интересно вы говорите. Вот уж не думала, что
такое узнаю. Как-то не совсем приятно ощущать себя в новом качестве.
Л.О.: Мне тоже, признаюсь. А что делать? Такова судьба человеческая,
которую нам наши прародители уготовили, за их грехи, так сказать, страдаем. Но
деться от этого, к сожалению, некуда.
Корр.: А что означают эти три перекладины, каждая в
отдельности, например?
Л.О.: Они означают наши
миры. Верхняя обозначает Первый, Божественный мир, Небо. В этом мире находится
Бог, ангелы, архангелы, святые, короче, все светлые силы. Вторая перекладина
обозначает Второй мир, средний мир, который находится между Небом и Землей.
Это, если так можно выразиться, полусвет. Я называю этот мир для себя
Поднебьем. Это не светлый мир и не темный, скорее серый или серебристый, лунный
мир. В нем живет Сатана и ангелы его.
Третья,
нижняя перекладина означает соответственно Землю, наш Третий мир. Здесь живут
люди, и правителем нашего мира является Князь Тьмы.
Корр.: Почему именно третья
перекладина православного креста – наклонная?
Л.О.: Наклонная перекладина
или косой крест, означает неопределенность, нестабильность Третьего мира, мира
людей. Это своеобразная наклонная плоскость, по которой можно скатиться и
дальше вниз. Это символ дальнейшей и уже окончательной смерти.
Корр.: А разве мы уже не мертвые, вы же сами
говорили, что все на земле уже давно мертвы?
Л.О.: Есть мертвые, а есть
мертвецы и это не одно и то же. Человек, рожденный на земле, должен еще раз
умереть, хотя для Неба он уже трижды умер. В данном случае уже своей обычной
земной смертью, превратиться, так сказать, в мертвеца и упокоиться в земле. Ибо
как сказал Бог Адаму «ибо прах ты и во прах обратишься». А чего вы хотели? Бог
создал Адама из земли, из праха земного, во прах он потом и возвернулся. А как
будто могло в этом случае быть иначе. Из дерьма, как говорится, конфетку не
сделаешь.
Корр.: Но, может быть,
все-таки, есть какой-то выход. Может быть, судьба человеческая не такая уж
безысходная. Ведь третья перекладина одним концом показывает вниз, а другим –
вверх. Значит, люди могут не только скатиться вниз, но и подняться наверх.
Л.О.: Может быть, и можно,
но только я сомневаюсь, потому что вверх дороги нет.
Корр.: Почему – нет?
Л.О.: Потому что. По моим
сведениям, двигаться по кресту можно только в одном направлении: сверху вниз.
Так наш крест, можно сказать, заточен.
Корр.: Но почему?
Л.О.: А вот это как раз
тайна четвертой перекладины креста.
Корр.: Четвертой? А где она
располагается?
Л.О.: Там же, на кресте.
Вы совсем упустили из виду вертикаль креста.
Корр.: Ну да, конечно. Она
соединяет между собой все три горизонтальные перекладины. Но, поскольку она
располагается по-другому, ее как-то особо и не замечаешь.
Л.О.: Но о четвертой
перекладине креста я расскажу в следующий раз,
поскольку
это отдельная и довольно большая история.
Поэзия.
Маргарита Яньшина
__________________________________________________________________
Маргарита
Яньшина
Маргарита
Яньшина родилась 19 апреля 1969 года в Москве. В 1992 году окончила МГИК
(Московский Государственный институт культуры), библиотечный факультет. В 2004
году окончила литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. В
2006 году поступила в аспирантуру Российского института культурологии, учится
на отделении теории и истории культуры. С 1992 года работает в НИИ
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, в организационном отделе. Автор книги
«Стихотворения» (1999). Автор 1-го выпуска альманаха «Эолова арфа». Участвует в
разных литературных вечерах.
В
Интернете Маргарита Яньшина выступает под псевдонимом Маргарита Саламова, на
сайте stihi.ru («Стихира»).
***
Мне этот свет дарован был всего на час,
Я в это время многое успела:
Чтоб дело рук совпало с целью глаз, -
Но лампочка перегорела.
И небо было целый день моим,
Оно лилось на землю без предела,
Огнём пылая ярко-голубым,
Но тут от красоты - душа сгорела.
Я родилась лишь раз - и раз умру,
Но утверждаю, что принять готова
За сто тысячелетий - жизнь одну.
Бог щедр.
Он даровал мне слишком много.
***
Для души глубока отрада -
Голубые горят купола,
В них речная дышит прохлада
И небесные колокола:
Белый свет, золотые звезды,
До земли дорогой поклон,
Синий месяц и синий воздух,
Подсердечный протяжный звон.
Слаще мёда, согласней лада,
И нежнее первого льда,
Голубиная их плеяда
К глазу - радостью прилегла,
Подарила покой природе,
Завершая навершье горы,
Говоря о последней свободе
Приносящему все дары...
***
За несколько часов до Воскресенья
Мир опустел.
Но даль была ясна.
Скончался Бог.
И стал добычей тленья,
Осталась Богородица одна.
Померкнул вечер.
Времени не стало, -
Но сколько сделать дел она должна!
Она три ночи на руках усталых
Всё мирозданье как дитя несла.
Но сами в пальцах вспыхивают свечи,
Потрескивая тихо, каплет воск, -
И, разорвав дурную бесконечность
Как пелену,
встает Исус Христос.
Вот он выходит из земного чрева, -
Словно вторично матерью рожден,
Путем зерна, воскресшего в посевах, -
И молча смотрит Пресвятая Дева
Как меж людей незримо ходит ОН.
***
Он воскрес, я видела Его! -
Темнота и тишь. Благоуханье.
Обогнув оплавленные камни,
Ангелу я кланяюсь земно.
Пустота... Разломленные плиты...
Окровавленная пелена
Расплескалась в черепках разбитых
Спекшегося сгустком полотна.
Выхожу из склепа, как из миквы -
Я, в слезах омытая, чиста.
Здесь, под небом, свернутым как свиток,
Так была крепка моя молитва, -
Что Христа в гробу я не нашла!
***
I saw the chapel all of gold
Перевод стихотворения В. Блейка
Я видел церковь в золоте сиянья,
Но оробел и не посмел зайти:
Скорбящие стояли на пути,
Молитвы слышались, и вздохи, и рыданья.
Увиделья, что Змей, как изваянье,
Поднялся между белыми дверьми
И втиснулся насильственно внутрь зданья,
Срывая створку с золотой петли.
Там, где рубинов алая заря
И свет, и тень сливаются жемчужно, -
Он тело проволок свое,
Натужно
Извергнув яд в святыню алтаря.
Коль в скинии, где все освящено,
Им Хлеб отравлен, так же как Вино,
Коль им и плоть отравлена, и Кровь -
Я предпочту в свой хлев вернуться вновь!
АПОКАЛИПСИС
Всё
это было уже:
Тёмный свод и коптящие свечи,
Катакомбные тихие речи
О любви, о бессмертной душе.
Споры близких учеников,
И предательство казначея,
Казнь невинного Варфоломея,
Отречение робких Петров.
Жаркий спор из-за «Йоты» одной,
Редактированье писаний,
Злобы нежные лобызанья
И позора символ святой.
Гибель многих и многих за то,
Что безумием новым казалось,
И мудрейших кроткая жалость
Перед мечущей камни толпой.
Век, сломавшийся на рубеже,
Апокалипсис перед дверями:
Что случилось внезапно с нами -
Всё это было уже.
1994 - 1998
***
Октябрь был месяцем любви -
А что мне принесет ноябрь?
Сижу - как ведьма у реки,
И жду козлёночка - тебя.
Гляжу, сверкая из под косм
Кровавым выпуклым зрачком,
А в сердце - леденистый ком
Еще не выплаканных слез.
Подходишь, разрывая круг,
Копытца - лезвия ножей,
Я расплетаю змеи рук,
Чтобы твою погладить шерсть.
Я не могу не поднять ножа,-
Мне больше жертв не приносить,
Сломилось лезвие-душа
Пред детской просьбой: "Дай попить+"
Ты - чудом спрыгнувший с костра -
Не ставший отбивной на пире,
Позвал меня к себе: "Сестра+
Одна-единственная+ в мире+"
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
..............Им соблазнимся, как далекий предок
..............И женщине любимой поднесем!
.................(Хронос)
Вот так всю жизнь!
............Ждала его, заразу,
И циферблата тусклый окоЁм
Глядел мне в переносье тухлым глазом,
Минут орешки щелкал день за днем.
Вдруг замутился мирный водоем -
Движенье в зеркалах.
...............Лягушкой в тину -
Ты вплыл в мой мирно захрапевший дом,
В натопленную сонную квартиру.
На улицах был март
...............и выходной, -
Кто водку пил, кто так бродил по лужам,
Ты кое-как отпраздновал с женой,
А я - неплохо закусила с мужем.
Но сердце!
............Сердце жаждало любви,
Страстей и жертв,
........... И дорогих подарков,
К балкону подплывал сам Ричард Гир
С букетом роз на пятьдесят каратов+
Ну, как тут скрыть обиды горькой стон? -
Ты был с авоськой
..................И достал поспешно
Из недр ее коричневых: батон,
Три яблока, варенье из черешни, -
И гроздь бананов сверху положил+
Так верный пес своей хозяйке
..........................крысу
Приносит.
...........И на крик ее: Фу, Джим! -
Недоуменным отвечает визгом.
Особенно бананы+
..........Фрейд, молчать!
Поручик, фу!
..........И фрукт, весьма подгнивший,
Был выброшен.
..............Молчанье.
.....................Пили чай.
Нас было двое -
..............и один был лишний.
Но прервала наш скучный тет-а-тет
Соседка Роза из седьмой квартиры.
Пришла, неумолимая как смерть,
Вся в позднеклимактическом приливе:
У них текло.
.........Стекало по усам
И в рот не попадало, вероятно?
Ты встал, прощаясь, -
.........Ты все понял сам,
И я уж не ждала тебя обратно+
А яблоко - запретный, райский плод -
Осталось невкушенным в этот полдень+
- Ты заходи еще!
....................+под Новый год, -
И приноси в корзинке желтый гольден.
Критика.
Лола Звонарева, Ивайло Петров
__________________________________________________________________
Лола
Звонарева, Ивайло Петров
ЖЕНЩИНА,
ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ В ЛИРИКЕ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА
«Старайтесь
всегда думать только высокими категориями, например: правда, долг, родина,
женщина,
Бог…»
Юрий Кузнецов (4, с.
228)
«Прозрение
во тьме» называется один из сборников поэта. И действительно, одна из задач
философской лирики Ю. Кузнецова – очистить знакомые слова от налипших старых
смыслов и показать многомерность данного
явления или состояния в его истинном, глубинном виде, уточняя две позиции:
каким его сделали время, эпоха или люди и каким оно было задумано Божьим,
высшим промыслом.
Стремление
разобраться в том, как понимал поэт три
важнейшие составляющие повседневной жизни – женщину, любовь, семью – и
заставили нас выделить их в три самостоятельных раздела нашего сообщения.
Женщина:
«И красота идет, как совесть, // И совесть – будто
красота»…
(1, с. 43)
Образ
женщины в поэзии Ю. Кузнецова пережил значительную эволюцию. В текстах поэта женское начало, как правило, амбивалентно
и мифологизировано: «Ты женщина, // а это ветер о вольности…» (4, с. 127). Уже
начиная с 1959 года образ девушки (женщины) начинает раздваиваться и тревожить
автора своей нестабильностью: «А вдруг я тебя придумал!» - спрашивает себя
лирический герой стихотворения «Мечта»
1964 года (1, с. 68). За смазливым личиком знакомой красотки нередко проступает
совсем другие лики - агрессивные и злобные маски, и какое из этих лиц -
истинное, сказать трудно: «Но мне кажется, странно кажется - // Полюблю я тебя,
и окажется, // Что вблизи ты совсем другая, - // Как в ладонях морская вода»
(1, с. 31); «Бабье лето приходит к девчонке… « (1, с. 35)..
Перечислим
наиболее часто встречающиеся в текстах поэта женские ипостаси. Это мать («безумная мать поэта» из стихотворения
«Последний вагон» 1965, и «обмороженная сединой» мама из стихотворения «Память»
1965 года, возлюбленная (она часто оказывается безымянной в стихах поэта,
обозначаемая местоимением второго или третьего лица), жена (в образе которой
тоже немало таинственного, потустороннего – «Хлеб и соль на столе // И летает
жена на метле» -1, с. 23), Родина-мать
(«Гей, Кубань, ты наша матушка!» из стихотворения «Ребрышко» 1996 года – 1, с.
367), таинственная русалка, способная погубить неосторожно полюбившего ее
человека из стихотворения «Русалка», мать-земля («Россия стоит надо мною. //
Как круги под глазами, // Траншеи на бледном лице у нее…» из стихотворения «Слезы России», 1965 (1, с.
71) или: «Видно, мать-земля дала промашку: // В мертвый час в сиянье голубом //
Сшила мне счастливую рубашку // На живую нитку, на потом» - в стихотворении
«Рубашка» 1997 года (1, с. 379), «Хотя страна давно его отпела // На все свои
стальные голоса, // Но мать-земля не принимает тело, // А душу отвергают
небеса» (1, с. 21), даже мать – Вселенная («Мать – Вселенную поверну вверх
дном, // А потом засну богатырским сном» - 1, с. 27), степь («Раскинув руки,
тихо степь лежала, // Она спала. // А я стерег ее» - «В карауле», 1962, (1, с.
63), война («Война травой покроется…») («Картинка 1945 года». 1965 – 1, с.
78), сама смерть (непременно в женском
обличии – вспомним стихотворение «Сонная беседа» 1999 года – «Русь исчезает
навсегда, // … Свистит ли чертик в бабью щель, // Или бормочет смерть-старуха..»
(1, с. 400).
Причем
тенденция к такому мифологизированному восприятию женщины наметилась уже в
творчестве совсем юного поэта. Так, в его стихотворении 1957 года образ милой
девушки явно внутренне рифмуется с образом любимой Родины: «Синий купол света
над Россией, // Синий блеск в высоких воздусях. // И во сне кусочек неба синий
// Я увидел в девичьих глазах» (1, с. 19).
Уже
в стихах начинающего поэта 1957 года довольно часто появляется образ матери,
вносящий ощутимое тепло в состояние осеннего неуюта. Так, стихотворение «Конец
ноября» 1957 года заканчивается двустишием: «А беспокойная мама // Топит
веселую печку» (1, с. 21).
Любимая
девушка в стихах молодого Ю.Кузнецова нередко выразительно отражается в
природе, и тогда образ ее обретает монументальность и объемность: «Ты губами
своими, как чаем, // Через ветер меня обожгла. // Только птица небесная знала,
// Что забудешь ты землю и сад, Где не раз твое чувство сгорало, // Как сгорает
во мраке закат» (1, с.28).
Но
уже в 1960 году поэт понимает, вслед за З. Н. Гиппиус, которой за сто лет до
этого было нужно «то, чего нет на свете», что лирический идеал недостижим и
идеальную девушку своей мечты он не сможет встретить никогда: «Иду из тьмы на
свет // Я с девушкой хорошей, // Которой
в мире нет» (1, с. 33).
В
трагической обреченности, с которой всматривается лирический герой поэта в
постоянно двоящиеся и меняющиеся женские лики в пестром карнавале жизни, скрыта
внутренняя перекличка с той значительностью, с которой подчеркивают
судьбоносную важность ВЫБОРА главной женщины своей жизни современные
отечественные прозаики среднего поколения. Выбор твоей главной женщины – это
выбор твоей будущей судьбы. Об этом размышляет, к примеру, главный герой
повести Б. Евсеева «Романчик», понимая, что с одной девушкой он быстро окажется
в эмиграции, с другой - будет вынужден сосредоточиться на добыче материальных
средств и лишь с одной единственной сможет остаться собой и погрузиться в
реализацию творческих замыслов.
Недаром
с такой иронией пишет Ю. Кузнецов о лирическом герое стихотворения «Глупый
человек» 1965 года: «Его подруга топнет // От злости и обиды. // Бродягой,
неудачником, // Поэтом обзовет…» (1, с. 81).
Настороженную
опасливость и в то же время внутреннюю оправданность сделанного наспех или
неточно выбора подчеркивает лирический герой стихотворения «Карандаши»: «Как мы
бережем чистый стержень души, // Влюбляясь в пустейших девчонок!» (1, с. 44)
Поэт
постоянно убеждался, что уже совсем юными девушками любовь понимается как
основное жизненное предназначенье, они внутренне искренне сосредоточены на ее
ожидании и воспринимают ее отсутствие как личную трагедию: «Она меня не
замечала, // Ждала волненья и любви, // Как будто зарево, вздымала // Глаза
тревожные свои» («Багульник», 1962 - 1, с. 58).
Спустя
годы девичий смех будет восприниматься поэтом как символ искушений и
заблуждений ранней юности, за которым стоит неизбежное прощание. Поэтому
основной мотив стихотворения 1997 года «Девичий смех» - это грустноватое
прощание с уходящей навсегда молодостью, наполненной любовными тревогами и
волнениями, в которых поэту особенно дорога душевная чистота ранней юности, еще
свободной от грозных страстей зрелости: «Вся она, как легкая пушинка, // И
душой чиста, как первый снег. // - Весело тебе, моя смешинка? - // И ее целую в
пересмех. // Первою любовью ослепило, // Первою молвою обожгло. // А потом от
сердца отступило, // А потом и дальше отошло. // Только сердцу старому
неймется: // Девушка смеется у ворот. // Столько лет стоит, не отсмеется, //
Столько лет никак не отойдет» (1, с. 384).
Любая
деталь женского облика под пером поэта легко становится символической. Так, в
стихотворении 1996 года «Сухой лед» сухой лед девичьих слез противопоставляется
воде женских слез. За женскими слезами стоят долгие, почти безнадежные поиски
утраченного любимого – утверждает поэт в финале этого стихотворения. Неслучайно
роман Марии Арбатовой на эту тем у так называется «Семилетка поиска».В то же
время болтливость воспринимается поэтом как отличительная, чисто женская черта
(недаром он сам отличался особой замкнутостью, неразговорчивостью). Так, в
стихотворении 1997 года «Дети кукушки» уже в первой строке встречаем суровый
упрек нашим разговорчивым современникам: «Ну что за людишки! Как бабы трещат,
// Когда мы в народе толпимся…» (1, с. 375).
В
одном из стихотворений 1996 года поэт создает трагический образ горящей Родины.
Драматическую миниатюру поэт неожиданно завершает гротесковым, карикатурным
образом былых восточнославянских соотечественников, предавших своих русских
сотоварищей, оказавшийся пророческим и настолько созвучным народному сознанию,
что уже в наши дни, спустя годы после ухода Ю. Кузнецова в мир иной, он
возродился в анекдотической форме (мы имеем в виде популярный в современных
анекдотах сюжет с украинским президентом Ющенко, ворующим угли из костра, на
котором его поджаривают русские политические лидеры) : «Тень от тучи Родину
нашарила. // Матушка! Темно в твоих глазах. // Во все небо молния ударила. //
Родина! Ведь это наш зигзаг….// Вся страна горит подножным пламенем, / И
глазами хлопает народ. // Матерь Божья, хоть под красным знаменем // Выноси
святых огнем вперед! // Мы сойдемся на святом пожарище // Угли покаяния
сбирать. // А друзья и бывшие товарищи // Будут наши угли воровать» (1, с.
365).
Женское
начало в традиционном русском характере, о котором много писали американские
исследователи, раздражало мужественную натуру поэта, особенно когда речь заходила о судьбах Родины
и посланных в 90-е годы на ее долю испытаниях: «В который раз горит Москва, //
Слова любви жестоки. // Как баба, Русь щипком жива… // Еще не вышли сроки…»
(«Еще не вышли сроки», 1996 – 1, с. 364).
Зрелый
Ю. Кузнецов попытался создать своеобразную формулу Женщины, убеждающую, что
более всего поэт ценил в своем идеале Прекрасной Дамы материнское начало,
интуитивное стремящееся к гармонии, органическому и надежному соединению с
мужским, признавая все же, что до конца Женщина способна подчиниться и признать
над собой лишь власть реальной мужской силы – силы характера или силы Эроса -
не столь важно: «Мужчину гроза раскрывает, // А женщину – тишь или гладь. // В
мужчине ребенок играет, // А в женщине – вечна мать. // Мужчина – герой или
странник, // Ему ненавистен покой, // Не он ее верный избранник, // А тот, кто
владеет грозой» (1, с. 234).
Любовь:
«Но сберег я свое богатство – Никому не сказал: люблю» (1,
с.
50)
Никогда
и никто до Ю. Кузнецова не сравнивал любовь с павлином. Но в стихотворении 1993
года «Крик павлина» есть не только оригинальная, новаторская метафора, но и
точная психологическая находка: «Павлин, есть притча, он – изгнанник рая // О
том кричит он голосом дурным. // И ты, любовь, пером. Как жар, играя, // И ты в
раю сияла вместе с ним. // Сердца двоих свела ты воедино // В счастливое пустое
божество. // Любовь глядит в сто глаз, как хвост павлина, // Опричь себя не
видя ничего… // Павлин кричит – и чахнет вся долина // От мертвенного голоса
его» (1, с. 334).
На
наш взгляд, это сравнение необычайно точно отражает то современное состояние,
которое переживает широко распространенная и примитивно понимаемая любовь, а
точнее – кратковременная влюбленность или выдаваемое за нее плотское желание
свежих эротических впечатлений в современном обществе, воспетая в тысячах песен
и описанная в сотнях любовных романов. В современной любви (как ее понимает
среднестатистический россиянин начала ХХI
века) сильна эгоистическая составляющая - элемент самолюбования, мертвенного
эгоцентризма, желания похвастаться предметом влюбленности перед окружающими,
сразу включающими одушевленный предмет хвастовства в один престижный ряд с
новой машиной, модной одеждой, дорогими аксессуарами. И еще – слепая упоенность
друг другом, когда весь окружающий мир оставляет влюбленных, замкнутых лишь
друг на друге, глубоко равнодушным. Кузнецов, судя по воспоминаниям, считал,
что многие поэты не знают «любви, не умеют писать о любви, умеют – лишь о
страсти, а ведь это – разные вещи» (4, с. 229).
Поэзия
любовного расставанья – таков один из центральных мотивов лирики Ю.Кузнецова
Так, в стихотворении «Родинка» 1997 года лирические герои прощаются навсегда, и
автор описывает этот драматический момент через точно найденную символическую
деталь, помогающую ему подчеркнуть неповторимую физическую индивидуальность
любимого существа: «Ты уже не знала: люб – не люб, // Ты глаза закрыла от
стыда. // Обнял я тебя и краем губ // Родинки коснулся навсегда…» (1, с. 385).
Но
любовь лирического героя Ю. Кузнецова, при всей физической конкретности,
неизменно одухотворена, в ней глубоко участвует душа, поэтому вслед за явно
перекликающемся с лирикой А. Блока мотивом «светлого лица», убранного со стола
в виде портрета в небытие, возникает
мотив бессмертной души, которая никогда не сможет забыть пережитой любви:
«Разомкнулось рук моих кольца. // Затерялось в мировой глуши // Светлое
небесное лицо // И земное пятнышко души» (1, с. 385).
Прощание
с любимой, ее уход способен стать опустошительной трагедией даже для сильной
личности. Об этом – стихотворение «Ручей» 1997 года с его трагическим финалом:
«Она ушла, и все ушло. // Он стал пересыхать. // Что ей шептал он на ушло, //
Теперь не услыхать» (1, с. 383).
И
в то же время влюбленный лирический герой может быть настолько жестоким, что
знаменитый завет Ницше из «Так говорил Заратустра» «подтолкни падающего» вполне
способен отнести к разлюбленной женщине: «Ты в любви не минувшим, а новым
богат, // Подтолкни уходящую женщину, брат» (1, с. 144, 1972).
Уже
в 1966 году, размышляя о трагической судьбе
матери-вдовы, поэт в стихах постоянно возвращался к драматической сцене
прощанья с любимым сыном, уходящим в иную, взрослую жизнь - уезжающим в другой
город. Об этом стихи 1966 года «Школьное наследство» и «Параллель разлуки», в
которых возникает «тень матери – трагическая тень» (1, с. 92) и «…за окном
стоит, как блик от лампы, // Бегущий отсвет матери моей» (1, с. 93).
Исследуя
в стихах национальный женский характер, поэт приходит к выводу, что материнское
начало столь сильно в женской русской натуре, что преодолевает все возможные
преграды, включая национальные, политические. В стихотворении «Русская бабка»
немецкий солдат внутренний зрением прозревает немецкую мать в связавшей ему
носки русской вдове, потерявшей на войне всех сыновей.
Из
выделенных американским исследователем Мэйом Ролло типов любви, таких, как
секс, эрос, филия, агапе, герои поэзии Кузнецова одинаково часто переживают
сексуальное влечение (его лирика порой довольно эротична), как и любовь
асексуальную – Агапе, которую протестантский теолог Андерс Нюгрен определил как
любовь центробежную. В таком подходе проявляется характерный для различных
определений любви элемент – стремление к соединению. Как пишет французский
метафизик. М. Недонселль, любовь не призвана для одиночества, она всегда жаждет
максимум взаимности. В интервью Геннадию Красникову 27 октября 1998 года Юрий
Кузнецов говорил: «Термин «лирический герой» - фикция, они придуман критиками
для литературного удобства. На самом деле поэт пишет только себя… В ней (в
любовной лирике – Л.З., И.П.) бывает то, чего в жизни не было, но могло быть…»
(4, 144).
Семья:
«Мать уходит в прошлое, как по воду…» («Память», 1965)
В
одной из частных бесед Ю. Кузнецов высказал свою точку зрения на домашнюю жизнь
поэта: «У поэта должна быть жена». Это утверждение можно было бы заподозрить в
банальности, если не учесть то, что литературные лидеры Серебряного века
разрушили в массовом сознании традиционную модель семьи поэта (предлагая все
возможные варианты, стоит только вспомнить «семейные истории» М.Кузьмина,
домашние трагедии А. Ахматовой, М. Цветаевой, Вячеслава Иванова, Д.
Мережковского, З. Гиппиус, Д. Философова, В. Маяковского, В. Брюсова, К.
Бальмонта). Неслучайно сам поэт при знавался: «…я… женился, чем окончательно
довершил падение своего романтизма» (4, с. 130).
Но
можно уточнить мысль писателя – поэт порой «женат на работе» (как это
случалось, судя по анекдотам, с одним из последних мэров Нью-Йорка, итальянцем по происхождению) и
беззаветно предан только Музе, творчеству и любимой идее.
И
все же семья является главной, безусловной ценностью в художественном мире Ю.
Кузнецова. Потому измена – как попытка слома семейной твердыни – подается им в
стихах 1980 года как подлинная трагедия: «Что тебе до семейных измен? // Что
тебе до разорванных звеньев? // Что тебе до обрушенных стен? // Что тебе до
летящих каменьев?» (4, с. 134). Перед семьей отступает любовь и смиряются
страсти. Она один из трех китов, на которых покоится художественная вселенная
поэта, а если перечислить их всех, то это - семья, творчество, Отечество.
Причем
Юрий Кузнецов видел женское начало предельно заземленным, сознательно замыкая
его на семье, доме, единственном мужчине – муже и отце, почти отказывая женщине
в праве на самостоятельное творчество: «…в поэзии для него (для прекрасного
пола – Л. З., И. П.) существует только три пути: рукоделие (тип Ахматовой),
история (тип Цветаевой) и подражание (общий безликий тип). Кто думает иначе,
тот не понимает природы творчества» (2, с. 6).
Уже
в раннем стихотворении 1965 года «Не выходят стихи…» лирический герой
размышляет о том, не найти ли выход из жизненных неурядиц в… женитьбе: «Мама,
мама, ваш сын неудачник, // Ваш сын неприкаянный ходит… // Понимаете, жизнь не
выходит, // Может, время жениться // И шлепанцев пару купить?» (2, с. 84).
Здесь ощутима интонационная перекличка с любовным фрагментом из поэмы В.
Маяковского «Облако в штанах» («Мама, ваш сын прекрасно болен, // Мама, у него
пожар сердца…»).
В
раннем детстве будущий поэт, после безвременной гибели отца, не понаслышке
узнал, что такое сиротство. Семье, разрушенной войной, посвящено одно из самых
ранних стихов Ю. Кузнецова 1954 года, где есть такие строки: «Заплачут дети,
мать их зарыдает, // И слезы литься будут без конца. // Но детям что! Они не
понимают, // Как будто вовсе не было отца» (1, с. 17). и более позднее
стихотворение 1965 года «Отец в сорок четвертом» :»Я снюсь отцу за два часа до
взрыва, // Что встанет между нами навсегда. // От той взрывной волны, летящей
круто, // Мать вздрогнет в тишине еще не раз. // Вот он встает, идет, еще
минута - // Начнется безотцовщина
сейчас!» (1, с. 77).
При
помощи поэзии молодой поэт словно стремится заполнить этот появившийся после
гибели отца вакуум в семейной жизни, отважно дорисовывая его образ, оживляя его
доступными поэту художественными
средствами: «Надо мною дымится // пробитое пулями солнце. // Смотрит с фото
отец, // измотанный долгой бессоннице, // Поседевший без старости, // в
обожженной измятой каске… Мне в наследство достался // не увиденный взгляд
усталый // На почти не хрустящей // фотокарточке старой» (1959, 1, с. 29).
Образы
любимых людей – отца, бабки, деда – воссоздает Ю. К. в стихотворении «Песня» 1961
года – вновь и вновь возвращаясь к тому моменту, когда все они были живы и
бережно хранили свой очаг: «И бабка вместо иконы вешает // клетку с птицей… //
Отец уходя из дому, // шершавой рукою гладит // Детей и родные стены, // а
стены уже горят…» (1, с. 54).
Стремление
встретить родного человека – мечта лирического героя раннего стихотворения Ю.
Кузнецова. «Полные паруса»: «Бурей обожженные, // Мы встанем, как родня. // С
рыбацкими женами // Встретишь ты меня» (1, с. 40).
Уже
в 1965 году поэт понимал семью как суровое испытание повседневностью, которое
выдержать дано не многим: «Но на медленном пламени будней // Мы сгораем, как
еретики» (1, с. 82).
Главной
трагедией беженца в одноименном стихотворении 1993 года поэт считает то, что
беженец остался в полном одиночестве – «Он стоит – ни крохи, ни семьи… // _ Это
все, что от меня осталось, // Говорит на
собственную тень» (1, с. 335).
В
позднем стихотворении 1998 года «Спортивная история» влюбленного лирического
героя смущает факт, что объект его страсти замужем: «Но замужем была – меня
немало // Подобное препятствие смущало»… (1, с. 392).
Отец
двоих дочерей, поэт не без тревоги вглядывался в лица потенциальных
родственников, возможных женихов и будущих зятьев, выстраивая печально
популярную в столичных городах модель вполне реальных внутрисемейных отношений
в стихотворении «Кот» 1996 года, в котором наивная дочь, не сумевшая вовремя
увидеть истинное лицо избранника, провоцирует изгнание отца из семейного гнезда
агрессивным примаком: «О благородстве, о семье, о мире // Ему вещала добрая
душа. // Но выгнал кот хозяина квартиры // На городскую свалку, как бомжа» (1,
с. 373).
Амбивалентность
женской составляющей бытия тщательно исследована в поэзии Юрия Кузнецова.
Агрессивно-самодовольное или равнодушно-разрушительное женское начало, несущее
смерть (вспомним судьбу А. С. Пушкина или Н. А. Рубцова), дополнено образами
злой, легкомысленной и совсем иной вариант - мудрой подруги, способных,
соответственно, или превратить в постоянную муку и непрерывное страдание жизнь
супруга или, наоборот, – сделать более уютным (благодаря теплому семейному
гнезду) суровый мир, окружающий современного мужчину.
Наша
конференция и сборники материалов, вышедшие благодаря подвижнической
деятельности Батимы Кузнецовой, убедительно доказывают, что главную женщину
своей судьбы, постоянную героиню своей лирики Ю. К. выбрал правильно. Именно
благодаря ее самоотверженному служению памяти ушедшего супруга после ухода
этого трагического титана нашей поэзии, поэта ярко выраженного дионисийского дарования
началось подлинное возвращение его литературного наследия к любящим поэзию
читателям разных поколений.
Использованная
литература:
1.
Кузнецов Ю. Бис. – М.: Молодая гвардия, 1990 г.
2.
Кузнецов Ю. Прозрение во тьме. - Краснодар: 2007 г.
3.
«Сын Отечества». Вторая ежегодная международная конференция, посвященная
творческому наследию Ю. Кузнецова. 13-14 февраля 2008 г.
4.
Мир мой неуютный. Воспоминания о Юрии Кузнецове. – М.: Литературная Россия,
2007 г.
Стихи.
Рада Владова
__________________________________________________________________
Рада
Владова
Рада
Владова родилась и живет в Москве. Училась в институте МГЗПИ им. Ленина.
Поэтесса, филолог, эссеист, художник. Член Московского Союза литераторов. Печаталась
в журналах «Острова», «Золотое перо», «Своим путем», «Литературные страницы» и
т. д. Автор работ об уроженцах «золотого треугольника России» А. Кольцове, И.
Никитине, А. Фете, И. Тургеневе, Н. Лескове, А. Андрееве, М. Пришвине, И.
Бунине. Автор книг «Стихотворения 1979 – 1997» (1997), «Золотой треугольник»
(1998), «Ретро» (1998), «Орхидея», «Белые стихи. Хокку. Танка» (2009).
Удостоена «Благодарности» министра культуры РФ «за значительный вклад в
развитие российской литературы» (приказ № 546 от 03. 05. 2007. Москва).
Из
цикла «Владимирские дали»
В
АПРЕЛЕ НОВОГО СТОЛЕТЬЯ
Судьба
на месяц занесла
Нас
во владимирские дали.
Блистала
утречком роса.
Разливы
Клязьмы не спадали.
И
лес чарующий был полон
Весёлой
трели соловьиной:
В
кустах черёмуховых – соло,
В
орешнике – ответ призывный.
И
плыл по лесу запах хвойный,
Слегка
нам головы кружа,
Стук
дятла слышался разбойный,
Бежали
муравьи, спеша...
Сплетались
бабочки в круженьи,
Жужжали
радостно шмели,
И
сосны хоровод весенний,
Как
будто девицы, вели.
И
в этом мареве цветенья,
Густого
запаха травы
Мы
оказались по веленью,
По
воле Матушки-Судьбы.
3
мая 2001 г.,
г.
Ковров Владимирской области
НОВАЯ
ВЕСНА
Она
пришла в венке их свежих первоцветов
И
в сарафане травяном
И
нас пьянит своим дыханьем, как вином,
И
дарит птичьи нам сонеты.
ГДЕ
РУСЬ, ТАМ БОГОРОДИЦА
(Отрывки
из цикла)
I.
...Из
купели святой – наречёна Москвой,
Дочь
России встает Мироносицей.
Над
великою Русью и мирной Москвой
Светлый
Благовест тихо разносится.
Всюду
чистые души открыты добру.
Всех
в одной колыбели Россия качала.
Чистотою
и святостью Русь и Москву
Богородица
переполняла.
И
во Храме Христа, осиявшем Москву,
Я
с Россией колени пред Ней преклоню:
Заступница,
заступница!
Россию
осияй!
И
дочь Руси – Московия –
Восстань
и воссияй.
И
дочь Руси – Московия –
Восстань
и воссияй.
II.
...К
русской сказке с седою главой возвратясь,
Вдруг
– ученье Христа в ней уловишь.
И
значенье России, свою Ипостась –
Постигаешь.
Смысл жизни находишь.
Наполняла
нас сказками Матушка-Русь...
Русской
сказки я силою тайной горжусь!
III.
Неужто
молитвы бессильны
Под
небом Москвы и России?
Измучено
сердце Мессии
Цепями
Тельца золотого.
Россия
– мать-заступница –
Не
купится, не купится,
Сколь
златом ни тряси!
Где
Русь – там Богородица,
И
Благовест разносится
Прелюдией
души.
Где
Русь – там Богородица,
И
Благовест разносится
Прелюдией
души.
...Спасенье
Москвы и России
В
молитвах: всеобщих, всесильных.
Спасенье
Москвы и России
В
молитвах: всеобщих, всесильных.
Россия
– мать-заступница –
Не
купится, не купится,
Сколь
златом ни тряси!
Где
Русь – там Богородица,
И
Благовест разносится
Прелюдией
души.
Где
Русь – там Богородица,
И
Благовест разносится
Прелюдией
души.
МОСКОВСКАЯ
КУХОНЬКА – ЗАВОДЬ (60-е годы)
Сравнение
с прошлым – ревниво,
Зыбка
и мучительна память:
По
рекам молочным мы плыли
В
Московскую кухоньку – заводь.
Свеча
над нехитрою снедью...
Дрожат
самоварные блики...
Не
только чаёк здесь был выпит
За
плотно прикрытою дверью.
Здесь
головы тонут в сомненьях
И
часты полярные мненья,
И
шепчут уста о «гоненьях», -
Ночные
московские бденья...
Нет
места понятью «нажива»,
Здесь
к изыскам «слОва» – готовы,
Здесь
юность с романтикой жили
Вдали
от тельца золотого.
Смеялась
гитара,
рыдала
и пела...
О
как были юны,
горды
мы и смелы!
Сравнение
старого с новым
Извечно,
неровно, ревниво.
Ревную
к былому я снова и снова
И
звуки, и чувства – все живы.
Ревную
к былому я снова и снова
И
звуки, и чувства – все живы.
НЕ
ТЩИТЕСЬ ВОЗЛИВАТЬ ЕЛЕЙ
(Юбиляр
о юбилее)
-
Да это только миг назад
Я
жил: острил, смеялся, злился...
Лишь
вдохновение любил.
А
с бытом? С бытом – бился.
На
юбилейную тщету
Я
с грустью с высоты взираю.
Не
скрою, грешен был в миру:
Веселой
юности пиры
С
улыбкою припоминаю.
Но
от сегодняшней «тусовки»:
От
скорой рифмы вакханалий,
Предпостаментных
завываний, -
Мне
стыдно, тяжко и неловко.
Всегда
я чтил покой и волю,
Смеялся:
«Истина – в вине»
Не
смейте же мой дух неволить
На
грешной и святой Земле!
Не
тщитесь возливать елей
В
мой двухсотлетний юбилей.
Любя
– себя, а не пиита,
Все
рвется в бой псевдоэлита,
Кольнуть
иной раз норовя,
Напоминая:
«Короля –
Всегда
его играет свита!»
Тай
знайте, что душа пиита
Дантесом
не была убита,
А
вдребезги была разбита
Вечноживой,
Вечноземной
И
вечнолживой
Псевдосвитой.
О!
Вечно гений – одинокий!
И
что ему земной далекий
Непрожитых,
тем паче, дней
Осипший
«круглый» юбилей.
И,
суете сует не вняв,
Тщету
оставив юбилея,
Легко
взмахнул рукою гений,
Как
будто шляпу приподнял,
И
– улетел. Оставив нам
Лишь
легкий след. Лишь дуновенье.
Он
улетел на свой Парнас,
Дав
нам понять, что тленно в нас
Тщеславие
и самомненье.
А
ценно – только вдохновенье.
1999
г.,
Москва
Поэзия.
Нижегородская обл. Евгения Горбунова
__________________________________________________________________
Евгения
Горбунова
г.
Навашино Нижегородской области
Евгения
Горбунова - член Российского Союза профессиональных литераторов и Союза
журналистов России, автор шести поэтических сборников и публикаций стихов,
рассказов и очерков в региональных и российских СМИ и коллективных сборниках и
альманахах. Лауреат III и IV
Межрегионального литературного фестиваля «Под небом рязанским». Живёт в г.
Навашино Нижегородской области.
СОЛЬ
МОИХ СТРОК
ИЗ
ЦИКЛА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
I
Как
грустна вечерняя земля,
как
полна божественных беззвучий!
Невидимка
ночь спешит в поля
наших
душ, кошмарами измученных.
Вот
опять шныряет чёрный кот,
вежливый,
лукавый, мудрый шут…
Где-то
масло Аннушка прольёт,
где-то
на путях трамваи ждут…
II
Я
ведьмой не стала от бед, нищеты.
Мне
жить помогали лесные цветы,
настольная
лампа, простая тетрадка,
что
слёз моих капли глотала украдкой.
Наверно,
поэтому
соль
моих строк
всё
сыплет судьба
на
ржаной мой кусок.
*
* *
Вот
бесстрашие и свобода!
Всё
так просто и очень близко.
Я
ногами босыми в воду –
Страшно,
холодно, гадко, склизко!
Много
острых обнаружений
Там,
на дне, под ногой наяву.
Только
руки уже в движении –
Я
плыву, я плыву, я плыву!
Публикацию
подготовили
Алексей
Бандорин и Людмила Салтыкова
Поэзия.
Белгород. Виктория Лещук. Книга в альманахе
__________________________________________________________________
Виктория
Лещук
г.
Белгород
Виктория
Лещук родилась в г. Сухуме (Абхазия). Окончила Институт Экономики и Менеджмента
Белгородского государственного технологического университета. Работает
контролёром-ревизором в территориальном управлении Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Белгородской области. Её произведения публиковались
в сборнике белгородской прозы и поэзии «Светоч» и газете «РИЦА» (Абхазия)
–
Книга
в альманахе
ТАКИЕ
ГЛАЗА...
*
* *
Что
будет, когда кончатся все песни,
Все
звезды уплывут за небосвод,
Погаснут
дни, а батальоны мыслей
Изгонят
радуги из башен в мрачный грот?
Зачем
тогда лететь? Куда стремиться?
Чью
руку мне ладонью крепко сжать?
Кого
мне ждать? С кем грустно распроститься?
И
перед кем ответ за прошлое держать?
Мне
страшно, что две ноты – жизни реки, –
Царапиной
по сердцу заскользя,
Не
в унисон сойдутся в диком беге,
В
агонии затихнут без огня.
ВОЗДУХ
Я
– легкое облако, утренний миф,
Я
– ветер, несущийся в стужу,
Дыхание
моря, весенний порыв,
Кружение
листьев над лужей,
Объятия
свежести, запах грозы,
Я
– сполох в болезненном мраке,
Туманная
патока, танец пчелы,
Озёрная
рябь в звездопаде.
Скорее!
Поймай! Отпусти! Не держи!
Наполни
дыхание мною!
Сегодня
– затишье, а завтра – в пути:
Я
– воздух с горящей душою.
*
* *
Голоса
и перезвоны,
Запах
кофе, полумрак.
Кто
разрушил этот город
На
зелёных берегах?
Чёрный
веер, весь в фиалках,
Пуговки,
открытки, сны…
В
темноте оставить жалко
Стёклышки
цветной игры.
Пианино
в уголочке –
Подойти
бы поиграть,
Но
забылись песни строчки,
И
что толку вспоминать?
Год-другой…
не всё сотрётся –
Ностальгия,
как вода
Ключевая
из колодца:
Грустно-радостна,
остра.
*
* *
А
ты... ведь это только ты,
Но
сколь же много
Теперь
заключено в простом местоименье:
Созвучье
«да» и «нет»,
Беседа
тишины и слова.
Ни
в трелях соловья, ни в лепете младенца
Ещё
не слышала
Я
этой странной ноты.
Ты
– голос мой, ты – песня,
Что
ещё
Я
не явила миру.
Ты
– звук длиннее жизни,
Ты
– камертон в согласье с сердцем.
И
всё ж
ты
– только эхо,
И,
как в тумане берег дальний,
Ты
– лишь надежда, дивный сон.
*
* *
У
тебя такие глаза…
Словно
небо, словно два океана света.
Словно
мудрости две сапфировых капли,
Два
ярких живых огня.
У
тебя такие глаза…
Словно
счастья две полные чаши.
Словно
озера два, потерявшихся в чаще.
Два
мига добра, две росинки,
Отразившие
мира бескрайность.
У
тебя такие глаза…
Мечтаньем
и грустью согреты,
Увенчаны
тайной
Твоей
и немножко – моей.
У
тебя такие глаза…
В
них я вижу летящие годы,
И
встречи случайные,
И
вновь расставанья.
Слышишь!
У
тебя такие глаза,
Что
моих не сомкнуть мне ночами,
Ведь
в двух одиноких,
Безумно
глубоких
Глазах
твоих
Моё
утонуло сердце.
Слышишь!
Сердце
моё молчит,
Боится
стучать,
Не
тревожа
Покой
твоих глаз,
Тишину
твою.
Слышишь!
У
тебя такие глаза!
Не
найти мне таких же,
Чтоб
пела в них вьюга
И
тёплый рассвет просыпался.
Чтоб
та же любовь.
И
чтобы порывы…
Ты
слышишь?
И
те же вопросы,
И
те же ответы смятенные.
У
тебя такие глаза,
Такие
родные, такие смиренные,
Отвагою
полные и дерзновенные.
У
тебя такие глаза…
Две
синие вечности.
Надежды
и нежности
Не
счесть, не уменьшить в них.
Спокойные
эти глаза –
Они
раскрывают тайны,
Глядя
в беспокойные глади
Глаз
девичьих.
Слышишь!
Такие
глаза… лишь у тебя.
Лишь
у тебя одного!
*
* *
Эх,
война! Эх ты подлая, злая война!
Зачем
тебе эта кровавая жатва?
Зачем
все разлуки и слезы все эти?
Зачем
матерей все надрывные крики?
Отчаяние
– зачем?
Затем
ли, жестокая, чтоб мы ещё помнили
О
радости слёз перед важностью встреч?
О
смехе тянувшихся к солнцу младенцев?
О
море златом созревающей ржи?
Затем
ли земля покрывается пеплом,
Чтоб
помнили яркость весенних ростков
И
неба невинную ясность?
Затем
же ты юности смех заглушаешь
Своими
снарядами ржавыми?
Ведь
знаешь, что эти мальчишки не видели
Смущенья
пунцового сверстниц.
А
девочки в ситцевых платьях
Ещё
не таились, вздыхая,
В
сумерках маленьких комнат,
Ладошки
к горячим щекам прижимая.
Друг
друга они не держали за руки,
В
молчанье закат провожая.
Зачем
же, зачем эти горести?
Зачем
же, война, наполняешь
Ты
наши сердца ядовитостью злобы?
Затем
ли, чтоб память была нескудна,
Чтоб
души горели отвагой?
Затем
ли, чтоб яд, весь до капли развеявшись,
К
победе ликующей вёл нас?
*
* *
А
завтра – понедельник:
Опять
в безумной скачке
Помчишься
ты навстречу
Рабочей
суете.
Когда
же, ну когда же -
Вот
странная задачка -
Наступит
вечер пятый
В
безликой маяте?
Неделя
за неделей -
И
снова всё по кругу:
Ты
мимо пробок диких
Протиснуться
спешишь.
Кричит:
«Долой рутину! –
Тебе
весна-подруга. –
Иначе
мимо жизни
Ты
глупо пролетишь!»
*
* *
В
тихой прелести порхающих снежинок
Затерялся
будней хоровод.
Гроздья
припорошенных рябинок
Мирно
спят, качаясь без забот.
Давний
сон, забытое виденье:
Холод
приоткрытого окна,
Шёпот,
будто давнее моленье,
Дрожь
в глазах и по щеке слеза.
Белая
метель покроет шалью
Плечи
оголённые берёз.
Прошлое
подернуто вуалью
Тонкою
в цветенье южных роз.
Свет
любви – рождественская сказка –
Алого
на белом торжество:
Снежный
дым, как милая подсказка,
И
рябинок юных баловство.
*
* *
В
этот тихий зимний вечер
сон
зажжёт на ёлках свечи.
Разноцветный
человечек
пробежит
по мостовой.
Улыбнувшись
звёздной сверчи,
он
мелькнет за тёмной дверцей,
Рассыпая
на дороге
золотое
конфетти.
Дверца
древняя прискрипнет,
медной
ручкой горько всхлипнет –
Вспомнит
прежнее веселье
в
озорное Рождество.
А
забавный человечек,
надевая
плед на плечи,
Над
чердачным королевством
начинает
колдовство.
Он
везде развесит сказки,
ангелочков
и салазки,
а
из старого чулана
извлечёт
волшебный трон.
На
него взобравшись ловко,
на
курчавую головку
странный
чудо-человечек
нахлобучит
колпачок.
Он
хихикнет, защебечет,
забубнит,
зарукоплещет
и
из старого комода
вынет
маленький смычок.
В
этот миг средь паутинок
из
шарманок и сурдинок
разбежится
на свободу
целый
рой лохматых нот.
И
в чердачном королевстве,
где
собрались сказки детства,
хоровод
начнется шумный,
шаловливый
хоровод.
Раз-два-три…
игра-считалка.
Мячик,
ленточка, скакалка.
Чьё
же это, человечек,
разбудил
ты Рождество?
Вот
часы уж бьют двенадцать.
Дин-дон-дон!
Пора прощаться.
Чудо
в колпачке расправит
съехавший
колючий плед.
Звёзды
пыльные погаснут,
с
колпачка сотрется краска.
Но
рождественская сказка
поутру
оставит след:
Любопытные
мальчишки
(леденцы,
под мышкой – книжки)
прибегут
поутру с визгом
за
салазками сюда.
И
увидят близко-близко,
как
сверкает золотисто
позабытое
гостями
колдовское
конфетти.
*
* *
Представь
себе! Опять пурга –
Пушистая,
в уютной шубе.
Садись
со мной у камелька
И
расскажи о том, что будет.
Ты
знаешь, верно, наперёд,
Когда,
гремя, пройдут капели,
Когда
на реках треснет лёд
И
мы услышим в рощах трели.
Ты
говори, не замолкай.
Твой
голос так уютен в стужу.
А
я налью душистый чай,
Твою
он отогреет душу.
Как
только одолеет сон,
Тоску
упрячь в мои колени.
Ты
безрассудно утомлён,
И
сон сотрёт из взгляда тени.
Дыши
ровней и слушай треск
Поленьев
в маленьком камине.
Гляди
– в окне задорный блеск
Морозных
сребросканных линий.
А
за окном летит пурга.
Что
ей до наших измышлений?
Она
пропляшет до утра...
А
ты уткнись в мои колени.
*
* *
Мне
бы в руки сейчас гитару,
Чтоб
о струны разбить покой,
Мне
бы голос разлить по яру –
Свежим
вихрем, шальной рекой.
Мне
вдохнуть бы пьянящую нежность
И
грозой просочиться в грунт,
Чтобы
вверить свою безбрежность
Берегам
да устроить бунт.
На
палитре земной мазками
Яркость
неба, душистость трав
Авангардом
цветов, мостками
Закружить,
показать свой нрав.
А
потом краски смыть дождями,
Акварелью
пустить под откос,
И
разлить тишину соловьями,
И
направить по ветру нос.
Где-то
там, за крутыми холмами,
Где
у ветра уютный дом,
Широко
бы раскинуть руками
И
поймать серокрылый гром.
Вместе
с ним пустякам рассмеяться,
Вместе
с ним помолчать о любви.
Что
ж теперь мне и грома стесняться:
Мы
– безумные дети весны.
*
* *
Весна
закончилась грозой,
Две
радуги в мосты согнулись.
И
летний зной витой лозой
Проник
под сень весенних улиц,
Загомонился
роем пчёл,
В
душистость сена выжег травы,
Фруктовым
многоцветьем стол
Устлал
в тени младой дубравы.
Созвал
гостей на буйный пир –
Хмельных
в веселье юных панов,
Сатиров,
льющих звуки лир,
Весталок
с тонко витым станом.
Цветы
сплелись в венки невест,
Ручьи
вином стеклись в кувшины,
Взлетели
на златой насест
Веерохвостые
павлины.
Всё
это в радуги мостах,
В
прозрачном семицветье света
И
в солнца тающих лучах
Привиделось
в начале лета.
ДОМ ДУШИ
Мой
дом, моя последняя святыня,
Мой
сердца стук, забытый и глухой,
Мой
чистый вздох, моё второе имя,
Неизречённое,
разбитое войной.
Мой
взгляд назад, мои шаги простые,
Мой
долгий путь – к себе и от себя,
Моя
земля, мои сады густые,
О
Родина, одна у нас судьба!
*
* *
Всё,
что так любит море,
Всё,
о чем шепчет ветер,
Всё,
что огромное солнце
В
струнах лучей воспоёт, –
Всё
предугадано сердцем
Первой
влюблённой весною,
Всё
это гулким касаньем
В
кровь запустило дрожь.
*
* *
Я
тебя разбужу очень рано –
Лишь утихнут в ночи соловьи.
Попрошу излечить мои раны:
«Светлячков,
– попрошу, – налови».
Бледно-жёлтый их свет, мигающий,
Как фонарик, направь в глаза.
Ты – единственный, душу знающий, –
Разгадай, умерла ль бирюза.
Свежим хохотом, бурным рокотом
Меня вымани ты и скажи:
«Книги по полу, что нам проку-то?
В них ни правды для нас нет, ни лжи».
И лугами, ручьями, просекой,
Смехом тая в земной красе
(Ты – серьёзный, я – вздернув носиком),
Мы пройдём по дурман-росе.
*
* *
Фонтаны
запущены – взревели отважно.
В
Сухуме – каскад двадцати грифонов
Или,
может, двенадцати – это не важно:
Грифоны
не знают людских законов.
А
они вот – важные: смотрят в воду –
В
воду ревущую, плюющую брызгами –
Глазами
из камня с презрением к роду.
А
меж ними струя по трещинам рыскает,
Бежит
из оков бетонного логова,
Наружу
сквозь щели сочится шёпотом,
Не
слыша грифонов рычания строгого,
И
наперерез – пропади всё пропадом -
Назло
раскурочив ограничения,
Из
трубопровода прочь – необузданно,
Стремится
с морским смешаться течением,
Чтоб
море пресностью было взнуздано.
А
двадцать грифонов глядят с суровостью,
Прячут
яд огневой, до поры нерастраченный, –
К
воде равнодушные – куда с их гордостью?
Чёрт
с ней – она ведь бетоном схвачена.
Воде
подневольной – лишь фунт презрения
От
моря, пажа своенравной вечности:
Ласкай,
проворная, грифонам зрение –
Глядят
они в пасть твоей быстротечности.
*
* *
Нет,
я не поэтесса.
Я
– передатчик слов.
Я
– твой побег из стресса
И
дешифровщик снов.
Я
– паж стихосложенья
И
пира скромный гость:
Я
жду преображенья –
Глодаю
рифмы кость.
Престранная
девица:
Сумбурных
слов туман
Преподношу
я в лицах,
Ловя
стихи в капкан.
Я
ложь зову узором
Ошибок
и разлук.
Я
– поэтесса с хлором:
Своих
гоняю мух.
К
тебе бросаюсь жадно
И
отступаю в мрак.
Я
– эликсир и… Ладно,
Я
– слов пустых овраг.
Публикацию
подготовили
Алексей Бандорин и
Людмила Салтыкова
Творчество
школьников Уфы и Рязани
__________________________________________________________________
Александра
Юшкова
Александра
Юшкова – ученица 8 класса Уфимской
школы. Дипломант литературного конкурса г. Рязани. Живёт в Уфе (Башкортостан).
БАШКОРТОСТАН
Мой
край родной, Башкортостан!
Ты
– девушки изящной стан,
Изгиб
седла, полёт орла,
В
колчане тонкая стрела.
Башкортостан,
мой край родной!
Зелёный
лес стоит стеной,
Вершины
скал, седой Урал
И
волка горного оскал.
Башкортостан
– родимый край!
Звенит,
волнуется курай,
Егеты
в ряд, стальной булат
И
славный воин Салават!
ТВОЙ
ВЕРНЁТСЯ ДРУГ
(Песня)
Когда
устанешь от снега,
от
пустоты холодов,
когда
устанешь от неба,
того,
что не видит снов…
когда
снежинки и льдинки
покрыли
всё на пути,
и
замерзают слезинки,
и
очень трудно идти…
лучик
солнца вдруг
станет
греть сильней,
твой
вернётся друг –
вместе
всем теплей…
не
забудь его
осенью,
зимой,
друга
своего, –
он
придёт весной…
И
назло вьюгам снежным
будет
править весна,
и
мороз словом нежным
враз
прогонит она!
И
сугробы растают,
те,
что слушают смех,
радость
всех согревает –
вмиг
не станет их всех!
лучик
солнца вдруг
станет
греть сильней,
твой
вернётся друг –
вместе
всем теплей…
не
забудь его
осенью,
зимой,
друга
своего, –
он
придёт весной…
София
Урманчеева
София
Урманчеева – ученица 3 класса школы №
РАЗНОЦВЕТНАЯ
ИСТОРИЯ
У
меня одна идея –
Надо
сделать дом живее!
Я
бы маму удивила,
И
она б меня хвалила.
Я
достала карандаш,
Разноцветную
гуашь…
Вот
в рисунках холодильник,
И
котёнок, и будильник.
Ярко-красной
акварелью
Я
оформила все двери.
На
стене теперь панно –
Мне
очень нравится оно!
Появились
на окошке
Разноцветные
горошки.
Над
кроватью в спальне мамы
Расцвела
большая пальма.
На
полу растёт трава,
На
траве лежит листва.
Вот
как стало интересно
И
красиво – честно-честно!
Мама
очень удивилась,
Но
за голову схватилась…
Всё
красиво, всё цветёт!
А
мама валерьянку пьёт…
*
* *
Рада,
рада вся семья,
Потому
что встала я!
Мамочка
меня умыла,
А
бабуля накормила.
Папа
подхватил портфель
И
скорей со мною в дверь.
В
школу я спешу с утра –
За
пятёрками пора!
Никита
Брехов
Никита
Брехов – ученик 7 класса Рязанской школы № 63. Член литературного клуба
«Орфей». Публиковался в альманахе «Под небом рязанским» (вып. 2-4). Победитель
областных конкурсов детского литературно-художественного творчества «Тропою
Паустовского» (номинация «Проза») и им. С. Н. Худекова (номинация «Поэзия»).
БРОДЯТ
ТЕНИ
*
* *
Мы
едем в поезде.
Качает.
Гром.
Молнии
сверкают…
Вдруг
посветлело.
Я
– в окно.
И
вижу солнце.
Вот
оно!!!
*
* *
Из
сада в окно смотрит куст.
Паук
в серебре паутины.
Запуталась
муха – от этого грусть.
Я
вышел к родной рябине.
*
* *
Солнце
светит над пашней,
играет
в воде.
Кажется,
в жизни вчерашней
я
жил на звезде.
*
* *
Торшер.
Часы.
Стемнело
за окном.
И
кажется, погаснет лампа.
Один.
И на душе печаль.
Вот
дождик застучал
за
сумрачным стеклом,
как
будто стал проситься в дом…
Настала
осень.
*
* *
По
голым пустынным дорогам
всё
бродит тьма ночная
и
ждёт, когда лампа в окошке
погаснет
в её объятьях.
БРОДЯЩИЕ
МЫСЛИ
(в
Ерлинском парке)
По
парку бродят мои мысли
и
ловят звуки, они так близко:
и
дятел в дерево стучит,
и
пчёлка крыльями жужжит…
По
парку бродят мои мысли,
картинки
ловят, они так близко:
росинка
на листе блестит,
и
солнце нити золотит…
Вот
жёлтый лист упал, шурша,
а
вместе с ним и мысль ушла.
А
красный лист кружит: ура! –
Да
вот и школа – мне пора…
*
* *
По
листьям над звёздами парка
хочу
пробежаться во сне
и
мокрые пятки увидеть:
как
звёзды, блестят в серебре.
*
* *
В
окнах таинственный свет…
Тени
там бродят в углах…
Мечется
в небе луна.
«Меня
домой отведи!»
Ветер
качает кусты,
хочет
раздеть донага.
Вот
и последний лист пал,
как
время, которого нет.
Публикацию
подготовили
Алексей
Бандорин и Людмила Салтыкова
Поэзия.
Рязань. Алексей Бандорин
_____________________________________________________________________________
Алексей
Бандорин
г.
Рязань
Алексей
Бандорин – член Союза писателей России и Российского Союза профессиональных
литераторов. Автор десяти поэтических сборников и множества публикаций в
рязанских, центральных и региональных газетах, журналах, альманахах. Лауреат
Всероссийской премий им. А. Суворова, А. Грибоедова, А. Чехова, В. Маяковского,
Н. Рубцова, Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья».
Автор 1-го выпуска альманаха «Эолова арфа». Живет в Рязани.
ЖЕНЩИНА,
ДРАЗНЯЩАЯ МЕЧТУ
*
* *
Нашёптывала,
уговаривая:
«Золотце
моё самоварное,
Головушка
отчаянная,
Закончилась
церемония чайная!
Улыбнись,
отчаливая,
Забывая
случайное,
Нечаянное!»
ИЗМЕНИЛА
ЖЕНА НЕВЗНАЧАЙ
Н. М.
Не
стони, не стенай,
Между
нами стена,
Стенографию
чувств понимай:
Предала
ты любовь,
Мы
расстались с тобой –
Забывай
же меня.
Забывай.
Не
стони, не стенай,
Между
нами стена,
За
стеною – потерянный рай.
Ах,
какая весна!
Ах,
какая луна!
Тяжки
ночи без сна:
Изменила
жена,
Изменила
жена
Невзначай.
*
* *
Вошёл
одинокий
В
чертоги зимы.
Холодной
тебе,
Замерзая,
кричу:
Полгода
назад
Были
счастливы мы –
Вернуться
в то время
Хочу.
Сияли,
как солнца,
Твои
глаза,
Журчали
слова,
Как
ручьи.
Теперь
же –
К
тебе подступиться
Нельзя,
Навеки
чужая –
Кричи
– не кричи.
***
Глаза
не врут в минуту расставанья,
И
мы не врём, хватая воздух ртом.
Так
не хватает слов,
чтоб
выразить страданья
Сквозь
частоколы рук,
сквозь
мыслей бурелом.
Прощай,
прощай, навеки кану в Лету
И
жизнь твою не потревожу сном.
О
как люблю (зачем же я об этом?),
Что
крови лев стал аленьким цветком!
Любить
тебя и там, вдали – в изгнанье,
И
там, вдали – за роковой чертой...
Глаза
не врут в минуту расставанья,
Поплачь,
поплачь: запомнишься такой.
***
Там,
У
реки,
В
урочище тумана
Роняет
август
Первые
листы;
Рассвет.
Шатаясь,
словно пьяный,
За
шагом шаг
Выходит
из воды.
А
здесь,
В
саду,
Вовсю
цветут цветы,
Цветут
цветы
Упрямого
шафрана –
С
горчинкой запах
Призрачной
мечты.
Былой
любви
Зияющая
рана…
***
Растревожила,
распечалила
Злыми
чарами красоты
И
последним рейсом чартерным
Улетела
из памяти ты.
ШУТОЧНОЕ
Анечка
Ишина –
Спелая
вишенка!
Анечка
Ишина –
Маков
цвет.
Анечка
Ишина –
Поступь
неслышная!
Третьему
лишнему
Сколько
же лет?
Анечка
Ишина
Так
разобижена –
Третьему
лишнему
Фыркает:
«Дед!»
Анечка
Ишина –
Ишь
она, ишь она,
Что
позволяет
В
семнадцать лет.
Анечкой
Ишиной
Старость
унижена! –
Третьему
лишнему
Лишнее
– «Дед!»
Анечка
Ишина –
Спелая
вишенка!
Анечка
Ишина –
Маков
цвет!
АКРОСТИХ
Лететь
к тебе согласен хоть сейчас,
Юлить
пред Господом – напрасная затея.
Скажи
лишь: «Да!» – покину я Парнас,
Я
всё смогу! А Муза? – Шут бы с нею!
Скажи
лишь: «Да!» – короткое, как взрыв,
Аванс
доверия заверив поцелуем,
Лишь
молча не сиди, ресницы опустив,
Твоё
безверие едва перенесу я…
«Ы»
– центр равновесия фамилии твоей,
Когда
написана очередная буква,
Отвесно
слово вниз летит – быстрей, быстрей,
«В»
в землю зарывается, сидит в норе, как бука…
Акростихи
писать и впредь согласен я без звука.
*
* *
Пять
минут до начала лета,
Пять
минут до конца весны…
Ты
же вовсе не знала об этом,
Ты
смотрела цветные сны.
Мягким-мягким
пером из подушки
Я
за ушком тебя щекотал,
Золотистых
волос завитушки
Нежно-нежно
к губам прижимал.
Ты
глаза широко открыла,
Ты
за шею меня обняла…
Как
давно это, милая, было,
А
всего-то лишь вечность прошла.
ЭТЮД
Пышный
букет сирени –
Щедрый
подарок весны.
Эхо
дремотной лени
По
клавишам тишины.
Моей
недотроги колени
В
ласковом свете луны.
*
* *
В
городе – с ущербною луною,
В
городе – засыпанном снегами,
В
городе – разрушенном тоскою,
В
городе – покинутом богами,
Женщина
– идущая навстречу,
Женщина
– в сиреневой накидке,
Женщина
– с поющею походкой,
Женщина
– дразнящая мечту.
ЛЮБОВЬ!
ГДЕ ТЫ?
А
луна канула.
А. Вознесенский
А
Луна канула:
Подарили
пришельцам с Лебедя,
А
взамен её света – гранулу
Ослепительную,
великолепную
На
тросах над землёй повесили.
Смотрим
весело:
На
Луну не похожа полностью –
Светит
днём, светит вечером
И
глубокой светит полночью.
Всех
пленила света гранула,
Поклоняемся,
словно идолу,
Её
облику многогранному,
Отшлифованному,
монолитному.
А
Луна канула:
Подарили
пришельцам с Лебедя.
Неприкаянной
гостьей каменной
Наши
сны посещает нехотя.
Позабытое,
давнее снится,
Злую
власть обретая над нами.
И
мелькают событья и лица,
Как
на старом истёртом экране:
Муж
Констанции смотрит сердито
Воспалённым
от ревности взглядом,
Он
не в меру труслив и упитан,
Он
любого предаст за злато…
Вновь
оседланы резвые кони,
Королева
желает удачи,
Отбиваясь
в пути от погони,
За
подвесками в Лондон скачем…
Сон
встревожил больную совесть –
В
дальний ящик его запихнули,
Но
Констанции душный волос
Мы
с подушек своих не смахнули.
Поэзия.
Рязань. Евгения Бандорина
__________________________________________________________________
Евгения
Бандорина (Масленникова)
г.
Москва
Евгения
Бандорина (Масленникова) – родилась на Рязанской земле, член Российского Союза
профессиональных литераторов и Союза писателей Москвы. Автор двух поэтических
сборников. Обладатель Государственной творческой стипендии в номинации «Молодые
авторы» (2006), лауреат Российской литературной премии «Эврика» (2008). 26 лет.
Автор 1-го выпуска альманаха «Эолова арфа». Живёт в Москве.
В
МИРЕ ПОДЛУННОМ
*
* *
Что-то
сегодня не так в этом мире подлунном,
Будто
сломалось в нём нужное, важное что-то.
Просто
в душе перетянуты главные струны,
Жёстко
звучат безнадежно фальшивые ноты.
Вечер
как вечер, на небе обычные звёзды,
Те
же заботы ложатся на хрупкие плечи.
Так
отчего же не спится мне, ведь уже поздно.
Может,
и ты вспоминаешь меня в этот вечер?
*
* *
Головой
о стену – не добъёшься многого,
Только
мы не ищем обходных путей.
Посмотри
на небо: млечною дорогою
В
небе разыгралась звёздная метель.
И
метёт по сердцу так, что плакать хочется,
И
метёт по нервам так, что впору взвыть...
То
вдвоём, то порознь – как там дальше сложится?
Ты
моим был первым, как мне с этим быть?!
Память
– дело сложное: всё по разным полочкам,
И
хранит, порою стряхивая пыль,
И
не хочет прошлое испариться облаком,
И
опять врывается, превращаясь в быль.
Что
там будет дальше? Мы гадать не станем,
Будет
то, что будет, так тому и быть.
Правдами-неправдами
мы судьбу обманем,
Так,
как любим мы с тобой, – кто умел любить?
*
* *
Я
спугнула бабочку цветную,
Чуду
вслед невольно улыбнулась –
И
оно сквозь дымку голубую
Глади
неба крылышком коснулось.
Что
же счастье не уберегла я?!
Как
же я его спугнуть посмела?!
Бабочкой
цветною улетая,
Крылышком
слегка меня задело...
*
* *
Застоялось
в душе ожидание,
Комом
в горле стоит недосказанность.
Я
себе назначаю свидание
И
к себе выражаю привязанность.
Я
с собой говорить буду искренне,
Чтоб
понять: «Что же хочешь ты, милая?!
Как
раскрасить мне жизнь твою искрами,
Чтоб
поверила ты в то, что сильная…»
Надоело
себя мне обманывать –
Пробираться
чужими маршрутами,
Ну
а счастье на завтра откладывать,
Ожидание
мерить минутами…
«Ну
не будь же такой недоверчивой –
От
себя никуда ты не денешься.
Той
же робкою маленькой девочкой
На
кого-то большого надеешься…»
Застоялось
в душе ожидание,
Комом
в горле стоит недосказанность –
Так
непросто с собой на свидании
Всё
как есть, не скрывая, рассказывать.
МОЛИТВА
Что
бы ни было в этом мире,
Как бы жизнь меня ни ломала,
Я
прошу: дай, Господи, силы,
Чтобы
я бездушной не стала.
Я
прошу тебя: дай мне веры!
Помоги
мне остаться собою,
Даже
если беда – сверх меры,
Если
в горе уйду с головою.
Если
люди вокруг, как звери,
Разрывают
друг друга на части,
Если
заперты будут двери
И
пойдёт по пятам ненастье.
Если
стану другим ненужной
И
придётся одной остаться
Дай
мне сил не разменивать душу,
Помоги
мелочам не поддаться!
Научи
меня, Господи, верить
В
то, что выдержу испытание
И
свои ты откроешь двери
На
последнем моём свидании.
*
* *
Позади
сто пройденных дорог –
Все
следы завьюжены снегами.
Возвращаясь
на родной порог,
Что
с собой несу я за плечами?
Четверть
жизни прожито уже…
Что
я делала? за что боролась?
Рву
года, как сорняки в меже, –
Об
ошибки больно искололась.
Что
сумела важного создать?
Чем
за жизнь свою мне оправдаться?
Со
стихами мятая тетрадь –
Всё
моё несметное богатство.
Поэзия.
Рязань. Елена Борискина
__________________________________________________________________
Елена
Борискина
г.
Рязань
Елена
Борискина - член Российского Союза профессиональных литераторов, автор трёх
поэтических сборников и публикаций в региональных СМИ и альманахах, лауреат III
межрегионального фестиваля «Под небом рязанским». Живёт в Рязани.
ПОТЕРЯВ,
ОБРЕСТИ
*
* *
«Казнить
нельзя помиловать...»
…Знаки
препинания –
Знаки
преткновения,
Знаки
осознания,
Суть-обыкновение,
В
том, что недосказано,
В
том, что недопонято,
Есть
своеобразие,
Непонятно
прожитое…
…Знаки
препинания,
Кочки
да колдобины,
То
ли – невнимание,
То
ли – твердолобие.
Знаки
прилежания –
Нужные?
Ненужные?
Знаки
осознания –
Вам
сослужат службишку:
Захотят
– помилуют,
Возведут
на царствие,
Захотят
– немилостью
Окружат
с пристрастием…
…Знаки
препинания –
Знаки
преткновения...
Знаки
понимания...
Знаки
– отрезвления…
ЦВЕТНАЯ
ЗИМА
Зима-снегурка
на бумаге неба
Писала
повесть росчерками птиц,
Снежинками
загадывала ребус
На
чёрных стрелочках берёзовых ресниц;
Бродила
по заснеженным просторам,
Играла
в шахматы пеньков сама с собой
И
рисовала чёрно-белые узоры
Ветвями
на бумаге меловой.
Но
вдруг, устав от монотонного двухцветья,
Простого,
как обглоданная кость,
Мазнула
зеленью – хвоинок многолетье
И
пурпуром – рябиновую гроздь…
Мазки
цветные весело ложатся
На
белоснежные открытости страниц;
Зима,
рисуя, закружилась в белом танце,
Но
обессилела и распласталась ниц
Пред
солнечным всесильным тёплым оком,
Блеснувшим
жёлтой смолкой янтаря,
И
задремала, завернувшись в белый кокон,
На
ярко-красной грудке снегиря.
*
* *
…Я
видела: снег падал… вверх…
Он
ввысь взлетал и там кружился,
Кружился
так, как кружат птицы,
Поверив
в собственный успех.
Исчезли
прочие шумы –
Шедевр
создал бродяга-ветер,
И
аплодировали ветви
Безумной
музыке зимы…
*
* *
…Подари
мне то, о чём мечтала
Долгими
бессонными ночами:
Нет,
не драгоценные металлы,
А…
надежду с круглыми очами!
Если
непонятно, растолкую:
Тот
подарок – гость заокеанский!
Подари
мне… рыбку золотую
В
трёхлитровом замкнутом пространстве!
Пусть
послужит символом надежды
Крохотное
чудо золотое,
В
дом внесёт покой и безмятежность,
Плавниками
бури успокоив.
Как
у той волшебницы из сказки,
Я
у рыбки ничего просить не буду
(Не
бывает так, чтоб всё и – сразу!)
Вместе
мы – уже случилось чудо!
Рядом
мы, уже не меркнет радость!
…Разве
то каприз, о чём прошу я?
Подари,
пусть в замкнутом пространстве,
Символ
счастья – рыбку золотую…
*
* *
…Грешной
жизни предназначенье –
Бескорыстно
и слепо любя,
Обретая,
терять тебя,
Забывая
прикосновенье.
В
пустоте и бессмыслице слова
Почерпнуть
вдруг надежды глоток
И,
примерив разлуки платок,
Потеряв,
обрести тебя – снова …
*
* *
…Ночь.
Чашка кофе. Пачка сигарет.
Окно.
Свеча. Огрызок карандашный.
И
мысли, словно скопище планет,
Кружатся
над пустеющею чашкой.
Пусть
кружатся и падают на дно,
Чтоб
в бездне той, во тьме кофейной гущи
Открылось
мне, как третий глаз, – окно,
Пролив
свет истины на жизненную сущность…
…А
утром – остов чашки на столе,
Опустошенность
в пепельнице – горкой,
Но
солнца луч рисует на стекле
Знак бесконечности сверкающей восьмеркой…
Поэзия.
Рязань. Виктор Булатов
__________________________________________________________________
Виктор
Булатов
г.
Рязань
Виктор
Булатов – член Российского Союза профессиональных литераторов. Живет в Рязани.
ЗДЕСЬ
КОРНИ…
*
* *
С
того и мучаюсь, что не пойму,
Куда
несёт нас рок событий...
С. Есенин
Вековые
попраны устои,
Коими
жила святая Русь,
Вздыблена,
разграблена, распята,
И
попробуй выдержи, не струсь.
Нелегко
в крутой неразберихе
Устоять
на скользком рубеже,
Чистоту
берёзового ситца
Сохранить
в израненной душе.
*
* *
Не
дарят счастия года.
Как
восполняющее средство
Я
представлю иногда
Картинки
простенького детства,
Когда,
до света вставши, мать
Блины
затеет спозаранку,
А
прежде чем ложиться спать,
Затопит
жарко печь-лежанку.
Усядусь
к яркому огню,
За
день излазав все сугробы.
Я
детство в памяти храню –
Как
счастье самой высшей пробы.
*
* *
Не
покаянный, не прощённый,
С
неуспокоенной душой
Я
к матери упокоённой
Опять
на кладбище пришёл.
Опять
пришёл просить прощенья
Над
этой каменной плитой,
По
моему неразуменью
И
по беспечности младой.
Твои
глаза бывали влажны,
Порою
дом был одинок.
И
мать приснилась мне однажды:
«Пришла
простить тебя, сынок».
*
* *
Нескучно
жил, беспечным был,
Порой
лукавил и грешил.
Грех
не велик, я не тужил
И
до седин своих дожил,
А
на исходе своих сил,
Винясь,
прощенья испросил.
Простили
все, простил и Бог,
Но
сам себя простить не смог.
*
* *
Горит
свеча, и тает с ней надежда,
Что
не останусь в жизни одинок.
Свеча
горит! И теплится надежда,
Что
ты придёшь на этот огонёк.
*
* *
Иных
миров узнать не жажду,
Красот
заморских не ищу,
Я
о России только стражду,
Я
лишь о Родине грущу,
С
её зачахшими полями,
С
её тревожною судьбой,
С
грачиным вече, с тополями
Над
покосившейся избой.
И
пусть никто не повстречает
У
обветшалого крыльца,
Душа
покой здесь обретает,
Здесь
корни деда и отца.
Поэзия.
Рязань. Сергей Дворецкий
__________________________________________________________________
Сергей
Дворецкий
г.
Тума Клепиковского района Рязанской области
Сергей
Дворецкий – член Российского Союза профессиональных литераторов, автор восьми
сборников стихов и прозы, «Жили-были» (2009) и др. Публиковался в рязанских и
центральных журналах и альманахах («Молодая гвардия», «Рать»). Автор 1-го
выпуска альманаха «Эолова арфа». Живет в г. Тума Клепиковского района Рязанской
области.
В
СВЕТЕ НЕРУШИМОГО КРЕСТА
*
* *
А
над Тумой покров обозначился
Одеялом
лоскутных небес,
И
душа его зорькою спрячется
В
изумрудный задумчивый лес.
А
окрест по умытой по травушке
Лягут
тропки – свежо и легко,
И
шагают с Киряева бабушки
На
базар, продавать молоко.
Не
по нраву неона безбрежие,
Свистопляски
больших городов –
Мне
дороже и ближе по-прежнему
Водомуть
«ресторанских» прудов.
Там
лягушечье пенье стогласное –
Как
прелюдия к новому дню,
Как
из детства святое причастие,
Что
тогда полюбил и люблю.
И
бродил, и в сиреневой свежести
Задыхался
и знал наперёд,
Что
с такой же любовью и нежностью
Кто-то
юный сюда же придёт.
И
за Троицын купол упрячется
Моё
детство: и травы и лес…
А
над Тумой Покров обозначится
Одеялом
лоскутных небес…
*
* *
Мягок
мох, а то и шибко тряско –
Тут
тебе и благо, тут и мрак…
Шёл
Христос болотинною ряской
То
ль по клюкву, то ли просто так.
Размышлял
о воле этой грешной…
Только,
воли вовсе не спрося,
Посошок
самшитовый, нездешний
Подо
мхом во что-то уперся.
«Что
же эта злая зелень кроет? –
Глухо:
ни сторожки, ни огня! –
То
ли шлем побитого героя,
То
ли череп княжьего коня?»
Черпал
воду, но примет не видел,
Криком
крикнул – тишина окрест! –
И,
согнувшись в третью аж погибель,
Поднял
из болота тяжкий крест…
Поднял!
И, призвав на помощь небо –
Жилы
в звон, из всех что было сил,
Сам
по глотку погружаясь в небыль, –
Этот
крест во мшину водрузил!
У
сосны прилёг: сморило что-то –
Так
устал, что не поднять перста…
И
живут мещёрские болота
В
свете нерушимого креста…
ИЗ
ЦИКЛА «КАМУШКИ»
Было,
не было – не суди,
А
решился в путь – так иди,
Хоть
задворками, да к звезде –
Заплутался
страх в бороде.
Есть
кусок у нас, есть штаны,
Что
невеселы, братаны?
Хочешь
к лешему, хочешь в Рай –
Выбирай
тропу, выбирай.
Ходим
хоженое –
Не
пройти!
Косим
кошеное –
На
пути…
…Тропка
узкая – в два конца,
Разбрехался
пёс у крыльца.
«Чё
ты лаешься? Сам дурак!»
Над
приступками – полумрак.
Заскрипела
дверь без скобы,
Это
кой же век у избы?
Половицы
в скрип – ажно страх! –
Сырью,
нежилью дом пропах.
Носим
ношеное –
Ничего!
Любим
брошенное –
В
одного.
Белый
свет в очах запропал.
Кто
же жил-то здесь, поживал?
Кто
тут песни пел и о чём?
Образок
в углу закопчён.
Покрести-ка
лоб, покрести –
Ночь,
хоть выткни глаз, на пути…
Всё-то
нам бродить да искать…
Славно,
витязи, исполать!
Шепчем
явное –
Искони,
Видим
саваны –
да нишкни!..
*
* *
Уж
декабрь, а снега нету –
Голо,
лишь рябины брошь…
Не
берут меня в поэты,
Видно,
рожей нехорош!
Что
ж, пойду-ка в чисто поле –
Ветры
песнь свою поют –
Дайте
подпою вам, что ли,
Коль
в поэты не берут?
Разгуляйтесь
буйной песней,
Подхватите
под бока!
Мы
такое тут замесим –
Черти
встанут на рога!
Станет
звёздным небо это,
И,
как плед, снега падут…
Не
берут меня в поэты,
Может,
в дворники возьмут?..
ПРОЩАНИЕ
С ПОЕЗДОМ
Вот
прогудел «трёхчасовой» –
Вагоны
сцепкой задрожали
И,
покачнувшись, побежали
Над
побелевшею травой.
А
я читал, читал рассвет,
И
время осень приближало,
И
липа на ветру дрожала,
Роняя
животворный свет.
Как
милостив его покров!
Как
вышло так, что я не видел?
Своих
попутчиков обидел
В
вагонах «раньших» поездов…
Теперь
они меня простят,
За
что когда-то обличали…
Вагоны
наши отстучали,
В
депо тихонечко грустят.
Упрячу
прошлое в карман,
Умоюсь
в мокрых травах в пояс.
Как
предрассветный старый поезд,
Пойду
по просеке в туман.
Вольюсь
в белёсый окоём –
Ведь
я рассвет прочёл до корки…
А
кто-то, молодой и зоркий,
Уедет
в поезде моём.
ПРОМОЛЧИТЕ…
Шепчет
ветер в стекло – заунывный знакомый,
Ну
а вы тихо в дверь постучите.
Закурив
на ходу, молча выйду из дома –
Ничего
не спрошу… Промолчите…
Неуверенно
тронет струну тишины
Старый
клён, глядя в самоучитель
Чьих-то
серых шагов по снегам белизны.
Пусть
его попоёт, промолчите…
Я
пытаюсь прожить этот миг, я спешу,
Да
и вы, тоже вижу, – спешите.
Вон
за тем поворотом я всё вам скажу,
А
сейчас? А сейчас промолчите…
Даже
если тропинку топчу я не ту –
Вы
про то мне потом прокричите.
Мы
так громко молчим, мир оглох на версту!
Ничего
что оглох, промолчите…
*
* *
Памяти Евгения
Маркина
Хотим
мы спеть, да попусту орём,
Воссев
по пьянке в супостата сани…
А
ты не князь – давно ты стал царём
Под
синеоким куполом Рязани!
Здесь
те же липы, грязь на мостовой
И
лик поэта в полуночном свете…
А
ты идёшь есенинской тропой
В
других широтах и в другом столетье.
Боюсь
я здесь пророчества предать –
С
годов уж «оных», серых и поныне
Я
гомоню, скликая вёсен рать,
И
лбом сшибая «косяки дверные».
Низки
они подвижникам нагим –
Мы
спины гнём лишь в пахоте и стройке, –
А
ты летишь к Галактикам другим
Царём
поэтов да в мужицкой тройке!
И,
может быть, когда-то, в век иной,
Мы
там сойдёмся по простой примете –
Там
те же липы, грязь на мостовой
И
лик Поэта в полуночном свете…
ПРОСЕКА
Вначале
– цветастое крошево,
И
всё так доступно и дёшево,
И
просинь очей не поношена,
Лес
золото сыплет своё.
Тогда,
стародавнею осенью,
Вот
этою самою просинью
Увидел
я старую просеку
И
стал у начала её.
Не
то чтобы необходимостью,
Бирючею
нелюдимостью,
Звала
поворотной незримостью
И
тонкостью нити лесной.
Чего-то
шептала, баюкала,
По-бабушкиному
аукала,
Брала
колдовскими стуками
И
ветра шальною игрой.
Корёжатся
ветви серые,
Засеки
топориком делаю,
Чтоб
ловкие да умелые
Не
путали ночи и дни,
И
просеку обосновываю:
Валю
сосны многометровые –
Пусть
в спину глядят мне новые
Мои
вековые пни.
Идут,
ведомые целями,
Под
зонтиками, под прицелами,
В
европы, в америки спелые,
На
них я не обернусь.
Ведь
я, сын апреля и осени,
Праправнук
берёзы и сосенки,
Полвека
– мещёрскою просекой,
А
имя ей звонкое – Русь!
Поэзия.
Рязань. Зинаида Калинкова
__________________________________________________________________
Зинаида
Калинкова
г.
Рязань
Зинаида
Калиникова - член Российского Союза профессиональных литераторов, автор
сборника романтической поэзии «Жемчужины» и публикаций в местной печати и
альманахах. Живёт в Рязани.
СУДЬБА…
*
* *
Дождь
слёз моих в глухой ночи
тобою
не услышан.
Хрустальный
звон, сердечный звон –
всё
тише, тише.
И
слёзный дождь стал стенкой льда –
слов
тёплых не дождаться…
Ах,
видно, радостям любви
мечтой
остаться!
Но
стал спасителем рояль –
любовь
взяла аккорды!
Теперь
два сердца в унисон
забились
гордо.
Из
бездны вод морской прибой
мчит
дерзко к побережью…
Миг
красоты и волшебства!
И
чувства свежесть!
Нет
слёз и льда. Теперь любовь,
приняв
волны внешность,
Нам
в звоне жемчуга дарит
свою
нежность.
*
* *
Судьба
раскручивает веретёна жизни –
ей
мудрости не занимать.
Не
знают люди, сколько им отмерено.
И
нет такой дороги, чтоб их вернула вспять.
Поэзия.
Рязань. Виктор Кибирев
__________________________________________________________________
Виктор
Кибирев
г.
Рыбное Рязанской области
Виктор
Кибирев - член Российского Союза профессиональных литераторов, автор сборников
лирики и басен и публикаций в региональных и российских СМИ и коллективных
сборниках и альманахах. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Звезда
полей Николая Рубцова» и российских и международных конкурсов военной песни.
Живёт в г. Рыбное Рязанской области.
СОМНЕНИЙ
РЕКА
*
* *
Одиночество
любви –
Томной
грусти сопричастность.
Одиночество
любви –
Неозвученная
страстность.
Фантастических
картин
Дорисованные
мифы.
Сколько
жизней-бригантин
О
твои разбилось рифы?
Мир
надежд, увы, суров:
Как
сложилась жизнь Ассоли
После
алых парусов…
Вам
ответит кто-то? – Ой ли!
*
* *
Ты
одна – у окна,
И
грустишь непременно
Оттого,
что весна
Так
беспечно мгновенна.
Виноват
в этом я:
Поторапливал
осень…
Из
окна на меня
Льётся
локонов проседь.
*
* *
Я
стою безмятежно над гладью воды,
Я
на том берегу, но я все-таки здесь.
Отражаются
в небо стремлений следы,
Как
безмерно я мал и велик до небес.
Мчится
мимо потоком сомнений река.
Мне
её безразличен размеренный бег.
Мне
всего только сорок, мой возраст – века.
В
бесконечном пространстве миров – ЧЕЛОВЕК!
Поэзия.
Рязань. Тамара Ковалевская
__________________________________________________________________
Тамара
Ковалевская
г.
Рыбное Рязанской области
Тамара
Ковалевская - член Российского Союза профессиональных литераторов, автор
поэтического сборника «Листопад». Живёт в г. Рыбное Рязанской области.
Я
ИДУ К ТЕБЕ ИЗДАЛЕКА
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Мой
ангел-хранитель, опять улетел,
Одну
меня в мире оставил,
Наверно,
меня испытать захотел?
И
о себе напомнить заставил?
Одна
я не в силах беду превозмочь,
Иду,
спотыкаясь и плача,
Но
кто-то ведь должен хоть раз мне помочь,
Ужель
отвернулась удача?
Мой
ангел-хранитель, ну где же ты, где?
На
облаке мягком, небось, восседаешь.
А
кто ж одинокой поможет в беде?
Ты
очень мне нужен, неужто не знаешь?
ХРИЗАНТЕМЫ
Отцвели,
завяли все цветы в саду,
Я
же всё надеюсь, надеюсь и жду.
Ты
придешь, как прежде, милый, дорогой,
Будешь
петь мне песни под шальной луной.
Разве
я хотела, чтоб случилось так?
Эти
хризантемы, как прощальный знак,
До
седых морозов будут полыхать....
Но
когда завянут, я же – буду ждать.
ВТРОЁМ
Если
сердце грустит одиноко,
А
прошедшее – зыбкий мираж,
Если
жизнь обошлась жестоко,
Поднимись
на третий этаж.
Мы
с тобой посидим, потолкуем,
Песни
грустные тихо споём.
Не
одни мы с тобою тоскуем –
С
шестиструнной подругой втроём.
ВСЯКОЕ
БЫВАЕТ...
В
жизни всякое бывает:
То
восторг, а то вот грусть.
Туча
солнце закрывает,
Ты
уходишь, ну и пусть!
Всё
равно наступит время:
Ветер
тучи унесёт,
Дум
печальных тяжко бремя –
Лучик
солнца их смахнёт.
И,
от радости сияя,
Скажут
мне твои глаза:
«Жизнь
прекрасна, дорогая,
Быть
печальною нельзя!»
ОСЕНЬ
Когда-то
ждала и любила,
Во
сне безответно звала.
Как
жаль, что давно это было.
Прошла
золотая пора.
А
осень уже на пороге,
Зовёт,
за собою маня,
И
сердце в щемящей тревоге
Всё
чаще печалит меня.
Иду
по осеннему саду,
Упавшей
листвою шурша,
Осеннюю
свежесть, прохладу
Вдыхаю,
и жизнь хороша!
Я
ИДУ К ТЕБЕ ИЗДАЛЕКА
Я
иду к тебе издалека,
На
моём пути – горы и река,
На
моём пути – горе и тоска.
Я
иду к тебе издалека.
Много
зим прошло наверняка,
За
моей спиной замёрзшая река.
Горы
поседели там, вдали.
Тропки
и дороги заросли.
В
волосах сверкает седина,
По
стране свирепствует война.
И
друзья – кто предал, кто погиб.
Ты
ж в любви чего-то не постиг…
ДУША
Однажды,
часиков так в пять,
Как
птичка, выпорхнув из тела,
Душа
решила полетать,
Ей
возвращаться не хотелось.
Проснулись
горы и моря,
И
солнце глазик приоткрыло,
За
тучку спряталась заря,
Куда-то
брёл пастух уныло.
И,
выставив бойцовски грудь,
Петух
будил селенья.
Душа
сказала: «Будь что будь!
Проверю
я своё везенье!»
И
в неизвестные места,
Она,
волнуясь, полетела:
Неужто
та же суета
Там
ждет её, знать захотела.
Но
рассмотрела с высоты,
Душа
своё больное тело,
На
зов небесной красоты
В
златую высь навек взлетела.
***
Мой
юный друг, постой, послушай:
Так
было, будет без конца.
Да,
от бездушья гибнут души,
От
бессердечия – сердца.
***
Так
хотелось бы, чтоб сквозь века
Люди
знали свои истоки,
К
первозданным святым родникам
Возвращались
пытливым оком.
Поэзия.
Рязань. Виктор Крючков
__________________________________________________________________
Виктор
Крючков
г.
Рязань
Виктор
Крючков – член Союза российских писателей и Российского Союза профессиональных
литераторов. Автор шести книг стихов, «На стыке слов» (2009) и др. Автор 1-го
выпуска альманаха «Эолова арфа». Живет в Рязани.
В
ЛУБЯНИКАХ
Как вырваться из пошлости сознанья,
квартир-клише и мертвенных речей?
Вот взять да и махнуть в деревню, в баню,
где ты раздет для всех и где ничей.
Найди-ка ты тут связь между словами:
родная «мать» и по деревне «хрен».
Но эта связь меж мною и дровами;
а мысли всё о том, что меж колен.
На небе ковш – вот из него б напиться;
он за забором – руки протяни,
да коротки.
А окна –
словно чёрные глазницы
со звёздами,
и щурятся они.
А утром слушать местных,
слушать кожей...
– Вчарась в Урядье влезли в хлев волкя,
овцу задрали.
– Крёстная!... У коже?
– У Тонюшки...
вятёлка у мосткя.
– Она яшо жива?
– Семь ден сын Лёшка
приехал из Москвы на «Жигулях».
– Зямой яшо праедяшь
кой-как стёжкой.
– Вясной затопить,
ейной не в туфлях.
– Надысь в автобусе из Слён смяётся:
– А мы своих за ваших отдаём!..
А Нюрка:
– Что им?! Плоха, что ль, жавётся?..
Мужик:
– А вот вазьмём – и ня вазьмём!..
– Ня денятесь!
А кто ж штаны стярать?!..
– Найдём!..
Живая речь,
без зауми, простая,
как жизнь сама.
Как дерево в степи.
Одно,
с какою силой вырастает?
Вот вертикаль!..
Ты в слове –
с тайной слит.
ОДИН
Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи!
Позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего.
Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь
мёртвым
погребать своих мертвецов.
МФ.
8:21-22.
Картины дня в мгновенье стали прошлым.
Ночь за окном,
стекло,
и я уже иной;
и от физической реальности так пошло!..
И лишь не зарыдать...
Я сфинкс?
Я никакой?
И впалые глаза за хрупким зазеркальем;
зрачки предчувствием, где бликами белки;
и хочется в лицо захохотать с оскалом!..
Но он в молчанье там
и не подаст руки.
Мой оборотень...
Ждёт решения задачи...
Что я?!
Мир создаёт удобства пустоты.
А всех ждёт крах!..
Ты никому не нужен!..
Плачешь...
А я тебя ценю,
ты ангел чистоты.
Ты не оставь меня.
Сей мир не принимаю,
где правит сатана, где правит капитал,
за взятки, власть и сытость души покупая.
Вот-вот на рынке душ произойдёт обвал.
Разговоришься – труп живой,
вельми материальный.
Делец!
Без Бога кончит тапками в гробу...
А сам-то я?
В грехе...
треплюсь об идеальном.
И ждёт кого печать Господняя на лбу?
Молчишь?!..
Рубаху б красную
и галстук алой кровью;
и брюки жёлтые,
и с чёрной полосой;
предстать назавтра же
холодным и фривольным;
и пусть мир катится
рекламной колбасой!!!..
Ночь за окном,
помойка,
жалкий свет подъезда;
и детский сад
как катафалк без колеса;
и люди в городе –
заложники у бездны.
И только в серой мгле
белеют небеса.
Проза. Рязань. Михаил Крылов
__________________________________________________________________
Михаил
КРЫЛОВ
г.
Рязань
Михаил
Крылов – поэт, бард, автор музыкального альбома «От тебя до меня», посвящённого
Римме Казаковой (2009). Депутат Рязанской городской Думы. Член Союза писателей
Москвы. Автор 1-го выпуска альманаха «Эолова арфа». Живет в Рязани.
ОТ
КОГО ЧЕГО ЖДАТЬ?
ВЕРШИНЫ
Я
постоянно рвусь к вершинам. Я не могу не стремиться вверх, потому что это моя
потребность. Там неизвестность, тайна, там живёт тот самый запретный плод,
который так хочется укусить… попробовать хоть чуть, хоть чуть быть участным в
каком-то важном событии.
Это
состояние сравнимо с тем, когда в детстве стоишь на крыше дома, а тебя так и
тянет навязчивая идея прыгнуть. А вот поехал с друзьями-дайверами понырять в
просторах морских и обалдел от величия глубин. Плывёшь на метрах тридцати:
сверху, до воздуха, – высота девятиэтажного дома, а снизу – вообще ничего,
только манящая бездна. Кто это видел – все говорят, что манит… Мы, конечно,
знаем, что где-то там дно есть, оно точно есть, и ты не пролетишь Землю
насквозь если что.
Вот
про «что» – лучше под водой не думать… А ещё у меня есть знакомый металлург. Он
рассказывал, что когда смотришь через защитные стёкла, то расплавленный металл
– голубого цвета… Очень красиво! И многие признавались, что ловили себя на
мысли – прыгнуть туда… Но пробегают лёгкие мурашки по коже, и всё нормально –
опять сталевар!
Доказано,
что человек психологически настроен на исполнение приказа. Но здесь, очевидно,
командует не человеческий разум, а силы более могущественных явлений, которые
проецируются в наше воображение и пытаются повлиять на наше сознание, как бы
давая сравнительное понятие о своих возможностях, а может, только о своём
возможном присутствии.
ПРИТЧА
Жили
на свете три Катерины.
Одна
была женщиной, другая – рекой, а третья – средой, в которой водились звери,
росли леса и возвышались горы.
Они
жили дружно, любили и уважали друг друга, берегли… Женщина – готовила пищу, среда – давала эту
пищу, река – поила всех. Когда случалось лихо, они вместе боролись за жизнь, а
в холода – пели песни.
Однажды
случился большой пожар. И река-Катерина
отдала часть себя, спасла всех. Возрадовались все, и, казалось, жизнь должна
была обрести ещё более насыщенные краски…
Подруги
не заметили перемен сразу. Река и раньше меняла русло, играя берегами. Но однажды пришла Катерина-среда к женщине и
сказала, что звери ушли далеко, а лес затопила вода, что точит она горы не как
раньше…
Пошла
женщина-Катерина к реке, но не услышала её река. Это – гордыня! Она вселилась в
реку, когда величали её за спасение…
И
проявили силу, сдвинули плечи горы. Построили запруды звери. И вернули реку в
прежнее русло.
Поняла
река, что не всесильна – и затаилась. А тут, как назло, настала сушь… Стала
река погибать.
Тут
поняли Катерины – женщина и среда: не жить им
без реки, и прогнали свою обиду. Разомкнулись горы, и озеро дало поток.
Заискрились брызги, заплескались волны, отразилось в воде синее небо…
Стали
три Катерины, как и прежде, вместе.
От
кого чего ждать?
ДЕПУТАТ
(Экспериментальная
проза)
Эпизод первый
Зашли
мы как-то с Митричем к Депутату. Глясь, а у яво через всю стену – да от низу до
верху – банки стеклянные разного калибру расположены!
Митрич-то
взял да чавкнул:
–
Чаво энто?
–
Энто? – громко и гордо начал Депутат. – Энто собранные запахи из подъездов!
–
Как понять? – возмутился Митрич.
–
Да так! – тыкнул в банку Депутат. – Вот здеся люди живут благородно, а тута –
не очень…
–
Ну-у и-и? – ввернул с прищуром Митрич.
–
Так приходят тут разные нужду свою порешать, а я им: «Де живёшь?» А банку-то
возьми и открой… Ежели там ничё, то открываю другую, где мракобесье, и тычу яму
в нос, мол, пока здеся порядку не наведу, табе делать ничё не стану!
–
Сознают? Дейфствует? – всерьёз задался Митрич.
–
Вот када наганом потрясёшь у морды, то дейфствует окончательно!
–
Може, сразу наганом? – не унимался Митрич.
–
Не, энто негуманно, – ответствовал Народом избранный.
Вышли
мы от Депутата, обогащённые поведанным, в полном с ним согласии.
Эпизод второй
Наметили
было мы с Митричем свой курс вдоль Смоленской до Речвокзала, как, не пройдя и
пяти шагов, Митрич вкопался вертикально в тротуар.
–
Кулиш! – рявкнул он, внутренне оглядываясь назад. Так и всамделе произошло:
резко развернулся и в два присеста оказался возля угрюмого бородатого мужика.
–
Кулиш, а мы щас у депутата были! – возвысился Митрич.
–
И чё? – отряхнулся мужик.
–
А то, чё долг возвернуть мне надобно! Уж год за тобою бегаю!
–
Нету денег, как и не бывало! И депутатом своим неча тут козырять!
Митрич
только набрал воздух и чуть выкатил глаза, чтобы гнев смешать с аргументами,
как из-за правого уха услыхал басистый и уверенный голос.
– Власть нашу не уважашь? Аль другой служишь? –
это Депутат вышел покурить на крылечко.
«Вот
так подмога! – подумал храбро Митрич. – Щас яво уделаю, подлюгу».
–
Ответ держи! – продолжал правдоискать Депутат.
–
А чё я сделал-то? – засетовал мужик.
–
Ты чё тут контрреволюцию публично устраивашь, гад? – искромётно зажёгся Правдоискатель.
– Ну-ка, поди сюда! – грозно и наступательно приказала Власть. И добавила: –
Чёй-та мне твоя рожа дюже вспоминаться стала.
Тот
тронул чуть назад и, вспотыкаясь, сделал резкое движение телом.
–
Держи яво, а то уйдёть! – скомандовал Депутат.
…Уже
сидели мы в кабинете с банками, и вёлся
допрос:
–
Бежать помыслил? Щас табе дознанье учиним! – распушился хозяин кабинета.
Депутата
мы знали давно, но стал он монетным недавно – ровно когда обрёлся наделённой
властью, а так забияка был знатный.
–
Да он мне денег задолжал – целых пять целковых, – вступился со своим антиресом
Митрич.
–
Вы тут чё, заодно, контра? – возбуждённо просвирипела Власть и звезданула
Митрича в скулу уже знакомым наганом.
Одновременно
произошёл ряд событий:
–
событие первое: Митрич влетел в полки с банками, которые начали дружно лопаться
об пол;
–
событие второе: прозвучал выстрел, и пуля ловко, рикошетом от бронзового вождя
начала протыкать другие банки;
–
событие третье: оглушённый эмоциями Кулиш грохнулся в обморок, тряска от
которого заставила ещё пару банок сыграть заключительный аккорд.
Воцарившаяся
тишина длилась недолго. Её разорвал бой напольных часов с гирями, будто
возвещая всю окрестность о случившемся.
Было
пять часов вечера. В кабинете стояла устойчивая вонь.
И
уже сидели мы с Митричем, облачённые в наручники, грустно созерцая друг друга
при существенных обстоятельствах в сопричастно содеянном.
Эпизод третий
Обездвиженный
Митрич за прошедшие полчаса не проронил ни слова. Это тоже напрягало, поелику
он завсегда собой заполнял ситуации. А тута мусолил что-то во рту, как леденец.
«Где
он яво взял?» – сдуру возник у меня вопрос. Но тут всё пошло своей чередой…
–
Чё я с вами, скотами, таперича делать стану? – самозадался запыханный Депутат.
– Вы мне мою работу всю попортили! Чай, полгода набор собирал по всей округе.
Опять
возникла замешка, в которую я успел подумать: «Слава Богу, случайно никого не
пристрелил, полубес!»
–
Я вам это, гады, просто так не спущу! Будете мне зализывать вину! – опять
завёлся хозяин ситуации и шмякнул ладонью по зелёному столу, отчего у лампы
покосился абажур.
–
Чё, гнида, молчишь? – подойдя, в упор гавкнул на Митрича Депутат.
–
Боюсь, – сквозь зубы просвистел Митрич.
–
А чё ты боишься? – съёрничал наступавший.
–
Боюсь свою утрату выказать, – прохныкал осуждённый.
–
Снова ты про деньги?
–
Да не…
И
Митрич харкнул на пол. Гулко запрыгал по деревянному полу выбитый зуб и,
звякнув, успокоился в груде осколков.
–
Вон оно чё! – заржал Депутат, победно выхаживая, и добавил: – Да вы хоть знаете,
чё я могу?
–
Прости нас, – тоскливо, как щенок на цепи, проскулил Митрич.
–
О, энто ближе к смыслу! – оживился Депутат. – То ж понятно, кто смуту затеял. И
за то вину искуплять обязанный.
–
Да мы согласныя, тока отпусти ты нас, – прискульнул беззубый.
–
Ежели за три дня сновь набор банок с вонями
возвернёте, то прощу. А коль нет…
У
носа Митрича завертелся родной наган.
Мы,
побожившись в обещанном, выскочили от Депутата в растрёпанном состоянии от
бесчинства, которое мы сотворили. И горечь вины разбавлялась заверенной
справедливостью Депутата. А Кулиш остался арестованным в залог.
Поэзия.
Рязань. Валентина Моисеева
__________________________________________________________________
Валентина
Моисеева
г.
Рязань
Валентина
Моисеева – член Российского Союза профессиональных литераторов, автор сборника
стихотворений «Любовью рождённые строки» и публикаций в региональных сборниках
и альманахах, а также в российском альманахе «Рать». Живёт в Рязани.
ЗЕМЛЯ-МАТУШКА
*
* *
Влачишься
по ухабам,
Всё
терпишь ты, Россия.
Тебя
опять обманом
Скрутила
злая сила.
Рассыпалась
дружина,
Нет
силушки державной.
Руководит
машина
Святыней
православной
И
в дьявольском наряде,
Хмелея,
веселится
Чумой
на маскараде –
Пора
б остановиться!
В
набат бить колокольный!
Чтоб
разбудить Россию,
Собрать
в кулак люд вольный,
Разрушить
лжемиссию.
Благослови,
Всевышний,
Служить
святой России,
Поднять
её, ведь мы же –
Дух
православной силы!
*
* *
Я
упасть хочу в сочну травушку,
И
уткнуться в неё, и закрыть глаза,
Родной
запах вдыхать земли-матушки,
О
судьбинушке ей рассказать.
Свежий
дух идёт – сено скошено,
И
в стожки оно ловко смётано.
Душу
сладостно растревожило,
В
детство давнее нас зовёт оно…
Поэзия.
Рязань. Татьяна Рослова
_________________________________________________________________
Татьяна
Рослова
г.
Рязань
Татьяна
Рослова – член Российского Союза профессиональных литераторов. Автор шести
поэтических сборников, многих публикаций в периодической печати и альманахах, рязанских
и центральных. Автор 1-го выпуска альманаха «Эолова арфа». Живет в Рязани.
В
ДУШЕ ТАК МНОГО СВЕТА
МОЯ
РОССИЯ
Расплескает
по небу заря
Дальних
звёзд золочёные светы,
На
белёсой канве января
Ей
оконный рисунок ответит.
Прозвеневшей
гитарной струной
Успокоится
плачущий ветер.
Схлынет
грусть бирюзовой волной,
Помолюсь
о тебе на рассвете.
Русь
моя, о тебе помолюсь,
Прорастут
наши лёгкие крылья,
Разделю
с тобой светлую грусть,
Ты
останешься солнечной былью.
РЯЗАНЬ
Выплываешь
из тумана,
Древняя
Рязань,
Цвета
карего каштана
У
тебя глаза.
Распростёрла
плавно руки,
Обняла
века.
С
колоколен вещих звуки
Рвутся
в облака.
В
ритме улиц обновлённых,
В
шелесте садов
Сохранила
ты влюблено
Имена
сынов.
Смотрит
ласково Есенин
На
приокский плёс
Под
задумчивою сенью
Свадебных
берёз.
В
майском платье с кружевами,
С
белою каймой
Ты
девчонкой перед нами
Встала
озорной.
Выплываешь
из тумана,
Милая
Рязань,
Цвета
карего каштана
У
тебя глаза.
Я
ЛЮБЛЮ РЯЗАНЬ
Люблю
я звуки ранние твои,
Мой
город, просыпающийся, светлый,
На
ветках разгалделись воробьи,
Их
разбудил рассвет едва заметный.
И
гул троллейбусов, и звон колоколов –
Души
ликующее состоянье:
Освободясь
от будничных оков,
Она
летит с тобою на свиданье.
Здесь
верные и добрые друзья
Мне
для души ниспосланы тобою.
Всегда
ты радость и печаль моя,
Не
зря зову тебя своей судьбою…
*
* *
С. Есенину
Мазки
сияющего света
В
причёске осени златой –
Как
вдохновение поэта
От
сини неба озорной.
Крылатое
великолепье
В
пурпурно-радужной заре
Вдруг
пролетело, как столетье,
Чтоб
задержаться в октябре.
У ПАМЯТНИКА
ЕСЕНИНУ
А
руки – словно крылья,
Но
не пускает твердь…
Одним
большим усильем
Пытается
взлететь…
Рязанские
просторы –
Поэмой
на губах,
Поля
и косогоры
В
сиреневых мечтах.
В
душе так много света,
Ей
сердце в унисон.
Кружится
в танце ветра
Берёзовый
стозвон.
Ко
мне листочек светлый
Спустился
на плечо,
Меня
стихом заветным
Ласково
влечёт.
Как
будто мы вернулись
С
поэтом в милый дом
И
здесь соприкоснулись
Душою
и стихом.
ОЖИДАНИЕ
ВЕСНЫ
Ещё
сугробы высоки,
Ещё
вокруг метут метели,
Ещё
глубок сон у реки
И
не слышны шаги апреля.
Но
он придёт, и запоёт
Весна
опять свои рулады,
В
душе моей растает лёд
Под
тихий шёпот листопада.
И
будет сердце волновать
Другим,
неведомым поэтам,
И
будет кто-то снова ждать
Любви,
участья, правды, света.
Меня
волнуешь ты всегда,
Пора
весны, пора надежды,
Пройдут
тревожные года,
И
ты вернёшься, как и прежде.
ВЕСЕННИЙ
ВЗДОХ
Нежен
вздох у ожившего поля
После
снежных холодных ночей,
Скован
лес изнывающей болью,
Он
скучает по крикам грачей.
Смотришь
вдаль: непроглядная серость,
Но
природа в движенье уже,
И
тревогу готова рассеять
Жизнь
моя на крутом вираже.
Оживлённее
птичьи рулады –
Нас
настойчивей манит весна.
Насладиться
любовью я рада –
Пусть
войдёт в моё сердце она!
Поэзия.
Рязань. Людмила Салтыкова
__________________________________________________________________
Людмила
Салтыкова
г.
Рязань
Людмила
Салтыкова – член Союза писателей России и Российского Союза профессиональных
литераторов. Автор 11-ти поэтических сборников. Публиковалась в рязанской
прессе и альманахах, в центральных и региональных изданиях России, а также в
Крыму (Украина). Лауреат Всероссийской литературной премий им. А. Суворова, А.
Грибоедова, А. Чехова, В. Маяковского, Н. Рубцова, Всероссийского литературного
конкурса «Твои, Россия, сыновья», ХI Артиады народов
России. Редактор российского альманаха «Рать». Автор 1-го выпуска альманаха
«Эолова арфа». Живет в Рязани.
СВЕТ
НАДЕЖДЫ
ФЕВРАЛЬ.
НАЧАЛО ВЕСНЫ ВОДЫ
Природа
чтит свои законы:
Что
может Бог, не может бык*.
В
Рязани не растут лимоны,
Здесь
нужен в зиму воротник.
Но
вешний воздух на смотрины
Зовёт
из комнат горожан.
И
солнце соком апельсина
Струится
с крыш по желобам.
А
на разнеженных аллеях
Людской
волнуется ручей.
Шарфов
мохеровых милее
Объятья
солнечных лучей.
__________
*
От лат. пословицы: что положено Юпитеру – не положено быку.
*
* *
Мимолетность
свиданья
Мне
сказкою путь озарит,
И
в волнах мирозданья
Я
лечу к затенённой Лилит.
И
могу не проснуться,
И
могу в дебрях мира пропасть –
Но
дано мне коснуться,
Ощутить
взгляда милого власть.
*
* *
Аленькая
зоренька
Радостью
чиста.
Маленькая
горенка
Светом
залита.
Но
туман над речкою
Шатко
поднялся.
Догоревшей
свечкою
Стаяла
краса.
И
из сердца стылого
В
жилки кровь ползёт…
От
обмана милого
Что
меня спасёт?
Выйди,
выйди, солнышко,
Высуши
слезу,
Преврати
ты горюшко
В
цветик-бирюзу!
*
* *
Поцеловал
ты мне ладонь –
Меня
в ладонь поцеловал.
И
вяло дремлющий огонь
Вдруг
вспыхнул между серых скал.
И
жар от пламени его
Накрыл
мне губы нежным: «Да?»,
А
эдельвейсов перезвон
Стряхнул
с души крупинки льда.
И,
ослеплённые огнем,
«Да!
Да!» – рванулись две души…
Но
лунный свет, залив окно,
Порывы
наши притушил.
Что
ж, нам не жить у этих скал…
Брела
я по своей тропе,
И
ты меня не провожал,
Я
не смотрела вслед тебе.
*
* *
По
дороге, ещё не проложенной,
Не
нахоженной, не наезженной
Каждый
шаг отзывается трещиной
На
моей бесприютной судьбе.
Я
бреду в никуда настороженно,
Никому
я не муза, не женщина,
Но
как будто навечно завещаны
Мысли
мне о ненужном тебе.
*
* *
Стонут-мечутся
пташками,
Вдруг
от стаи отставшими,
Стонут-мечутся
пташками
Средь
холодных лощин
Мысли
после предательства –
И
к чему доказательства? –
Мысли
после предательства
Видят
выход один…
Счастья
нет и не сбудется,
Позабыть
бы ту улицу,
Счастья
нет и не сбудется,
Лютый
смерч впереди.
Только
вдруг разгорается –
Снова
крылья вздымаются! –
Только
вдруг разгорается
Свет
надежды в груди…
*
* *
Тишина
отзвеневшей мечты…
Тишина
вековой суеты…
Беззащитная
доброта…
Глухота.
Немота. Пустота…
Мне
б стряхнуть
тот
навязчивый сон
И
шагнуть
в
перецветь-перезвон…
ВО
ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ
Ночь
душит день,
Тьмой
стиснув,
По
ухабам стен
Бродят
мысли…
Параллельный
мир
Ждёт
общенья,
Улучая
миг
Проникновенья.
Кто-то
вдали
Диктует
Дочке
Земли,
И
– не всуе –
Шорох
в ушах
Морзянкой:
«Космос
не враг
Тебе,
рязанка.
Слушай,
вникай
В
сонм истин:
Там
будет рай,
Где
бескорыстье!»
*
* *
Мне
всю ночь треугольники снились –
Из
пластмассы, фанеры, стали,
В
теоремах небесной эмали…
И
любовные там теснились.
На
созвездья смотря я редко,
Теоремы
давно забыла:
Замыкаясь
в квартирной клетке,
Лишь
прямые углы любила.
Только
острых всё больше стало.
Треугольники
шли потоком…
Тут
будильник проснулся к сроку –
Как
в Бермудах, вдруг всё пропало…
Но
вопросы из бездны катят,
Заплетаясь
в нелепый узел.
Всё
гадаю: какой же катет
Ближе
бедной гипотенузе?
ВЬЮГА
Странный
зверь под окном рыщет,
И
глазами мой взгляд ловит.
Может,
он – внеземной сыщик:
Где
ресницы его и брови?
Я
не знаю чужой речи
И
кручу у виска пальцем,
Ну
какой же чудной вечер!..
Мне
б сидеть, вышивать на пяльцах…
Он
жалеет меня – невежду,
Дарит
мне жемчугов гроздья
И,
хвостом покачав снежным,
Улетает
к своим звёздам…
В
ДВИЖЕНИИ Я СУЩЕСТВУЮ
Дорога
– волшебное слово.
Поёт
и трепещет душа.
Мне
в путь бы отправиться снова.
Тропу
одолеть и большак.
Пешком,
не спеша, иль попуткой,
Иль
сесть на автобус-экспресс,
Иль
рельсы выслушивать чутко,
На
поле смотря и на лес.
В
движении я существую.
Покой
навевает тоску.
Надеюсь
прожить не впустую
На
этом недлинном веку.
*
* *
А. Б.
В
уютной зыбкой тишине
Я
шла по жизни в полусне,
И
овевал всё это снег
Покоем
внешним...
Но
кто же мог такое знать,
Что
вдруг захватит новизна,
Что
буду так опьянена?
Ты
для меня – восторг-весна,
Я
– твой подснежник!
МАРТ
Берёзок
белые мазки
На
синем фоне.
Вороньи
гнезда высоки,
Но
прыгнешь – тронешь.
Увидишь
рядом почки глаз,
Вприщур
зелёный…
Как
солнце греет, не скупясь,
Стволы
и кроны!
А
вдоль дорожки ручеёк
На
звонкой спинке
Проносит
жёлтенький листок
В
оковах льдинки.
И
по берёзкам от ручья
Блестящий
зайчик
Бежит
– и с ним душа моя
К
простору скачет.
Поэзия.
Рязань. Раиса Соболева
__________________________________________________________________
Раиса
Соболева (Буяновская)
г.
Рязань
Раиса
Соболева (Буяновская) - член Российского Союза профессиональных литераторов,
автор 6-ти поэтических (в том числе басен) и 3-х прозаических сборников.
Публикации – в местной прессе и коллективных сборниках и альманахах. Лауреат
межрегионального фестиваля «Под небом рязанским» (
БАБОЧКА
В ХРАМЕ
ДВЕ
ДУШИ
Одна
душа благоухает садом,
Где
розы раскрывают лепестки,
Другая
свету белому не рада,
Померкла
от страданий и тоски;
Одна
душа – как соловей, что с ветки
Влюблённым
трели сладостные льёт,
Душа
другая – будто птица в клетке,
Томясь
в неволе, жалобно поёт;
Одна
душа добра и, что имеет,
Старается
с другими разделить,
Своим
добром другая богатеет,
Не
прочь бы и чужого прихватить;
Одна
душа, любя и славя Бога,
Богатство
жизни вечной обрела,
Другая
благ мирских имела много,
Но
счастья истинного так и не нашла.
ПАРУСНИК
«НАДЕЖДА»
Предсказано:
придёт пора такая,
Иное
время, светлое придёт –
Во
славу возродится Русь Святая,
Воспрянет
духом Веры наш народ.
Настанет
время жизни безмятежной,
Что
ныне чудом кажется лишь нам,
Но
держит путь наш парусник «Надежда»
В
грядущее – к заветным берегам.
К
тем берегам земли обетованной,
Цветущей,
радостной, воистину Святой,
Где
будет мир, веками долгожданный,
Где
счастья Век наступит Золотой.
Где
будут чтимы Бог, Любовь и Слово
И
те, кого Господь благословил,
Откроют
путь для многих к жизни Новой,
Не
пожалев трудов своих и сил.
К
прекрасному, как грозы, побережью,
Преодолев
препятствия в пути,
Сумеет
вольный парусник «Надежда»,
Ведомый
Провидением, дойти.
И
возликуют труженики Веры,
Восславят
в благодати Небеса.
И
по сему великому примеру
Другие
в путь поднимут паруса.
МОСТ
НАД РЕКОЙ ПОЛОТЕБНЕЙ
Полотебня
– сухая старушка…
Старый
мост деревянный над ней.
Как
подруга мосту та речушка,
Все
года неразлучен был с ней.
Помню,
прежде журчала, звенела,
Весела,
полноводна текла,
И,
казалось, открыться хотела
В
том, как счастлива с милым была,
С
берегов ей раскрывшим объятья.
А
промчалось годков пятьдесят,
Износилось
лазурное платье,
Клочья
тины по травам висят.
А
жених… Покосились перила,
Отвалилось
бревно от бревна,
Поосел
и склонился над милой,
И
ему тихо пела она.
*
* *
Проскакал
на заре красный конь
Моей
юности, конь златогривый –
Дивных,
светлых надежд моих сон,
Ожиданий,
что стану счастливой.
Ускакал
– не поймать, не догнать,
Звон
копыт его смолк и – не стало.
Много
мне довелось испытать:
Отболела
душа, отстрадала…
О
былом не грущу, не зову,
Молодая
пора не вернётся,
Но
с надеждою в сердце живу,
Верю:
счастье ещё улыбнётся.
Краски
прошлой мечты нахожу
В
думах и о былом утешенье,
Как
с молитвой душевной гляжу
На
свечи золотое горенье.
БАБОЧКА
В ХРАМЕ
У
алтаря среди свечей
Во
храме бабочка порхала.
Мне
было дивно, и за ней
Я
с умиленьем наблюдала.
Легка,
воздушна и бела,
Как
Духа Божьего явленье,
И
мне казалось, что была
Небесным
праздничным знаменьем.
Живой
полёта красотой
Она
храм Божий украшала,
Самой
природной чистотой
Прелестно
душу ублажала.
И
голос, шедший от души,
Воздал
Творцу благодаренье:
«О,
славен Бог! Как хороши
И
дивны все его творенья!»
Вот
так бы вольно запорхать
С
безгрешной, лёгкою душою,
Полёта
счастье испытать
И
чувств блаженство неземное!
Порою
хочется уйти,
Разбив
оковы ноши бренной,
Туда,
где вера есть, найти
Покой
и мир души нетленной.
Заветной
выше нет мечты –
В
Небесном Царстве оказаться,
Туда
на крыльях чистоты,
Как
эта бабочка, подняться!
Она
среди икон святых –
Что
в чистом золоте – порхала,
И
вижу, как к одной из них,
Как
будто бы к цветку, припала
И
на мгновенье замерла –
Покой
блаженный обрела.
Она
была так хороша,
Как
Божья чистая душа…
Поэзия.
Рязань. Валентина Строгова
__________________________________________________________________
Валентина
Строгова
г.
Рязань
Валентина
Строгова – член Союза профессиональных литераторов, бард, автор нескольких
сборников стихов и более семидесяти песен. Неоднократный лауреат поэтического
фестиваля «Звезда полей Николая Рубцова» в Москве. Автор 1-го выпуска альманаха
«Эолова арфа». Живет в Рязани.
ВДОХНУТЬ
БЫ ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ
НЕ
УХОДИ, ЗИМА
Не
уходи, зима, постой,
Не
укоряй печальным взглядом!
Земля
мне кажется пустой,
Когда
сугробов нету рядом.
Не
представляю я зимы
Без
дивно-искристого снега –
Пусть
лучше санки под холмы
Летят
по наледи с разбега!
Мне
искупаться бы в снегу,
Вдохнуть
морозный воздух чистый!
Налюбоваться
не могу
Покровом
Матери Пречистой!..
А
помнишь, перед Рождеством
Боялись,
что не будет снега?
Запорошило
всё кругом:
Душе
– отрада, взору – нега!..
Достойны
будем же, друзья,
Всевышней
Милости безбрежной,
Укрывшей
скудость бытия
Роскошной
сенью белоснежной!
ЖУРАВЛИ
Дивен
наш край и приволен…
Чу!
Отголоском вдали
Под
перезвон колоколен
Песню
несут журавли
В
жаркие дальние страны
Символом
русской земли,
Чтобы
другие народы
Слышать
Россию могли.
В
ГОРОДЕ
Возвращаюсь,
словно в ад:
Всё
вокруг – зловонье, смрад!
И,
конечно, общий враг
Безобразью
очень рад.
В
тень дубрав и ширь полей
Убежать
бы поскорей!..
В
тихом храме у аллей
Душу
мне, Господь, согрей!
Проза.
Рязань. Лидия Терехина
__________________________________________________________________
Лидия
Терехина
г.
Рязань
Лидия
Терехина – член Российского Союза профессиональных литераторов. Автор сборника
сказок для детей «Розовая страна», поэтического сборника «Шёпот любви» и
сборника прозы «Крыло Серафима» (повесть, рассказы). Публиковалась в рязанских
коллективных сборниках и альманахах «Волна», «Победители», «Сквозь свинцовые
вьюги», «Под небом рязанским», в журнале «Сотворение». Автор 1-го выпуска
альманаха «Эолова арфа» 2009 г. Живет в Рязани.
НОЧНОЙ
ПРИШЕЛЕЦ
Страшно
оставаться одной с ребёнком в избе после того, как из неё вынесли покойника.
Прошло совсем мало времени, тоска глодала плоть молодой вдовы. Не хотелось ни
пить, ни есть, ни жить, а только лежать, уставившись в точку, и ждать смерти.
А
зачем жить, ради чего, если нет того, кого любила больше всего на свете? Где
она справедливость, милость Божья? Чего хорошего здесь, на этой земле, когда
небо не голубое и трава не зеленая, когда дети не радуют и только думаешь, как
бы скорее встретиться с ним, хоть и на том свете, но только бы встретиться...
Дернулась
щеколда, и кто-то прошагал по коридору, прямо к ней, в горницу. Наверное,
девчата вернулись, подумала она и открыла воспалённые глаза. Прямо на неё
смотрел тот, кого она похоронила несколько дней назад. «Не может быть!»
Он
лукаво улыбался и молчал.
«Это
сон, ну конечно, это сон, как я не могла догадаться раньше», – она незаметно
ущипнула себя за ногу, поморщившись от боли.
–
Это ты? – произнесла она.
Он
молча кивнул головой.
–
И ты не умер? – не верилось ей.
Он
покачал головой из стороны в сторону.
–
Ну, конечно, ты не умер... Я знала об этом, – встрепенулась она и потянулась к
гостю.
Он
отступил на шаг. Женщина стала внимательно изучать его лицо. Вроде бы он и как
будто не он, очень уж седой и бледный. «А вдруг он сейчас исчезнет?» – подумала
она.
–
Садись! – подвинулась от края кровати. – Устал, наверное!
Он
сел на краешек перины почти у самых её стоп и всё продолжал молчать. И взгляд
его, устремленный в колыбель, которая висела у кровати, был холоден и пуст.
–
Я безмерно рада тебе! – говорила женщина, а он только смотрел и ничего больше.
Прокричал
петух, и гость засуетился. Полез в карман своего пиджака, вытащил из него
конфеты (горошек в шоколадной глазури) и вложил в её ладони.
С
улицы постучали в окно. Она быстро спрятала конфеты под подушку и сказала, что
это старшие дочери вернулись домой и будут ему очень рады.
Он
приложил палец к губам, покачал головой и пошёл к двери.
–
Куда ты, не уходи! – взмолилась она и бросилась вслед за ним, но столкнулась в
дверях с дочерьми.
–
Мам, ты чего встала? Мы же дверь с улицы
на замок запирали, чтоб тебя не будить!
–
А зачем же вы стучали в окно?
–
Мы не стучали... – удивились они.
–
И его не видели?
–
Кого? – во все глаза смотрели они на мать.
–
Его... Да ладно! – Понимая, что пугает их своим поведением, она пробормотала,
что, наверное, ей все это приснилось.
На
душе стало полегче от неожиданного свидания. Мысли о жданной смерти стали
уходить, и на смену им пришло желание новых встреч.
Девчонки
улеглись спать, а она думала, что завтра она расскажет им, как он приходил к
ней, и в доказательство покажет им конфеты, которыми он её угостил.
Чуть
забрезжил рассвет – сон как рукой сняло. Она засунула руку под подушку и
вытащила из-под неё горошины, но не в шоколадной глазури, а что-то похожее на
овечьи котяхи.
–
Что это, Боже! – прошептала она, вглядываясь в угощение ночного гостя.
Нечистый!.. Ко мне приходил Нечистый... – забеспокоилась она, вспоминая из
детства рассказы деревенских старух. – Надо молчать, никому нельзя про это
говорить, а то засмеют, кто ж в это поверит!
Через
некоторое время она поймала себя на мысли: «Где это я?» – и, оглядываясь по
сторонам, стала различать знакомые очертания погоста.
Ноги
сами привели её в то место, где было захоронено любимое тело.
Кладбище
встретило её блаженной тишиной и безмерным спокойствием, даже вороны непривычно
молчали.
Свежий
холмик был за примитивной кованой оградой. Она прошла в открытую калитку и
стала искать глазами места разрушений, но холмик был ровным, даже слегка
прибитым последним ливнем.
Измученная
женщина рухнула на колени и распласталась на тяжёлой насыпи.
–
Как жить, как жить, скажи! – в истерике билась она.
–
Встань и иди домой! – почудилось ей.
Она
замерла и стала прислушиваться к тишине. Никаких звуков. Но вдруг она увидела, как
трава на соседней могиле стала прижиматься к земле на расстоянии человеческого
шага и дернулась ветка сирени на уровне человеческого роста. Стало чудовищно
жутко. Женщина вскочила с земли, машинально отряхнула колени и несколько раз
огляделась вокруг себя. Между холодных плит промелькнула уходящая тень, и
первый луч солнца коснулся земли.
–
Господи, спаси и сохрани! – осеняла она себя крестным знамением и, ускоряя
шаги, покинула страшное место.
Домой
возвращалась с камнем на душе. «Сегодня не пущу дочек на улицу. Гулены, отец
недавно умер, а у них одни подруги на уме!» – прятала она свой страх под
паническое настроение и делала несправедливые выводы о своих чадах. А девушки
очень тяжело переносили утрату, в доме же находиться было невыносимо, и они уходили
по вечерам на улицу – не веселиться, а немного забыться от неуходящего горя.
В
домашних хлопотах наконец закончился ещё один безрадостный день, день без него,
без кого жизнь теряла всякий смысл.
Приближалась
полночь... Средняя дочь улеглась рядом с ней и уже видела десятый сон, а её сон
всё ещё где-то блуждал. Она на всякий случай затеплила лампаду. В маленьком
пламени огня осветился спокойный лик Спасителя.
Вдова
прочитала молитву и на всякий случай ещё раз перекрестила всех детей по
отдельности. Легла на своё место и положила кисть руки на кромку колыбели. Она
боялась прихода вчерашнего гостя и в то же время желала встречи с ним.
Вдруг
погасла лампада, дернулась дверная щеколда, и вновь раздались чёткие шаги,
сначала в сенях, а потом и в кухне. И вот они уже у самой двери в горницу.
Она
напряглась от безудержного страха, на лбу выступили капельки пота. Она нырнула
под одеяло. Через некоторое время осторожно вытянула наружу голову – как
черепаха из панциря – с сильно зажмуренными веками. Было тихо, и она решила,
что всё это ей почудилось. Женщина заставила себя приоткрыть сначала один глаз,
а потом другой и тут же столкнулась со сверлящим её насквозь холодным взглядом
пришельца.
После
того, как он улыбнулся, обнажив белозубый рот, у неё не осталось сомнений в
том, что это её муж. Страх рассыпался, и на смену ему пришло желание обнять
наконец своего любимого.
Теперь
он подсел на уровне её живота. Положил руку поверх одеяла и всё продолжал
улыбаться, но глаза были по-прежнему холодны и постоянно устремлялись на
младенца в люльке.
Её
стали одолевать сомнения.
–
Родной, ты хоть капельку скучаешь обо мне? – пытала она его.
Он
опять ответил кивком головы.
Она
о чём-то спрашивала его, вроде того – как там, на том свете? Можно ли жить или
всё это сказки о внеземной жизни?
Он
молчал и безотрывно смотрел в люльку.
–
Мама... ты чего? С кем ты говоришь? – вывела её из транса проснувшаяся дочь.
Мать
отвела взгляд от мужа и увидела испуганную девушку, забившуюся в угол кровати с
натянутым до подбородка одеялом.
–
Я больше никогда не лягу с тобой! Слышишь, никогда!
А
ей было всё равно, она продолжала с любовью вглядываться в дорогие черты
ночного гостя.
Опять
прокричал петух, и он засобирался...
Так
прошла неделя. Теперь он не оставлял её после крика петухов, а ходил за ней по
пятам.
Она
делала всё автоматически. Готовила еду, штопала бельё, ухаживала за скотиной,
ходила на дойку и была счастлива, потому что он был каждую минуту рядом с ней.
Её не привлекали бабьи разговоры, она ни к кому не ходила и ни с кем не
разговаривала. Мир был вне её, со своими красками и какими-либо переменами.
Подруги
замечали изменения в её внешности. Она худела. Прежде милые черты лица
приобрели некую грубоватость, глаза потеряли блеск и были безразличны. Она
стала чураться всех и большую часть времени разговаривала сама с собой.
–
Подруга! – окликнула её приятельница по дороге к дойке.
Она
остановилась и как будто была в растерянности от того, что же ей делать –
разговаривать с той, которая её остановила, или продолжить свой путь с кем-то,
не видимым для других.
–
Ты меня слышишь? – не переставала теребить её за рукав соседка.
–
А... что... Что тебе? – стояла она столбом и шарила глазами пустоту.
–
Очнись, очнись! – кричала приятельница. – Да ты что, с ума сошла! У тебя дети
не определены, а ты за ним в могилу смотришь! Люди говорят, что к тебе Нечистый
ходит, огненным змеем во дворе рассыпается каждую ночь. Гони его! Ты думаешь,
это муж твой? Ошибаешься, это дьявол к тебе своих слуг засылает, на свою
сторону заманить хочет. Вот, мол, ваш Бог забирает, а я назад возвращаю!
Смотри, ребёнка изведет! Гони его!
Вдова
вздрогнула, когда услышала про ребёнка, и будто пелена сошла с её глаз.
«Несомненно! – думала она. – Это он за дитём и ходит. Глаз своих холодных с
девочки не спускает. Да какой же это муж? Льдом от него веет и затхлостью!» –
вспоминала она свои ощущения.
–
Подруга, милая, что ж мне делать, как я теперь его изгоню?
–
Слушай! Я средство знаю, моя прабабка рассказывала, был у них такой же
случай...
Было
всё, как всегда: стук щеколды и шаги через весь дом в горницу. Только вдова
была неприветлива. Она сидела на сундуке, чесала гребнем длинные волосы,
разделённые на обе стороны головы чётким пробором, и не обращала на гостя
внимания.
Пришелец
заволновался, его стало коробить.
–
Зачем ты чешешь волосы... зачем ты чешешь волосы? – не переставал он спрашивать
обеспокоенным тоном.
Она
молчала и не выпускала гребень из рук. И тут она обратила внимание на его
ступни. Они были без обуви и покрыты густым покровом шерсти. «А стучал, как
подкованными каблуками. Может, у него и не ступни вовсе, а копыта...» –
подумала она.
–
Зачем ты чешешь волосы? – продолжал он спрашивать. – Дай мне гребешок! – в его
голосе прозвучали стальные нотки.
Она
даже не пошевельнулась. И вдруг он резко шагнул к колыбели и наклонился над
ребёнком.
–
Не смей! – крикнула она и вскочила с места.
Он
усмехнулся и поднырнул под люльку.
Она
села на кровать, вцепилась обеими руками за колыбель. Он привстал и опять
протянул руки к младенцу, и в этот момент над колыбелью появились световые
контуры ангельских крыльев.
–
Вон отсюда! – осмелела она. – Желанный нашёлся! Чтоб духу твоего здесь не было!
– кричала она.
Он
отпрянул от колыбели. Во дворе прокричал петух. Растворились и тут же
захлопнулись ставни окон, и глухой, редкий стук по дереву поднял дыбом волосы
на голове женщины.
–
Догадалась! – поучающим тоном закончил он эту историю.
–
Мам, ты выпачкала волосы, мукой что ли? – спросила ее старшая дочь.
–
Да я ничего не пекла. Где? В каком месте?
Она
подошла к зеркалу и увидела на волосах седую прядь.
На
краешке земли занималась заря.
–
Красота-то какая! – сказала женщина.
Поэзия.
Рязань. Светлана Цветикова
__________________________________________________________________
Светлана
Цветикова
г.
Рязань
Светлана
Цветикова - член Российского Союза профессиональных литераторов, автор
поэтического сборника «Шахматы и тени», студентка Рязанского радиотехнического
университета. Живет в Рязани.
ТЕНЬ
С
лучом уходящего солнца последним
Исчезну,
раздавленный тьмой.
Я
– тень, я деяний вчерашних посредник,
Бесплотный
скиталец земной.
Но
ночью, разбуженный бледной луною,
Из
тьмы возрождаюсь как дым.
Хозяин,
я снова стою за спиною,
Внимая
движеньям твоим!
Луч
лунный иссякнет, кровавый на смену
Вонзается
солнечный свет.
От
тел отражаясь, сползая по стенам,
Ищу
я хозяина след.
Навеки
один, обречён на молчанье
Иду
по дороге чужой.
Я
– тень, невесомая часть мирозданья…
И
век не найти мне покой!
СТЕНА
Расстелился
туман, и укутал меня покрывалом на плечи.
Я
замкнулась в себе, надо что-то менять. Только время не лечит.
Мое
сердце горит, полыхает огнём – боль зажгла это пламя.
Потеряла
любовь тихим сумрачным днём. Что теперь между нами?
СТЕНА.
Голоса
в голове рассмеялись в ответ моим
сумрачным мыслям.
Я
боюсь темноты, но теряется свет, исчезает из жизни.
Впереди
полумрак, я шагну вникуда, от тебя удаляясь.
Сердце
жжёт изнутри, этот мир навсегда нас с тобой разделяет.
СТЕНА.
***
Душевная
боль, заглянувшая в сердце,
Меня
отрезвит, разбегаясь по венам.
Три
истины я обрела во спасенье –
Любви
не просить, не бояться, не верить…
Поэзия.
Рязань. Надежда Юдина
__________________________________________________________________
Надежда
Юдина
г.
Рязань
Надежда
Юдина - член Российского Союза профессиональных литераторов, автор двух
поэтических сборников и публикаций в местных изданиях и российском альманахе
«Рать». Живёт в Рязани.
Я
ШАГАЮ ПРОСЕКОЙ
*
* *
С
утра там, в лесу, всё звенели капели,
Проснулись
душистые сосны и ели,
От
солнышка жаркого зашелестели,
Янтарными
капельками запотели.
В
проталинах – пар, муравьи на тусовке,
Заливисто
где-то звенит коростель,
А
дух от земли – да куда там «Шанель»!
Тобою
дышу снова, дивный мой остров.
Я
нынче опять с головой окунусь
В
весенний раздрай с ожиданием чуда
И
силой смолы от тебя заряжусь,
Спасаясь
от вешней хандры и недуга.
*
* *
Не
лги, мы забудем никчёмную грусть.
Я
в мыслях чиста пред тобой – уверяю.
Забудем
обилье утраченных чувств,
Не
станем держать, что невольно теряем.
Рассудочно
страсть мы свою усмирим,
Расстанемся
вдруг, соскользнув в недоверье.
И
вовсе не важно, что рядом сидим –
Разлуки
грядущей стоим мы в преддверье.
На
струнах душевных моих не играй,
Не
будет мелодии, точно я знаю.
Задев
за живое, порой невзначай,
Мы
так невозвратно большое теряем.
*
* *
Не
нужно мне теперь ни лжи, ни правды,
Ни
заморочек, ни лихих прогнозов,
Ты
предо мной давно уже оправдан,
Пройдя
сквозь боль и сквозь тоску и слёзы.
Ту
истину, познав всей сутью бренной,
Покров
отбросив со смешных догадок,
На
свет явлю победой несомненной,
Направив
жизнь в союз любви и лада.
*
* *
Вот
и осень пришла – золотая печаль,
Дышит
воздух лесной непонятной грустинкой.
За
стеною дождя неоглядная даль
Затаилась,
замолкла в седых паутинках.
В
эту терпкую тишь безоглядно стремлюсь,
В
запах жухлой травы, робкий шёпот дубравы.
Я
с тобой, моя осень, всем сердцем сольюсь,
Распрямившись
душой, отмахнувшись от славы.
Я
причин своих бывших потерь не ищу,
Я
с тобой заодно и горжусь твоей статью.
Всё,
что было со мной, не зову, не грущу,,
В
этом мире ищу и храню благодать я.
Вот
и осень пришла…
*
* *
И
вновь у камина загадочный свет
Невольно
забытую грусть навевает,
Игрою
сверкающих зрелостью лет
Уютную
комнату вдруг наполняет.
Картины
из прошлого так далеки,
Но
живы ещё, как огонь тот в камине, –
Воздушны,
безоблачны, хрупки, легки,
Свежи,
как лесное дыханье, доныне.
*
* *
Осенняя
хрупкая боль,
Берёзовый
лист трепещет,
Рябины
сочную гроздь
Порывистый
ветер хлещет.
Я
воздух загадочный пью,
От
сладкой истомы робею.
Тебя
я не то что люблю –
Я
вновь от тебя хмелею.
На
тонкую жизни канву
Стежок
незаметный ляжет,
Заведомую
судьбу
Небесный
пророк предскажет.
Расставит
всё по местам
И
души размажет всмятку.
И,
как ни моли небеса, –
Всё
будет в решённом порядке.
*
* *
Я
шагаю просекой в тишине щемящей,
Ворошу
я прошлое, как листву опавшую.
Не
берите демоны, эту душу грешную,
Не
томите более сердца наболевшего.
Холодом
повеяло от земли, от осени,
В
тишине щемящей я иду по просеке.
Я
прошу, я мучаюсь, изнываю, плачу.
Да,
нельзя, наверное, жизнь прожить иначе.
Мемуары.
Нина Краснова. Король пародии Александр Иванов
__________________________________________________________________
Нина
Краснова
Нина
Краснова родилась в Рязани. Окончила Литературный институт им. М. Горького
(семинар Е. Долматовского). Печаталась в журналах «Юность», «Москва, «Новый
мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Студенческий меридиан», «Крокодил», «Время
и мы», «Наша улица», «Детское чтение для сердца и разума», в альманахах
«Поэзия», «День поэзии», «Истоки», «Кольцо А», «Эолова арфа», в разных
коллективных сборниках и антологиях. Автор более десяти книг стихов и прозы.
Член
Союза писателей СССР с 1980 года. Член Союза писателей Москвы.
С
1992 года живет в Москве.
КОРОЛЬ
ПАРОДИИ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
...Александр
Иванов, или Александр Александрович, или Сан Саныч, как он сокращенно, с
юмором, называл сам себя и как его называли собратья по перу и читатели, был в
советское время периода застоя и в постсоветское время периода перестройки и
рыночных реформ самым известным, самым популярным и самым главным
поэтом-пародистом во всей нашей стране, пародистом номер 1, а кроме того –
автором и ведущим телепередачи «Вокруг смеха», то есть «самым главным
«смехачом» Советского Союза, России и стран СНГ. Он писал пародии на самых
известных поэтов, на Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта
Рождественского, Беллу Ахмадулину, Римму Казакову, Виктора Бокова, Владимира
Солоухина и т.д., которые с его легкой руки становились ещё более известными, и
на менее известных, и на не очень известных, но перспективных поэтов, которые с
его легкой руки становились очень известными. Многих из них, так же, как и
какие-то строчки их стихов, читатели запоминали и знали только по пародиям
Александра Иванова, которые выполняли роль яркой всероссийской и всесоюзной
литературной рекламы и, если говорить новым языком нового времени, роль сильной
литературной «раскрутки» и «пиара», поскольку печатались в самых популярных
журналах, которые выходили фантастически огромными тиражами, 100 тысяч экземпляров,
3 миллиона экземпляров. Такие тиражи в наше время никому и не снятся или могут
только сниться кому-то. Да кроме того он выступал с этими пародиями по
Центральному ТВ в своей передаче «Вокруг смеха».
Писал
он пародии и на молодых поэтов, но только на таких, которые уже вышли на
высокую литературную орбиту, заявили о себе на всю страну и попали в поле
зрения читателей и критиков.
Каждый
поэт в стране тайно мечтал о том, чтобы Александр Иванов написал на него
пародию и таким образом как бы выписал автору пропуск на Олимп, в элитарный
круг поэтов, или хотя бы в околоэлитарный, у подножия Олимпа.
Причем
пародии у Александра Иванова были не только очень яркие, остроумные,
прикольные, но, как правило, и очень едкие, язвительные и желчные и часто очень
обидные для объектов его внимания, для его «муз» обоих полов, его вдохновителей
и вдохновительниц. Когда один маститый автор написал строку о том, что вот я
что-то давно не писал стихов, Александр Иванов обратился к нему с такими
словами: «Не писал и не пиши!» - такой резолюцией он мог убить поэта
наповал.
Александр
Иванов был популярнее многих самых популярных поэтов, стихи которых он
пародировал, и популярнее многих артистов. Это был Король Пародии, у которого
не было соперников и выше которого у нас никого не было ни до него, ни после.
До него был поэт Архангельский (однофамилец Архангельского с ТВ), но кто сейчас
помнит его?
Кстати,
и роста Александр Иванов был очень высокого. Я думаю, метр девяносто. Во
времена моего детства, то есть в советское время, мужчину такого роста (а про
женщин я и не говорю) называли пожарной каланчой или пожарной трубой, и про
таких, как он, пелась песенка:
Если
рухнет пожарная труба,
Заменить
ее можно без труда...
Дальше
я не помню... Дальше в песенке говорилось, что эту трубу можно заменить
«тобой», который схож с пожарною «трубой».
Александр
Иванов был очень высокий, как пожарная труба, и весь такой очень тонкий и весь
такой очень острый, как адмиралтейская игла. Словом, он был – как Останкинская
башня. Но это – я говорю для шутки, чтобы подчеркнуть, какой он был, если
говорить о нём в стиле гротеска и гиперболы, то есть почти в его же стиле.
...Я
впервые увидела Александра Иванова живьём еще в пору своего студенчества, когда
училась в Литературном институте и оказалась в святая святых – в ЦДЛ, в
Центральном Доме литераторов, куда тогда могли ходить только литературные
классики или по крайней мере члены Союза писателей СССР, а студентам тогда было
очень трудно проникнуть туда, только по пригласительным билетам на какой-нибудь
литературный вечер, по такому билету я и проникла туда. Александр Иванов ходил
по фойе, в компании своих друзей, и я смотрела на него только издали, и думала:
вот он какой, Александр Иванов. Он и внешностью своей, и манерами своими был
аристократ высокого стиля, с очень интеллигентным узким, вытянутым
эльгрековским и донкихотским лицом, с тонкими и, я бы сказала, утонченными
чертами лица, с высоким открытым лбом, с очень умными и проницательными карими
глазами, с орлиным носом и тонкой стволовой костью носа, с очень полными
губами, особенно нижней губой, с легкими, аккуратными усиками, с не густыми и,
судя по всему, мягкими волосами и с зализочкой на лбу (характерной для людей
гордых и самолюбивых, или «самонравных», как сказала бы моя матушка своим
солотчинским языком)... Я видела его в основном почему-то со спины, в черном
пиджаке. Я тогда не посмела подойти к нему, да и зачем мне было к нему
подходить? Чтобы сказать ему: «Здравствуйте?» - Ну, здравствуйте. И что дальше?
Он мне был интересен как поэт, но я тогда не могла быть интересна ему как
поэтесса, по крайней мере я так думала, я была еще чересчур незрелая,
зеленая..
...В
1981 году Александр Иванов написал пародию на одно из моих любовных
стихотворений, которые тогда появились в журнале «Юность», и напечатал его в
8-м номере журнала «Студенческий меридиан» (а потом в этом журнале печатались и
мои стихи).
Я
тогда уже окончила Литературный институт и жила в Рязани, откуда в свое время и
приехала в Москву. И вот я забежала по каким-то своим делам в местное отделение
Союза писателей, которое находилось на улице Ленина и которое и сейчас
находится там, на углу, только уже всё
перереконструированное, перекроенное то ли по старинному, то ли по новейшему
проекту, а мои собратья по перу, мои земляки, как бы утешая меня, так будто со
мной произошёл несчастный случай, так, будто на меня машина наехала, или так,
будто кто-то бросил на меня кирпич с крыши, сказали мне:
-
Нина! На тебя написал пародию Александр Иванов! Не огорчайся!
-
Да вы что?! Почему я должна огорчаться?
-
Но он такую обидную пародию на тебя написал!
-
Да любая его пародия, даже и самая обидная, - лучше любой положительной,
хвалебной статьи! Положительная статья может быть хуже отрицательной.
Положительную статью, может быть, никто и читать не станет, а пародию все
прочитают! Это такая реклама, о которой каждый поэт может только мечтать!
Стихотворение,
которое попало на зубок к Александру Иванову и на которое Король Пародии
написал свою пародию, было у меня вот какое:
***
За
тобой слежу не без иронии –
Полминуты,
две минуты, три...
Ну
чего ты смотришь на бегонии?
На
меня смотри.
Разве
некрасиво это платье?
Разве
я тебе не нравлюсь в нём?
Ты
смущал меня по телепатии
Ночью,
утром, вечером и днём.
Всё
предвижу, чувствую заранее,
Ем
твою конфету, фантик мня.
Ну
чего ты трогаешь вязание?
Так
и быть – дотронься до меня.
Последняя
строка этого стихотворения возбудила и взбудоражила «воображение поэта». Он
представил себе лирическую героиню этого стихотворения и ситуацию, в которой
она оказалась со своим лирическим героем, и взял всю третью строфу как эпиграф
к своей пародии и написал вот что:
НЕЧТО
ТРОГАТЕЛЬНОЕ
Все
предвижу, чувствую заранее.
Ем
твою конфету, фантик мня.
Ну
чего ты трогаешь вязание?
Так
и быть – дотронься до меня.
Нина
КРАСНОВА
Не
слыву я сроду недотрогою.
То
и дело платье теребя,
У
тебя чего-нибудь потрогаю
Или
дам потрогать у себя.
Ты,
дружок мой, чудо несусветное,
То,
сидишь, на кресле брюки мня,
То
шуршишь бумагою газетною
И
совсем не трогаешь меня.
То
уходишь ты своей дорогою,
То
заснешь, сопя, как носорог.
Не
слыла я сроду недотрогою,
Жаль, что ты – ужасный недотрог...
Да-а,
пародия эта, разумеется, смутила меня, красную девицу. Особенно первая строфа,
самая эпатажная, на которой автор мог бы и закончить свое произведение, потому
что он ею всё сказал. Я подумала, что вот теперь все читатели будут думать, что
я такая... не недотрога... и что я чего-то там такое трогаю у своего
лирического героя и, может быть, у всех мужчин, у кого плечо, у кого ухо, у
кого горло, у кого нос... у кого еще «чего-нибудь»... руку, ногу... Один
рассерженный читатель и без пародии Александра Иванова «это самое» про меня и
подумал и написал сердитое письмо в «Литературную газету», которая напечатала его:
«Что это за девушка такая, что это за
поэтесса такая аморальная в нашем высокоморальном советском обществе появилась,
которая просит своего партнера дотронуться до нее? Почему она, советская
девушка, может быть, даже и комсомолка, так много позволяет себе? Совсем у нее
нет ни девичьего стыда, ни чести, ни совести». В ответ на это сердитое письмо
сердитого читатели другие читатели стали присылать мне письма из всех уголков
страны и защищать меня и заступаться за меня, и я обрела новых читателей, они писали:
«Девушка просит своего партнера... и не просит, а позволяет ему дотронуться до
нее, раз он желает этого. А что в этом такого плохого и аморального? Разве она
что-то другое позволяет ему? А если бы и другое? Опять же, что в этом такого
плохого? Тем более, что она же не всем, а только ему это позволяет... Она
добрая и хорошая... А поэтесса, которая написала об этом, - молодец! Она, может
быть, сама не знает о том, что она открыла в нашей поэзии золотую жилу,
эротическую тему, которая является главной темой в отношениях между двумя
влюбленными людьми и которую поэтессе
надо разрабатывать дальше, еще шире и еще глубже».
Евгений
Долматовский, мой литературный учитель, мой руководитель творческого семинара в
Литературном институте написал мне в своем письме из Москвы в Рязань, в ответ
на пародию Александра Иванова: «Не расстраивайся из-за нее. Она похабна до
крайности, но популярности тебе придаст». Я-то нисколько не считаю ее похабной,
она невинна, как и мое стихотворение, а популярности она и правда придала мне.
И помогла мне обрести сотни и тысячи новых читателей-почитателей, поклонников
моего таланта, сделать этот круг более широким. За что спасибо ее автору!
Кстати
сказать, мое стихотворение «За тобой слежу не без иронии» попало на зубок сразу
к двум пародистам. Кроме Александра Иванова – еще и Марку Лившину, который тоже
написал на нее свою пародию и напечатал ее в журнале «Крокодил», в 31-м номере
1985 года и обыграл в ней мое деепричастие «мня»:
ТРОГАТЕЛЬНОЕ
Всё
предвижу, чувствую заранее.
Ем
твою конфетку, фантик мня.
Ну
чего ты трогаешь вязание?
Так
и быть – дотронься до меня.
Нина
КРАСНОВА
Почему,
являясь на свидание,
Линию
свою упрямо гня,
Ты
меня не балуешь вниманием
И
совсем не смотришь на меня?
Ну
смелее! Что за наказание?
Ну
не стой, затылок свой чеша.
Тронь
меня, отбросив колебания.
Ты
мужчина? Или ты лапша?
И,
отдавшись грустным размышлениям,
Думаю,
едя, пия, пиша:
То
ли ты сильнее искушения?
То
ли я не слишком хороша?
Я
спрашивала в Москве у своих коллег, в том числе и у пародистов: кто такое Марк
Лившин? Никто не мог мне сказать. Никто не знает такого пародиста. Я
подозреваю, что это – тоже Сан Саныч, он написал две пародии на мое
стихотворение, в двух вариантах, и под одной из них поставил свой псевдоним -
Марк Лившин.
Обе
эти пародии я потом стала читать на тех литературных вечерах, на которых мне
приходилось выступать, и в институтах, и на заводах и фабриках города Рязани, и
в колхозах и совхозах и районных городках Рязанской области, и обе они везде
пользовались успехом у слушателей. Правда, первую я читала всегда в более узком
кругу, чем вторую. И всегда предваряла ее такими словами: «Я не знаю, могу ли я
прочитать ее вам, но я думаю, что могу. Если читатели «Студенческого
меридиана», то есть сотни тысяч читателей, могут читать ее в своем широком
кругу, то почему же я не могу прочитать ее вам, а вы не можете послушать ее в
нашем узком кругу?»
...Когда
у меня в 1984 году вышла в издательстве «Московский рабочий» книга «Такие
красные цветы», с бабочкой на обложке, я послала ее из Рязани в Москву
Александру Иванову, и написала ему на титульном листе книги автограф с юмором и
свои слова благодарности за пародию. И в ответ Александр Иванов, Сан Саныч,
прислал мне письмо, в котором величал меня по имени и отчеству:
«Уважаемая
Нина Петровна!
Спасибо
за подарок. Не ожидал (еще бы, я послала ему свой подарок через три года! – Н.
К.). Это говорит о том, что Вы не обиделись на меня за шутку, Книгу Вашу я
прочел. Она интересная и своеобразная. Однако – возможны новые пародии.
Желаю
Вам всего самого доброго.
Ал.
ИВАНОВ,
1
июля
Москва».
...Потом
он написал еще несколько пародий на мои стихи. Одна из них на мое стихотворение
«Сетованье Нюшки». Вот оно:
СЕТОВАНЬЕ
НЮШКИ
Всё
тебе бы мять меня да лапать.
Ты
с кого берёшь такой пример?
Что
же у тебя, ядреный лапоть,
Никаких
красивых нет манер?
Что
же никакого нет подходу?
Ты
бы хоть меня Анютою назвал,
Хоть
сказал бы чтой-то про погоду,
Хоть
бы с клумбы мне цветок сорвал.
Не
горю желаньем ни малейшим
Быть
с тобою, раз такой болван.
И
катись-ка ты к чертям и лешим.
Тоже
мне, нашелся Дон Иван.
Сан
Саныч написал на это стихотворение пародию «Диалог» и напечатал ее в журнале
«Крокодил», в 31-м номере
ДИАЛОГ
Всё
тебе бы мять меня да лапать.
Ты
с кого берёшь такой пример?
Что
же у тебя, ядрёный лапоть,
Никаких
красивых нет манер?
И
катись-ка ты к чертям и лешим,
Тоже
мне, нашелся Дон Иван.
Нина
КРАСНОВА
-
Что ж ты, сукин кот, меня залапал?
Это
же гумно, а не панель.
Встал
бы на колени лучше на пол
Али преподнес в презент «Шанель»!
Сел
бы лучше рядом на диване,
А
не то заместо чувств обман!
Может,
даже звать тебя не Ваня,
Может,
ты теперя Дон Иван?
-
А чего ж, - смеется он, - не лапать,
Нешто
я какой-то моветон?
Ты
ведь, - говорит, - ядрена лапоть,
Тоже
ведь не Лида Гамильтон!
...Пародии
Александра Иванова непривычны, остры и художественно смелы для своего времени
и, я бы сказала, новы и авангардны, своим раскованным языком с ненормативной,
то есть запретной, табуированной тогда в поэзии и в других литературных жанрах
лексикой, своим свободным стилем, которым поэты тогда не пользовались в своих
стихах, да и просто не могли позволить себе этого, по цензурным причинам, а
Александр Иванов работал в очень удобном для этого жанре юмора и мог под
вывеской юмора, в своем символическом колпаке юмориста очень много чего
позволить себе в поэзии, чего другие не могли и побоялись бы, и виртуозно
владел таким искусством слова, каким не владели его заморализованные,
заидеологизованные собратья-поэты. Его пародии были по сути новым словом в
поэзии и шагами к новой поэзии, а сходили за шутку и за юмор, как бы за
несерьезную поэзию. Нет ничего серьезнее такой несерьезной поэзии, как нет
никого серьезнее таких несерьезных людей, как клоуны, паяцы и шуты.
Я
писала письма Сан Санычу, не перегружая его ими, а он писал мне свои в ответ на
мои, на каждое из них, - человек, который почти никогда никому не писал писем!
Он ни одного моего письма не оставлял без ответа.
В
одном из писем я, рискуя потерять его высокое мнение обо мне, спросила его, как
неграмотная провинциальная Нюша, кто такая леди Гамильтон, потому что решила,
что пусть лучше я покажусь ему «неграмотной и некультурной», но зато узнаю, кто
такая эта леди, чем я буду казаться ему грамотной и культурной, а не буду
знать, кто она такая. И он написал мне подробное письмо о том, что она была
женой губернатора одной из колоний Британской империи, леди Эмма, а потом в нее
«безумно влюбился адмирал Горацио Нельсон», и она в него тоже, и она «бросила
своего мужа и «до конца жизни Нельсона, до его гибели при Трафальгаре была ему
верной подругой», после войны у нас в стране на экранах прошел «старый
английский фильм 40-х годов «Леди Гамильтон», «в главных ролях» там были
«Вивьен Ли и Лоуренс Оливье».
Многие
литераторы в литературном мире, судя об Александре Иванове по его пародиям,
считали его едким, язвительным, желчным, злым и высокомерным человеком. А я
знаю его другим - как в высшей степени интеллигентного и благородного человека,
который, при всей своей чудовищной занятости, находил время писать письма
провинциальной поэтессе из Рязани Нине Красновой и не считал это зазорным для
себя.
Я
помню, Андрей Дементьев, Евгений Храмов, Николай Старшинов и другие мои старшие
товарищи с удивлением говорил мне: «Нина! Тебя очень любит Александр Иванов! Он
всем говорит, что ты – самая лучшая из всех молодых поэтесс, номер 1».
Удивление у них вызывало не то, что кто-то считает меня лучшей из молодых
поэтесс, а что не кто-то, а сам Александр Иванов так считает, который почти
никого из поэтов, а тем более из поэтесс не признает.
Я
сказала ему в письме спасибо за это. И он написал мне, черными чернилами на
белом листе: «Вас, как поэтессу я действительно очень ценю и говорю об этом
всем...»
...Вот
еще одна пародия Александра Иванова на мои стихи. Он напечатал ее в журнале
«Работница» в 7-м номере
И
СМЕХ И СЛЕЗЫ
Ты
одна играла в куклы,
Ты
играла – я смотрела.
..........................................
Я
одна играла в куклы,
Я
играла – ты смотрела.
Нина
КРАСНОВА
Мы
с тобой меня читали,
Молодец,
не побоялся.
Мы
с тобой меня читали,
Я
читала – ты смеялся.
Мы
опять меня читали,
Дура,
я не побоялась.
Мы
опять меня читали,
Ты
читал, а я смеялась.
Я
одна себя читала,
Но
смеяться перестала.
Я
одна себя читала,
А
тебя не стало.
...В
октябре 1988 года я с группой участников Есенинского праздника приехала из
Рязани в Москву, на «Икарусе», и выступала в Колонном зале, а потом со всеми
праздниковцами обедала в ресторане ЦДЛ, в Дубовом зале. Мой сосед по столу,
писатель-рязанец Анатолий Овчинников сказал мне: «Вон твой Александр Иванов,
который на тебя пародии пишет...» - «Где?» Он стоял около буфета и держал в
руках огромный белый бумажный кулек с чем-то, как оказалось, с шоколадными
конфетами разных сортов, в разноцветных фантиках. Я была в темно-синем
полуфольклорном плюшзаменительном костюме а ля кадриль Рязанской
экспериментальной швейной фабрики, как девушка из фольклорного ансамбля песни и
пляски Моисеева, в широкой юбке миди, в кофточке с волнистыми манжетами на
длинных рукавах, с волнистой кокеткой на груди и с оборками от талии до бедер,
в сапожках на тонких каблуках и с распущенными волосами, которые тогда были у
меня золотыми, а не пепельными, как сейчас. А сама я тогда была очень
худенькая, и моя матушка называла меня «барелинка», на солотчинский манер. Я
тихо подошла к Александру Иванову и представилась ему, присев в реверансе:
-
Здравствуйте, я Нюша, она же леди Гамильтон из Ваших пародий... Нина Краснова,
- он с приятным изумлением посмотрел на меня, как на «чудо несусветное», и
протянул мне весь кулёк с конфетами:
-
Угощайтесь.
Я
сказала ему, что приехала в Москву с группой из Рязани, выступала в Колонном
зале и сейчас со всей группой уезжаю назад в Рязань. И попрощалась с ним. Он
сказал мне, что у него скоро выйдет книга, в которой будет его пародия на мои
стихи. Так состоялось наше очное знакомство с Сан Санычем, наше первое рандеву,
наши взаимные смотрины, которые не разочаровали нас обоих друг в друге.
Вскоре
Александр Иванов приехал в Рязань, на гастроли, выступал в театре Есенина. А я
в это время писала у себя дома, в своей новой квартире на улице Новоселов, в
своей «башне из слоновой кости» свой автобиографический роман «Дунька в Европе»
- о том, как я ездила в Польшу на праздник Варшавская Осень Поэзии, и я в это
время, когда писала свой роман, не слушала радио и не читала газет, отключилась
от всех средств массовой информации, а телефона у меня дома не было, потому что
дом был совсем новый, и только когда Александр Иванов уехал из Рязани, увы и
ах, я прочитала в «Рязанском комсомольце» информацию о том, что он приезжал. А
его письмо, где он сообщал мне, что приедет в Рязань, я не получила. Как и
некоторых других его писем, которые он мне посылал. На почте «служил ямщиком»
один товарищ из Третьего отделения,
который, как «любопытная Варвара, которой на базаре нос оторвали»,
проглядывал все письма, которые приходили на мой адрес в мой абонентный ящик
215, и самые интересные оставлял у себя, «коллекционировал». Теперь, наверное,
продает их с аукциона, делает себе на них бизнес.
...Александр
Иванов, как я уже сказала, был автором и ведущим популярнейшей телепередачи
«Вокруг смеха», и не просто хорошим или очень хорошим, а идеальным! Но кто-то
из его завистников и злопыхателей катил на него бочку и хотел разжаловать его в
простые зрители. И я написала на телевидение, сама от себя и от других
поклонников Александра Иванова, письма с
требованием оставить его на своем месте, а иначе мы разобьем свои телевизоры и
не будем смотреть их. И написала Александру Иванову два письма, в которых
ободряла и поддерживала его. Он в ответ на это написал мне:
«Уважаемая
Нина Петровна!
Ваши
письма – и первое, и второе – я получил. Они меня откровенно порадовали. Сейчас
меня клюют со всех сторон, аки сухую корочку хлеба куры. Но, с моей точки
зрения, это даже неплохо. Я к этому отношусь по-западному – там за хорошую
ругань деньги платят – реклама! А мы, литераторы, как ни крути, все же
производим товар и предлагаем его к продаже.
Есть
у меня на Вас... (новая) пародия, которую все никак не могу напечатать, которую
не берут, говорят: резковато. Посылать Вам ее не буду – заинтригуйтесь, ждите,
авось, выйдет... (...)
Всех
Вам благ.
Ал.
ИВАНОВ,
13
сентября
Москва».
...Я
писала Александру Иванову не только письма, но и стихи. Одно из них сочинила 4
ноября 1985 года и не знала, что они приурочились прямо к его 50-летию. А
узнала об этом только через год с лишним и послала их ему к Мужскому Дню, на
красивой двойной открытке с рельефной темно-розовой розой на зеленом фоне:
«16
февраля
Рязань
Дорогой
именинник,
дорогой
юбиляр Александр Иванов!
Вы
написали мне, что недавно Вам исполнилось 50 лет. 50 лет – это пора зрелости (по
положению Международной организации здоровья, зрелость начинается после 48
лет). Задним числом поздравляю Вас с круглой датой и порой зрелости! Желаю Вам
– и как поэту, и как человеку, и как мужчине – всего самого прекрасного, что
может дать эта прекрасная пора! И желаю Вам «лет до ста расти» и «не знать
старости!!..
И
задним числом посылаю Вам розу на открытке и стихотвореньице, которое я
сочинила передним числом – 4 ноября 1985 года, с мыслями о Вас, Король Пародии.
***
Александру
Иванову
На
днях получу зарплату,
Пришью
на джинсы заплату,
Красную
розу в киоске куплю
И
пойду к моему Королю.
Приду
к нему на прием,
Сброшу
с себя при нем
Куртку
свою и баретки,
Встану
на три табуретки,
Приподнимусь
на носочки,
Короля
поцелую в щечки
И
на грудь моему Королю
Розу
красную приколю.
Нина
КРАСНОВА».
...В
1990 году, зимой, я опять встретилась с Александром Ивановым, в ЦДЛе. Я тогда
приезжала в Москву по своим литературным делам и забежала в ЦДЛ и уже
пообщалась там со всеми, кто мне попался там, я теперь уже не помню, с кем, и
пошла в гардероб одеваться, и отстояла очередь и получила из рук гардеробщицы
свою бежевую румынскую шубку с темно-коричневыми кожаными тесемками и уже
надела ее на себя и стояла перед зеркалом и причесывала свои волосы, «распустила
Дуня косы». И вдруг смотрю: в очереди возник Александр Иванов, он разделся и
сдал в гардероб свою куртку или пальто... И я не могла не поздороваться с ним.
И подошла к нему и сказала ему: «Здравствуйте». И он с радостью сказал мне: «Вы
в Москву приехали?» - «Да, и уже уезжаю назад в Рязань». Мы встали с ним на
ступенечках около тумбы с афишами и в двух словах рассказали друг другу о своих
делах, я о том, что написала роман «Дунька в Европе», а он о том, что
подготовил новую книгу пародий... И он смотрел на меня светлыми глазами, хотя
они были у него темными. И он сказал мне: «Пойдемте выпьем с вами кофе (в кафе
или в ресторане)...». И я... вот дура! Вместо того, чтобы согласиться и
сбросить с себя свою шубку и сдать ее назад в гардероб, с улыбкой сказала ему:
«Да я уже ухожу... в другой раз выпьем». И весело помахала ему ручкой. И
упустила такой прекрасный шанс – получше пообщаться и поближе познакомиться со
своим любимым поэтом-пародистом, любимей которого у меня не было и никогда не
будет, со своим высоким поклонником и покровителем, со своим рекламителем и
пиарщиком, с Королем Пародии... как будто у меня этих королей – до Москвы не
пересчитать. Чего я тогда испугалась? Разочаровать его, показаться ему не такой
интересной, как в своих письмах к нему и в своих стихах? Чего я тогда
застеснялась? Того, что у меня с лица уже косметика (штукатурка) слетела и
осыпалась за день? У меня, как у Золушки, когда я общаюсь с людьми, наступает
такой момент, когда я уже переобщалась с ними и вылила на них из себя всю свою
светлую энергию, все свои светлые эмоции, которые были во мне, и исчерпала
лимит этих своих эмоций и этой своей энергии на этот день, и я начинаю гаснуть
и блекнуть и сникать на глазах, и мне тогда надо скорее уходить домой, чтобы не
превратиться из принцессы в запечную
девушку... и я спешу скорее уйти домой, спрятаться от всех, пока, как
говорится, на часах не пробило двенадцать. И вот тогда, когда я встретилась с
Александром Ивановым, я боялась, что сейчас наступит такой момент. Мне, чтобы
общаться с Его Величеством Королем Пародии Александром Ивановым, звездой
телеэкрана, кумиром миллионов, надо было, как я считала, специально
подготовиться к этому, зарядить себя новой энергией. Потому что он же – не
кто-нибудь, а Король, и общаться с ним надо на самом высшем уровне, чтобы
предстать перед ним во всем своем внешнем и внутреннем блеске и великолепии, а
я испугалась, что не выдержу такого серьезного испытания... Теперь я думаю, что
я тогда напрасно испугалась. Я себя недооценила в той ситуации.
...В
1995 году, в период рыночных отношений, когда я уже переехала в Москву, я
издала здесь книгу своих любовно-эротических стихов «Интим», самую смелую свою
лирику, которую не могла издать в советское время, потому что она была чересчур
смелая и непривычная для того времени, да еще с хулиганскими частушками. За эту
книгу я получила на турнире поэтов в Лужниках титул Принцессы Поэзии «МК-95», а
потом и титул Королевы Эротической Поэзии.
Я
издала эту книгу в фирме «РОЙ» на деньги своих друзей, которые заняла у них, и
сама продала ее на улицах Москвы, весь тираж, 3 тысячи экземпляров, бегала по
улицам и устраивала для своих покупателей мини-концерты с цитированием частушек
и куплетов, и заработала на своем «Интиме» в три раза больше денег, чем
затратила на нее, и рассчиталась со своими друзьями, и на деньги за «Интим»,
издала новую любовно-эротическую книгу «Семейная неидиллия», тиражом 5 тысяч
экземпляров... которую потом тоже сама продавала на улицах Москвы... и делала
сама себе «гонорары» и на эти «гонорары» жила... пока на страну и на меня не
обрушился цунами 1998 года, дефолт, который обесценил все мои деньги и
превратил мой труд в мартышкин труд, но это уже другая песня, которую я не буду
петь здесь, в этих своих мемуарах.
Осенью
я послала свои книги «Интим» и «Семейная неидиллия» Александру Иванову из
Москвы в Москву. И он позвонил мне домой! Вечером. Часов в девять. И поздравил
меня с моими книгами и высказал мне свой восторг и восхищение моей
любовно-эротической лирикой и моими хулиганскими частушками... И мы долго-долго
говорили с ним, как два хороших товарища, душа в душу, и он рассказывал мне о
себе, а я ему о себе. И я сказала ему, что я читаю в демократической прессе его
публицистические статьи, которых он раньше не писал, а теперь вдруг начал
писать, и в которых он раскрывается в совершенно новом качестве, как
гражданин... не Советского Союза, а постсоветской России, и вся зачитываюсь
ими... Он не ожидал от меня еще и этого... И сказал, польщенный моими словами: «Раз вы
зачитываетесь моими статьями, раз вы не только поклонница моих пародий, но и
моих публицистических статей, и моя единомышленница, я подарю вам свою книгу
прозы «Дело Ленина смертно». Она у меня только что вышла...» (или должна была
вот-вот выйти?). И мы договорились созвониться и встретиться с ним... Но так и
не созвонились... По моей вине. Я уехала в Рязань к своей маме, инвалидке 75-ти
лет по зрению, которая тогда ослепла... я уехала ухаживать за ней... а потом вернулась
в Москву и продавала на улицах свои книги, а потом опять уезжала в Рязань...
моталась туда-сюда, горела между двух огней, между Москвой и Рязанью... И все
думала, что вот надо бы мне созвониться с Александром Ивановым и встретиться с
ним и получить от него его книгу с автографом... Но я находилась в черной
полосе своей жизни. А когда я нахожусь в черной полосе, я стараюсь ни с кем не
общаться, чтобы никого не обременять своими проблемами, которые навалились на
меня, и никого не окутывать своей порванной, истонченной, как газовый шарфик,
аурой и не напрашиваться на то, чтобы мне сочувствовали... И так и не успела я
созвониться с ним и получить из его рук его книгу «Дело Ленина смертно». К тому
же и он не сидел на одном месте, а ездил то туда, то сюда, и еще и за границу,
в Испанию. И, кстати сказать, тоже сам продавал в Москве свои книги. Не на
«площадях и улицах столицы», как я, а в комплексе «Олимпийский» на проспекте
Мира. Критик Игорь Михайлов сказал мне, что своими глазами видел там Александра
Иванова, как он стоял за прилавком, и продавал свои книги, и их у него не
очень-то и брали, и он стоял такой длинный, согнувшись над прилавком, и
разглаживал руками, длинными пальцами, мятые, засаленные бумажные десятки, и
представлял из себя какое-то такое довольно печальное зрелище.
Один
раз я, правда, еще раз нечаянно встретилась с Королем Пародии и защитником
демократических прав человека... столкнулась с ним в Союзе писателей Москвы на
Поварской, в кабинете у Владимира Савельева... Сан Саныч был тогда чем-то очень
взвинчен... и очень резко говорил о ком-то Савельеву, о каком-то аферисте,
который всех обманул и подставил, о каком-то негодяе... и не мог успокоиться...
Мы поздоровались с ним, перекинулись парой фраз и опять договорились
созвониться и встретиться с ним «где-нибудь, когда-нибудь»...
12
июня 1996 года, в День независимости, он умер. И я пришла в ЦДЛ, в Малый зал...
нет, не в Малый зал, а в большое – с лестницей на сцену и в гримерные комнаты -
фойе, где сейчас находится ресторан, на пути в «пестрое кафе», попрощаться с
великим «смехачом» и плакала у его гроба слезами, которые лились у меня из
глаз, как из двух водоканалов, и ездила хоронить его, уже и не помню, куда, и
потом поминала его на поминках в ЦДЛе, где его друзья, Григорий Горин, Леон Измайлов, Михаил Жванецкий, певец и
композитор Анатолий Шамардин, рассказывали веселые истории о нем, как
бенгальцы, которые считают, что усопшего надо поминать веселыми историями о нем
и не лить слезы по нему.
А
его жена, то есть уже вдова, Ольга, эффектная светловолосая дама в черном,
балерина с фигурой и осанкой балерины, но не худая, а вся такая в теле,
рассказала у гроба, каким добрым был Александр Иванов... и как он любил
животных... и как в какой-то стране, за границей, он спас котеночка, который
залез на карниз какого-то дома и не мог спуститься оттуда, а Александр Иванов,
который не был акробатом, полез на карниз, откуда мог упасть и разбиться (!), и
спас котеночка... как дядя Степа спас воробышка...
А
Владимир Савельев увидел меня и подошел ко мне с фужером красного вина в руке и
поцеловал меня в лоб.
«Слава
тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король...». Не сероглазый, а
темноглазый, но и светлоглазый, со светлым светом в темно-карих глазах. Он умер
от сердца. Незадолго до этого он купил себе и своей жене домик в Барселоне, в
Испании и уезжал туда с ней, а потом она осталась там, а он вернулся в Москву,
чтобы отметить здесь День независимости, и ждал ее, когда она вернется из
Барселоны. И пригласил к себе 12-го числа своего друга. И тот пришел к нему и
позвонил ему в дверь и услышал за дверью шорох и страшный хрип... И когда
позвал соседей и открыл (взломал?) дверь, Король Пародии, у которого произошел
инфаркт, лежал у порога уже мертвым трупом и еще не остыл. Он, судя по всему,
пробовал доползти до двери и открыть ее, но уже не смог подняться. А если бы
смог, то, может быть, не умер бы, друг вызвал бы скорую помощь, которая оказала
бы ему скорую помощь и спасла бы его.
А
книгу «Дело Ленина смертно» я потом получила из рук его жены Ольги, съездила к
ней домой, с Анатолием Шамардиным, автором песен на мои стихи и на стихи наших
общих друзей, и, кстати сказать, страстным поклонником Александра Иванова, и
купила у нее десять экземпляров и раздарила своим друзьям, одну подарила антиленинисту
Владимиру Солоухину. Книга эта – ценный вклад в Золотой Фонд антиЛенинианы.
...В
своих отношениях с Александром Ивановым я оказалась не недотрогою, как в его
пародии, а «недотрогою», а поэтому и он оказался «ужасным недотрогом». Я,
кажется, даже ни разу не дотронулась до него и руку ему не пожала. О чем
сейчас, через много лет, могу только посожалеть. И кофе в ЦДЛ я с ним так и не
попила. И не встала «на три табуретки» и не поцеловала его в щечку. И сожалею
обо всем этом. И, если говорить стихами Кирилла Ковальджи, на стихи которого
Александр Иванов тоже писал пародии, «в несодеянном каюсь».
...А
пародии Александра Иванова на мои стихи сейчас кто-то вставил в Интернет, и они
летают на моем сайте «Нина Краснова», как солнечные зайчики, как веселые
приветы мне от Короля Пародии, с того света, и продолжают делать мне хорошую
рекламу в литературном мире...
19
– 20 января
Москва
"НАША
УЛИЦА" №114 (5) май 2009
Проза.
Повесть. Евгений Лесин. Где мы, капитан-2?
__________________________________________________________________
Евгений
Лесин
У
Евгения Лесина свой стиль, своя лексика, своя логика, своя поэтика, свои слова,
свои частицы с предлогами, и даже буквы свои. Что уж говорить о
междометиях! Если я скажу, что Евгений
Лесин создал свой язык, то это тоже будет верно. Евгений Лесин насквозь свой,
смелый, трансцендентно инверсированный, просветляющий филигранным, хотя и
трудно фиксируемым мастерством. И в стихах и в прозе. Один такой. Хотя он, как
и все мы, вышел из народа. То есть из родильного дома… И не затерялся, как говорил Осип Мандельштам, средь народного
шума и спеха…
Юрий
Кувалдин
Евгений
Лесин родился в 1965 году в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов,
в Литературном институте им. М. Горького. Печатался в журналах "Вопросы
литературы", "Арион", "Знамя", "Октябрь",
"Юность", "Дети Ра", "Время и мы", "Наша
улица", в альманахах "Кольцо А", "Истоки",
"Эолова арфа". Автор книг "Записки из похмелья" (2000),
"Русские вопли" (2005). Член Союза писателей Москвы. Ответственный
редактор газеты "Ex Libris-НГ".
ГДЕ
МЫ, КАПИТАН-2?
Заметки
русского путешественника
1. Москва.
50
граммов перед пьянкой.
Говорят,
что полезно. Ну, а если пьянка большая, то и 50 граммов должны быть...
соответствующими. Так оно и получилось. Решили мы съездить в Ленинград.
Геодезист, Листик и я. У Г. – машина, у Листика – жопа, ну, и я, как известно,
умею примазываться.
А
тут одна сволочь и говорит: у меня день рождения. Хочу много-много подарков,
лицемерных слов любви и пр. И ведь я его знаю – та еще гадина. Гомофоб,
лесбиянкофоб, скинхед и еврей. Наш друг, короче. Анкель его зовут. Иду. С утра
вышел, пораньше, коктейль «Старый флагман» прихватил в качестве подарка (водки
«Старая Москва» и «Флагман» смешиваются в любых пропорциях), почти полная
литровая бутылка у меня получилась. Вот и хорошо, думаю. Им скажу, что литровую
бутылку купил в магазине, а чуть початая она потому, что я проверял качество.
На
себе, рискуя жизнью.
Тушинский
богатырь, другими словами.
А
путь до Анкеля неблизкий. Из Тушино до Речного вокзала. Пока я до метро дошел,
ливень ударил. Но не спускаться же в подземку (клаустрофобия с похмелья), да и
на таксо ехать без толку: адреса все равно не знаю. Пошел на свой страх и риск.
Дойду, думаю, до Речного, а там видно будет. Долго ли, коротко ли я шагал, а
паром, как выяснилось, только утром и вечером с берега на берег канала имени
Москвы ходит. А я хоть и утром ранним выполз, но шел медленно, с остановками.
Присяду где-нибудь на травку или в лужицу погрязнее, ну и стенаю: ох, мол,
хо-хонюшки и хо-хо. И глоточек. Так пешком до Захарково, откуда паром идет,
доплелся. Не судьба. Решил автобусами выбираться. Дело трудное: их ведь много,
все такие красивые, а какой до Речного идет? Решил так: еду на самом
отвратительном и чтобы за рулем какая-нибудь мерзкая тварь сидела. Повезло.
Первый же подошедший оказался настолько гнусным, что я смело туда вскочил.
Шофер (а я и на него посмотрел) был похож одновременно и на президента, и на
мэра, и на нижнюю палату парламента, и на верхнюю, на Лермонтова он тоже чем-то
смахивал, а Лермонтова я не люблю с детства. За то, что Пушкина убил и
антисемит. Добрый знак, решил я, приложился к «Старому флагману». А тут мне и
телефон звонит:
–
Ты где? – Анкель спрашивает.
–
Еду в каком-то автобусе неведомо куда.
–
Молодец. Едешь до остановки «Какая-то» и по правой стороне дом. Ори, стучи во
все двери, мы там уже повсюду.
Так
и вышло, вывалился я из автобуса, а Анкели уже по всему Речному вокзалу бегают.
Жены их, дети, какие-то гости, человек пять, а может, и три тысячи. Я первым
делом подарил подарки (там, в бутылке, еще мно-о-ого осталось), сказал А., что
он тварь, паскуда и вульгарный компаративист, лег возле какой-то тумбочки,
дремлю. Слышу сквозь сладкий сон: а где же, мол, шашлыки жарить, дождь льет,
дескать, проливной? А я костры только под проливным дождем разводить и умею:
получится – хорошо, а не получится – какой же вам под проливным дождем костер?
Пошли,
говорю, разжигать. Межнациональную рознь, спрашивают. Костер, отвечают, мировой
пожар в крови. А дождик слабенький, не ливень, под таким я не могу. Давайте,
предлагаю, на балконе: книжек у вас много, соседи миролюбивые, пожарная часть
рядом. Сидим на балконе, жжем потихоньку разные детские книжки (те, которые на
вид побогаче), а тут такой ливень ударил, что можно стало уже и на улицу выйти.
Водки три сорта: «Еврейская», «Русофобская» и – специально для Льва П-гова –
трехлитровая бутыль «Антисемитовки». Стоим, пьем, сырым шашлыком закусываем, чужие
автомашины пинаем (от дома решили не отходить). Играем в города.
Я:
Иерусалим. Они: Мерзопакостинск. Я: Киев. Они: Верхнедерьмовск. Я: Копенгаген.
Они: Нижнесранск.
Все
равно я выиграл, плюнул в лицо Анкелю, оскорбил кого-то из гостей, дал П-гову
600 долларов. Он мне должен 2400, так вот – «для ровного счета» (все-таки умеет
русский народ свои гешефты обтяпывать!), улетел на крыльях любви. А поутру...
А
поутру.
А
поутру меня разбудили вопли под окнами:
-
Хватит спать, жидовская морда, уже пять часов утра.
Геодезист
приехал. Машина марки БМВ-Бенц, ну, в смысле, козел, та машина, на которой
Джеймс Бонд катался. Одна дверца не открывается, другой нету. Пришлось через
багажник залезать. Едем к Листику. Г. за рулем, я, поэтому нарочно в лицо ему
перегаром дышу, пиво «свеженькое» предлагаю, водку. Мы ведь у Анкеля все не
допили, так я, чтоб не пропадало, кое-что с собой и унес: и «Старый флагман», и
полбутылки «Антисемитовки», и детское молочко (под кроватью нашел), и так, по
мелочи – все, что осталось да то, что они, гады, от меня в холодильник
попрятали. Ага, нашли дурака! Спрячешь тут от меня – интеллигентные люди в
Ленинград едут, город трех революций.
Геодезист
сидит в машине красный (он «Антисемитовку» обожает), а я еще и руль выхватываю,
и норовлю ущипнуть. Однако, доехали.
Листик
легла спать одетая, чтобы не собираться, поэтому звоним ей, кричим: выходи!
Она: я уже в лифте. Через четыре с половиной часа выбегает – в трусах на одну
ногу, в шапке ушанке и с лифчиком наперевес. Молодец. Шустрая.
И
вещи взяла самые необходимые: пизду и жопу.
До
свиданья, Москва.
Я
в машине уснул еще, когда Листика ждали. Пытал Геодезиста водкой (пил и его
соблазнял), ну, и, вдоволь намучив, задремал. Глаза открываю: мы уже по ту
сторону русских словарей, за гранью добра и зла и Ойкумены в придачу.
Настроение
у меня хорошее.
Давай,
говорю, пешеходов давить.
–
Неудобно как-то, – возражает Г.
–
Давай, – горячо поддерживает Листик. – Первый пешеход - колом, второй - соколом, остальные – мелкими пташечками. Москва
город затейный, что ни дом, то Питейный, и Петербург город затейный, что ни
проспект, то литейный. Когда со счета задавленных пешеходов сбились, Листик
блаженно рыгнула, выставила голый зад из машины (одной дверцы, напоминаю, не
было) и – давай народ забавлять песнями.
До
свиданья, Москва.
Видаки и шмудаки
Вещей-то
мы мало взяли, зато у каждого: фотоаппараты, телефоны, магнитофоны,
видеомагнитофоны, счетчики Гейгера, электровибраторы и пр. Видаки и шмудаки,
одним словом. А все приборы ведь капризульки: плачут, электричества просят.
Думаем: а сколько, интересно, в гостиничном номере розеток будет? Орем друг на
друга, ссоримся до слез и оскорблений. Листик уже в драку лезет, я на полном
ходу из машины прыгаю (одна дверца, напомню, жопой Листика замурована, другая
не открывается). Короче, розетки делим. Листик вопит: розеток мало, так что,
чур – каждую дырочку отдельно!
Так
орем, что милиция нас пропускает: думает – бандитская разборка. А то!
Зюганов и зонтик
Едем,
погода чудесная. Г. говорит: лишь бы не дождь, а то у меня «дворников» нет и
все такое. Листик успокаивает: не бойся, я зонтик взяла. Лучшая примета:
возьмешь зонтик – дождя не будет.
Тут
он и ливанул. Ничего, успокаивает Листик, не пропадем. И раскрывает его прямо в
машине. А он здоровенный! И не закрывается! Во все лобовое стекло у нас зонтик
раскрытый, из всех дверей жопа Листика торчит, и мы с Г. – где-то в районе
багажника прячемся. С ветерком едем!
Тут
я замечаю, что на обочине стоит автомобиль, а рядом подозрительно знакомый
мужчина малую нужду справляет.
Кричу:
стоп, машина. З-ганов.
Вылезаем,
и правда. Геннадий Андреевич. Смущается. Здравствуйте, товарищи, голосуйте за
коммунистов. И – бочком, бочком – в свой автомобильчик. Листик долго еще ему
задницу показывала, антикоммунистические лозунги выкрикивая.
Баранки,
конфеты, презервативы.
Едем,
скучаем, зонтик закрыли. Листик страшные истории рассказывает. Есть у меня
(рассказывает) баба – любовница. Сплю я с ней как-то, а она вертится,
ворочается, вошкается, стонет, хрюкает, гукает, вякает и позвенькивает.
Наконец, часа через три, вроде подзатихла. Сплю я и вдруг слышу: хруст. Что
такое, кричу? Баранки гну, отвечает. Оказалось и впрямь: сидит на кровати, вся
голая и толстая, баранки жрет. Не поленилась, сходила на кухню, принесла целый
пакет баранок – и жрет.
Листик
говорит, а из впереди идущей машины пакет целлофановый вылетает.
–
О, – радуемся, – конфеты кончились. Или баранки. Или просто большой презерватив
использовали.
2. Вышний Волочок
Гений картографии
Геодезист
всюду карту с собой таскал. Я, мол, не только геодезист, но еще и картограф,
уверял он. Приехали в Вышний Волочок. Гуляем по городу. А пошли, говорит
Листик, в Вышневолоцкий монастырь. Геодезист четыре часа изучает карту, потом
ведет. Долго идем, явно куда-то не туда, но Г. хорохорится, храбрится. Привел к
какой-то канаве. Вот, говорит. Что, спрашиваем, вот? Вот Вышневолоцкий
монастырь. По карте он – здесь. И показывает на свалку.
-
Большевики, – говорю, – конечно, ударяли атеизмом по религиозному мракобесию,
но тут никакого монастыря, по-моему, никогда не было.
-
А по карте – есть!
-
А по карте тут должен быть еще и парк.
-
Да вот же парк, – показывает в какую-то лужу.
Короче,
гений картографии.
Посмотрела
карту Листик, пернула и говорит:
-
Ты, антисемитская твоя рожа, нас в обратную сторону привел!
Пошли
обратно. Устали. Видим: велосипедист едет.
-
А давайте, – приободряется Листик, – отнимем у него велосипед.
-
Опасно, – говорю. – Он один, а нас всего трое. Причем, один из нас – я.
Ночные
рабочие.
Идем
по Вышнему Волочку, стихи Олега Григорьева горланим: «Ездил в Вышний Волочок, /
Заводной купил волчок… / Раньше жил один я, воя, / А теперь мы воем двое».
Вдруг нас старичок останавливает:
-
Вы туда не ходите. Там Завод!
-
Ну и что?
-
Заброшенный Завод. Там по ночам собираются рабочие и – работают.
Рисковать,
конечно, не стали. А вдруг и, правда – работают?
По Вышневолоцким
кабакам
Кафе
«Лагуна». Улица Красных печатников, на оптовом рынке. «Путинка»,
«Главспирттрест» – 15 рублей. Взяли 2 по 50, голубцы, сок. 115 р. Стойки
почему-то высокие. Посреди кабака – мангал. Шаурму зовут еще не шаверма, но ужа
шаварма.
А
рынок и вовсе прекрасен. На туалете надпись: «Туалет – 3 рубля, Примерка – 5
рублей».
Кафе
«Русь». Пр. Ленина, 41. Центр города, напротив памятника Ильичу. Водка
«Мировая» – 14 рублей. Мажорно, бандиты и проститутки, зато антисемитам скидка.
Во всяком случае, когда Г. спросил, делают ли они скидки, если клиент
антисемит, ему закивали.
Впрочем,
они, возможно, всем сумасшедшим кивают. Стойка и там была выше обычной. Видимо,
возрастной ценз: если не дорос, рано бухать.
По
дороге в Новгород. Почему в Тушино все бухают.
Пока
ехали, Г. рассказал поучительную историю. Про Тушино. Оказывается, в XIX веке тоже с пьянством боролись. А в
Нахабино, относительно недалеко от Тушина, находился храм. Там какой-то поп от
алкоголизма заговаривал. Последним же жилым пунктом перед Нахабиным было как
раз Тушино. Вот все алкаши там и выпивали – «по последней». Туда, в церковь,
идет толпа пьяная и веселая, обратно угрюмая и трезвая. А тушинцы – бухают. Что
ж делать, если кабаков – по одному на душу населения. С тех и пошел Тушинский
алкоголизм. От первого алкогольного геноцида.
3. Новгород
В
гостинице, заполняя анкету, Геодезист написал: «Борец против прав человека,
Грозный геодезист Г.», я написал: «Поэт и богатырь, тихий тушинский гений,
национальное достояние России Евг. Л.», Листик написала: «Листик». А в графе
«цель приезда» Г. указал «антисемитизм и тоталитаризм», я – «научный
алкоголизм, бытовое пьянство, разгул и угар», Листик написала: «энтузиазм».
Кремль,
улица Сходненская.
В
Новгороде есть Кремль. Нормальный такой вполне. Вход с утра и до 12 ночи.
Используется просто как удобный проход из одной части города в другую. А там не
просто две части, по разным берегам Волхова, а два разных города. Одна – чистый
Ярославль. В хорошем смысле. Вторая, где Горсовет и прочая власть, – старое
Тушино. Точнее, улица Сходненская. Только у нас все дома, что немцы пленные
строили, или снесли или снесут скоро, а в Новгороде – одни новейшие небоскребы.
Что еще раз доказывает истину: Тушино старше Новгорода лет на 500-700. О Москве
я уж и не говорю. Господин Великий Новгород, разумеется, старше столицы.
А
в самом Кремле – весело. Мы вошли туда уже ближе к ночи, грязные, пьяные и
веселые. У Листика отовсюду голые сиськи торчат. Подходим к скульптуре. На ней
много мужиков: все пьяные, но кое-кто еще худо-бедно на ногах держится,
остальные уже в дрибадан – валяются, песни орут…
-
А вы знаете, почему половина фигур на скульптуре почти трезвая, а половина уже
совсем на ногах не стоит? – вдруг раздался вкрадчивый голос.
-
Откуда ж нам знать? – разводим руками.
-
50 рублей. Я ведь… ну, коммерческий экскурсовод…
-
Частник? Бомбила?! – радуемся. – Может, водкой возьмешь?
-
Можно и водкой. – Немедленно пригубил, помолчал и продолжил: – Если внимательно
поглядеть на композицию – а она называется памятник тысячелетию Руси – то легко
увидеть, что стоят Петр, святой Владимир, Александр Невский и прочие русские
богатыри, цари и герои. А валяются – поляки да татары, враги наши! Вот они и
опьянели раньше, потому что мы – сильнее! Что русскому хорошо….
Дальше
он совсем уже отвлекся от скульптуры, немного еще побурчал, да и прилег. Новых
экскурсантов, судя по всему, ждать. Его можно понять – бизнес! И ведь наверняка
еще и федералы – официальные экскурсоводы – гоняют. Может, у них и разборки…
Хотели мы его расспросить, да не судьба – спал.
По Новгородским
кабакам
Кулинария
«Кулинария» (Б. Московская, 54). «Флагман» – 40 рублей, «Министерская» – 28,
«Алкон» – 29, «Тысяцкая» – 28. За 100 граммов. Заказываешь и платишь у стойки.
Еды много всякой и хорошей. А было как. Ну, приехали. Устроились в гостинице,
Геодезист свою машинку грязными трусами Листика забросал (чтоб не угнали,
пояснил он). Стоим где-то в Новгороде. Думаем: ну, куда? На речку, на Кремль
полюбоваться, по книжным магазинам прошвырнуться, проституток поискать…
Глядим:
интеллигентный мужчина, коренной, судя по всему, новгородец, идет. Медленно, с
трудом, красиво покачиваясь. Одежда соответствующая. Ботинка на одной ноге нет,
а ботинок с другой – из кармана торчит. Песню поет: понаехали, дескать, тут из
Лодейного поля!
Хором
говорим:
–
Есть замечательная идея.
Хором
спрашиваем:
-
Подкупающая своей новизной?
Дальше,
не сговариваясь, отправляемся туда, откуда идет мужчина. Видим: кафе-бар
какой-то мажорный. Вряд ли, думаем. Дальше: кулинария «Кулинария». А что?
Вполне может быть. Ну. Так и оказалось. Культовое место.
Кафе
«БлинОК» (ул. Людогоща, 10). «Флагман» – 42 рубля, «Тысяцкая» – 31. За 100
граммов. Жульены – с «курой». Музычка, проститутки, бандюганы… Ну, ясно: даже
«Тысяцкая» аж за 31 рубль! Кабак возле Горсовета (или Гордумы – хрен их там
разберет). Чего ни заказываем – ничего нет. Хорошо хоть водка была.
Подземный
переход.
Не
поверите: в Новгороде даже подземные переходы есть. Мы как по кабакам прошлись,
решили немного подвыпить. А времени – 2 часа ночи. Где тут спиртного взять,
когда и днем-то мы не много магазинов видали?
Ладно,
думаем, пойдем наугад. А мы, еще, когда гостиницу искали (тоже наугад), в
подземный переход спускались. Спустились, вышли и – хлоп! – через полтора часа
нашли гостиницу.
Решили
судьбу не испытывать. Пошли в подземный переход. Выходим и – хлоп! – магазин
«Цветы». Вы бы, конечно, заплакали. Попытались бы спуститься и выйти снова,
начали бы переживать. Потом паниковать. А потом и – пропадать.
А
мы – ума-то, ума-то! – прямо в «Цветы» и пошли. Отличный магазин. Цветов не
было, конечно, а березовые бруньки (водка такая, на березовых бруньках) –
бруньки были.
Вот
так-то вот.
«Храпящие
вместе».
Все
певцы одинаково мерзкие, поэтому я их голоса всегда различаю. В смысле,
бодрствуют-то все одинаково, а спят совершенно по-разному. Листик, например,
мечтательно пукает, я (уверяют спецслужбы) страстно чешусь и ругаю проклятых
скинхедофашистов, Геодезист, как выяснилось, – храпит. На разные голоса, с
надрывом, протяжно.
А
мы, обозрев Кремлик, пришли, натурально, в гостиницу. А там – ночь! Но мы тоже
не лыком шиты: зашли, как вы помните, в магазин «Цветы». Там, как вы тоже,
наверное, еще помните, круглосуточно торгуют – ну, в каком-то смысле цветами,
да. Взяли бутылочку, сидим, материмся друг на друга обидными прозвищами. А
потом – р-раз! – и допили. Пора, следовательно, баиньки. А кроватей всего три,
а нас целых трое.
–
А давайте, – говорю, – сдвинем. Я на трех, поперек, Геодезист на полу, а Листик
на балконе, тем более, уже тепло. К тому же ее, обнаженную, может какой-нибудь
маньяк-извращенец-вуйерист увидеть. Листик заинтересованно закивала, но Г.,
разумеется, отказался.
Легли
на разные. Песни поем, желаем спокойной ночи другу, стучим в стены, обзываем
соседей сволочью, в Господин Великий Новгород понаехавшей. Г. уснул.
Храпящие,
как известно, всегда засыпают первыми.
Не
знаю уж почему, видимо, привычка, выработанная годами. Лежим, слушаем перекаты.
Я уже медленно засыпаю, Листик сопит недовольно. Не любит, что ли? А, может, –
каприз.
Начала
она интеллигентно покашливать: ох-хо-хонюшки-хо-хо. Помогло, но на секунду. Она
– громче. Тот же результат. А я уж почти сплю, вдруг слышу сквозь сон: храп
стал потише, зато прибавились стоны и глухие удары.
Гляжу:
апокалипсис.
Листик,
яростно пердя, бьет Г. головой об острый угол кровати. Да еще и критикует:
нехорошо, мол, храпеть. Кровь во все стороны летит, остатки зубов, прочие
фрагменты тела. Затих Геодезист, только слабо постанывает. Листик, уставшая, но
довольная, мирно дремлет, а я, понятное дело, так всю ночь глаз и не сомкнул.
Вдруг, думаю, захраплю? Нет, жизнь дороже.
Утро.
Попытка любви, месть Г.
Утром,
чтобы задобрить Листика, ползу на четвереньках к ее кровати. Повсюду следы
разрушения, кровавые, с мясом, клоки волос.
–
Ну что, – говорю ласково, – приподсовокупимся? Войдем в половую связь путем
физической любви?
–
А у тебя утренняя эрекция есть?
–
Откуда, милая, у меня ж, по сути, и утра не было, не спал я. Зато... мы Г.
отомстим.
Идея
понравилась, то да се, начали, подвывая, с песнями предаваться страсти.
Г.
проснулся, конечно, интеллигентно покашливает: ох-хо-хонюшки-хо-хо. А нам-то
что? Он громче, мы тоже – громче. А подойти к Листику, понятное дело,
опасается. Убежал плакать в сортир, орет оттуда:
–
Сволочи! Я, может быть, лидер партии «Храпящие вместе»?
–
Ты еще, гад, скажи – «Храпящая Россия», у-у-у!
Колокольня «Петрович»
А
с утра мы снова в Кремль пошли. В памятник Достоевскому плевать. Мы его еще в
окно заприметили. Тоже на коне, как в Ленинграде, тоже голый, но вдобавок еще и
с мечом. У самого Кремля. Но сначала Г. нас на колокольню повел. Надо, мол, еще
и плюнуть на головы горожан оттуда: старинная традиция. Ритуал. Примета. Если
не плюнуть – милиция на выезде из города остановит. Поднялись, плюнули.
А
колокольня – очень хорошая. Как (вечная ему память) кафе-подвал «У Петровича».
В смысле лестница такая же крутая и страшная. Только там надо было сначала
вниз, с трудом, а потом, подвыпив, легко и весело, наверх. Здесь наоборот. Зато
вид хороший.
-
Не стесняйтесь, пейте, что принесли, – говорят экскурсоводы. Милые люди.
Да
и Достоевский мне понравился. Листик вскарабкаться захотела, но Г. закричал: у
нас мало времени, а нам снова надо весь Кремль обойти – снаружи. Чтобы обоссать
в семи местах. Тоже якобы ритуал. Что делать? Ходили и ссали. В одном месте Г.
нашел в стене какой-то железный крюк.
-
О, – впал в экстаз, – о!
Крюк,
оказывается, геодезисты вбили. Коллеги. Сел возле него, молится. Какие-то
сложные масонские обряды справляет. Потом, под заунывную геодезистомасонскую
молитву, дрочить начал. Мешать не стали ему, пошли еще раз в Достоевского
плюнули. Листик его даже ногой пнула, потом всю дорогу ругалась. Сволочь,
кричит, ваш Достоевский. Гад, железяка страшная. И ничего он не наш. Наш –
Тургенев, а Достоевский – не наш.
Да,
милиция! Милиция нас потом на выезде, разумеется, остановила. Правда, за пару
минетов и мой эротический танец «Слава России», отпустила. Г. уверял: если б не
плюнули, прямо на месте нас всех и порубали бы саблями. Никаких сабель у
милиционеров я, честно говоря, не видел, но не спорить же со специалистом!
Комментарий группы
новгородских филологов «Роботы против Лесина»:
Так то и есть «Кокуй»
– башня такая с названием неприличнейшим. Он в стену Кремля вделан. А памятник
– за стеной Кремлевской. Может, и Достоевскому памятник, не присматривались мы
к нему. Но бороды-то вроде нет. Но так ведь он побриться мог, верно? Он же в
Старой Руссе бухал, то есть рядом совсем. Озеро надо объехать – и ты уже в
Старой Руссе. Только дорога плохенькая. И заблудиться можно.
Словом, все у Лесина
правда: Выездов
в Новгороде много, а въездов мало.
Плевать можно куда угодно, когда угодно и на кого угодно. И никто не обидится.
А сабли есть не у милиционеров, а у богатырей. С ними можно бухать и
фотографироваться. Они в кольчугах и шлемофонах старинных. У них пальцы
поотрублены у многих – любят сабельками помахать с похмела. Вот и калечат друг
дружку.
4. Ленинград
УльтраТушино.
Гостиницу
выбирал Геодезист. От какого-то завода, возле Комсомольской площади. Идем,
кругом заводы, заводы, заводы, заводы. А сама гостиница? Проходная – советская
вертушка. Забор каменный, сверху колючка, круглые сутки шум заводской.
УльтраТушино.
Пытаюсь писать
Я
еще и писать пытался, сочинять то есть, в гостинице. А как? Листик с Г. все
время бухают, буянят, орут в окна матерные песни, бегают голые по коридорам.
Геодезист нашел какую-то бабу на этаже, она ему и стопарики принесла, и под
подмышками чешет, вместе с ним из окна в прохожих плюет. Я только притулюсь,
ну, записать чтобы. Они вопят: «Эй, жидовская морда! хорош Россию продавать!
Давай выпьем за смерть еврейских олигархов!..»
Ну
а писать… Урывками, в туалете, под кроватью: кое-как.
Пока
Листик, конечно, оттуда пинками не выгонит.
По ленинградским
кабакам
Итак,
Москва – Санкт-Петербург, весна 2005 года.
Китайский
ресторан «Мэй Хуа» (Гороховая, 28). «Флагман» – 25 рублей. Все остальное
какое-то и впрямь китайское. Лапки тараканов в лягушачьем соусе на горящих
палочках. Остальное так и вообще – экзотика. Но, уверял Геодезист, самые
дешевые китайские рестораны именно в Ленинграде. Ну, может быть. Целый день он
нас по китайским кабакам водил. Я уж на следующее утро сбежал от него, на улицу
Марата отправился. И правильно сделал. Иду, Розенбаума добрым словом вспоминаю,
гляжу: магазин «Главрыба». Абырвалг, если кто не помнит. Очень, очень
литературно.
Кафе
«На Марата, 14» (Марата, как ни странно, 14). «Флагман», «Дипломат» – 30
рублей. Остальное подороже. Ну, ничего, ничего.
Кафе-бар
«Лев» (Марата, 26). «Московская» – 12 рублей. «Охта» – 14, «Синопская» – 18,
«Флагман» – 20. Мне, говорю, «Московской». И вздыхаю. 50 граммов. Ну, и
водички. Вот тут у вас лимонад вроде. Парняга видит: коренной ленинградец, пьет
гадость (московскую!) только из-за цены. Вам, спрашивает, лимонаду совсем целый
большой стакан или половинку, конечно же. Конечно же, говорю, половинку. Ну не
чудо ль? Полстакана. Кстати, там, на Марата, в каждом доме почти кабак. И
китайская хрень есть, и чайная. И дорогие заведенья, но не буду ж я про всякое
гавно писать? Вам половинку, конечно же…
Кафе
«Висла» (Гороховая, 17, угол набережной Мойки). «Флагман», «Главспирттрест» –
20 рублей. Бутерброд горячий – хороший. Неплохое местечко, правда, какое-то
студенческое. Тост там у нас родился.
-
Ну что?
-
Да.
-
Ну, давайте.
По-моему,
хороший тост. Емкий.
Бистро
«НЭП» (Мойка, 37). «Флагман» – 30 рублей. Да, Мойка. Мимо Пушкинского дома я без
шуток не хожу. Зашли туда. На стене надпись «Пидоры, привет». А я ведь был там
– в Пушдоме – точно. В 1996 году (о нем позже, в главе про хуй Барклая де
Толли). Посидели, попили пивка. На лавочке маньяк сидел, книжку читал. Мы его
еще утром увидели, в метро. Ну, маньяк маньяком. И как его в метро-то пустили?
А он оказывается, вон куда ехал – книжку читать. Я и говорю: маньяк. Так вот
«НЭП». Подвал. Скорее столовая, чем бистро. Заказываешь, платишь, дают кубик с
номером. Чтобы не перепутать, что нести. А по путеводителю, там – музей О.
Бендера. Мы сначала пошли не в подвал, а в дом. А там – галерея для
миллиардеров. Картины, брильянты. Бери, что хочешь и уходи. Ни охраны, ни чего
или кого другого. Долго бродили, стырили пару миниатюр. Заходим в соседнюю комнатку,
а там – бухают. Ну, тогда все понятно. Спустились и мы. Подвыпив, поняли, что и
впрямь музей. Стены обписаны цитатами из О. Бендера. Все время шутят. Заказали
борщ, принесли солянку. Заказали жульен, принесли салат. Ничего не совпало,
кроме водки.
С
водкой не шутят.
Публика:
туристы. Им тоже несли что попало. Странно, никто не спорил, не возмущался. Ну,
иностранцы. Дикари. А приходить туда стоит хотя бы из-за морса. Сами варят.
Хорошо.
Фаст-хуй
«Фаст-хуй» (Садовая, 36). «Дипломат» – 25 рублей, что-то есть и по 20. Но мы
уже как-то к «Дипломату», что ли, привыкли. Больше ничего не помню.
Музей водки «Музей
русской водки» (Конногвардейский б-р, 5). Водки самые разные, дешевые – 15
рублей. Закуски тоже разные. Оформлено под «русский трактир». Может быть, не
жил тогда, не знаю. И в принципе там и в самом деле есть музей. Но за вход
взимается плата, 30, кажется, рублей. Плюс за дегустацию – 20. Музей неплохой,
особенно мне понравился стенд, где про недавнее прошлое. «Московская» по 5.50.
Андроповка, Рояль и пр.
Но
вы лучше сразу в трактир. Так и говорите: мы не в музей, мы в трактир. Тогда и
за билеты платить не надо. Потому что кабак-то неплохой. А с другой стороны –
опять же музей. Мы взяли и дешевых, и не очень, а Листику – самую дорогую. По
45 рублей. «Белая вагина», что ли, короче, «женская».
По каменноостровским
кабакам
Кафе
«Кам-ин» (пр. Добролюбова, 5). «Флагман» – 22 р. 50 к. «Дипломат» – 30.
Мажорно, но все-таки – первый кабак при входе на Каменный остров, КО, если
по-нашему. Каменный остров – лучшее место в Ленинграде. Даже не УльтраТушино, а
СуперУльтраТушино.
Кафе-бар
«Ярица» (пр. Добролюбова, 22). «Флагман» – 30 рублей. Якобы «Русская кухня».
Обстановочка и в самом деле «под Русь». Скамьи, всюду связки якобы лука,
традиционное (видимо) русское блюдо: жульен из кальмаров. Мы там, кстати,
случайно оказались. Дождь был лютый, Листик ботиночки с носочками промочила.
Идем, магазин «Обувь». Ботинки – 200-300 рублей. Взяли. Я еще и себе купил. А
как не купить? Ботинки фирмы «Фейгин». Когда наш друг Ф-гин уезжал в Германию,
мы решили: пропадет. А у него – целая фирма. Купили. Ну а в «Ярице» обмыли.
Кафе
«Апельсин» (Блохина, 22). «Ладога» – 11 рублей, остальное еще дешевле, а жратва
и вовсе – какая-то запредельно хорошая, по бросовым ценам. Пиво бесплатно.
Нет,
правда. За нашим столиком кто-то кружку оставил. Если он и пригубил, то
глоточек. Маленькое кафе, но у стены – смешно – игровые автоматы. Туда тоже
случайно зашли: купили Л. еще и носочки. Вот там и обмывали носочки.
Рюмочная
«На посошок» (Кронверкский пр-т, 53). «Скобарь» – 12 рублей. Соленый огурец – 3
рубля. Комментарии, блядь, нужны? А там еще и герб СССР, протекающий потолок,
слов нет, пишу и плачу от счастья.
Кафе
«Зеленая лагуна» (Куйбышева, 33/8). После посещения крейсера «Аврора» (о нем –
позже) все идут в «Субмарину» (барец – гавно, не стоит и писать), а надо – в
«ЗелЛаг».
Рюмочная
«Рюмочная» (Малая Посадская, 14). «Охта» – 11 рублей. Закуска – половинка яйца.
Баба, что бухло продает, – ленинградская красавица. Пьяная в драбадан. На ногах
не стоит, хохочет, орет. Но дело – делает. Размер рюмочной – 50 квадратных
сантиметров. Стена, стойка, стойка с бабой. Зашли, выпили, а я – в слезы. Был я
здесь. Не помню когда – в какой именно приезд – но точно: был. Еле, всего в
слезах, увели меня. Право, только ради одной той рюмочной стоит в Ленинград
ехать. Хоть из самого Новосибирска. Хоть… да ладно, чего уж там.
Долго
не могли уйти с Каменного острова. Пьяный Листик хотела найти «нашу» рюмочную.
Ну,
та, которая – рюмочная «Рюмочная» (Кронверкская, 8, не путать с кабаком-гавно
«Марафон»). 2 по 50, салат, пиво и сок: 58 рублей». Мы там в прошлый раз были.
Вот
и бродили от кабака к кабаку. В конце концов отыскали. Батюшки светы! А там еще
лучше, чем год назад. Цены, по-моему, только ниже стали, а водка вкуснее. Люди,
соответственно, дружелюбнее.
Комментарий группы
ленинградских филологов:
Нету в Ленинграде
Каменного острова.
Комментарий автора к
Комментарию группы ленинградских филологов:
Ну, может, и нету.
Какая разница? Мы там были – вот что главное.
Крейсер
«Аврора». Коммерческий морячок.
Гуляя
по кабакам, пришли к кораблю революции почти ночью. А он закрыт. А за деньги,
спрашиваем. А за деньги, отвечает шустрый коммерческий морячок, открыт. Да еще
и с экскурсией. И фотографируйте, сколько хотите. И пейте, я вам даже сейчас
стаканчики принесу. На закусочку есть помидор. Пошли на кораблик. Геодезист во
все приборы залезает, задает умные технические вопросы. Листика ебут сначала
тайно, в якорной (за второй помидор), а потом и нормально (за третий, да и я заволновался,
бабы не увидав, решил, что за борт рухнула). Я тихо подвыпиваю на палубе. Гляжу
с любовью на Листика, жру заработанные ею помидоры. Г. тем временем к пушке
подвели. Он снова – вопросы. Хуйню какую-то спрашивает.
-
А можно, – Листик орет, – пальнуть пару раз?
-
Конечно, только холостыми, а то еще пораним кого.
А
если прямо в Кремль, прямо по стене поганой кремлевской, прямо по Василию,
гаду, блаженному?
-
Ну, тогда – боевыми.
Стрельнули.
Выпили. Еще по разику. Долго колобродили. Выходим, глядим последний раз на
«Аврору». А наш морячок уже с пакетиком и – в магазин. За водкой, вестимо.
Три вокзала
Весь
день Листик с Геодезистом меня по китайским кабакам водят (Г. почему-то их страсть
как любит), мучают какими-то мидиями, поят до бесчувствия (чтоб любил их, а не
русскую литературу), а ночью домой – на моторе, конечно (как ленинградцы). А
гостиница, напомню, на Комсомольской площади, на Комсомолке.
Ловлю
тачку:
–
На Три вокзала!
–
Не далеко ли? – сомневается шофер.
–
Так потому и на машине: на метро не доедешь, пешком еще дальше.
–
Так ведь только к рассвету будем.
–
А ты с ветерком, – настаиваю, и думаю сам про себя: ни фига себе у них тут
расстояньица, да и ночь вроде бы только началась.
А
тут и Листик очнулась, орет:
–
Да тут ехать с гулькин... – дальше мнется, ищет как бы погрубее.
Ничего,
поехали.
–
Я только, – говорит, – жене позвоню, что в Москву еду.
Тут
только мы и поняли, что таксист не местный, из понаехавших. Хорошо, что Листик
снова уснула, объяснил бродяге, где в Ленинграде Комсомолка, Три вокзала, верфи
и УльтраТушино.
Библиофилы и хуй
Барклая
Началось
все еще в 1996 году. Я тогда в газете «Алкогольные хроники» работал, хроником.
Послали меня на съезд библиофилов. В Ленинград. Жили в гостинице Дома ученых.
Славная такая общага в самом центре. Библиофилы они кто? Скучные, пожилые,
глупостями всякими увлекаются. Я, понятно, каждый день, еще с утра, напивался в
хлам. Так они меня возили и носили – единственный журналист, да еще из Москвы –
по своим скучным мероприятиям. Так что я и в Пушкинском доме побывал, и в
Русском, что ли, музее, любое ученое место в Питере назовите – я там почти
наверняка был. Спал пьяный в блевотине.
Вечером,
разумеется, они от меня избавлялись, отдыхали. А я шел (ну, полз, конечно,
полз) дальше колбаситься. Ночью вваливался, пел, свистел, ругал отечественное
книгоиздание. В конце концов, они меня избили сообща. А я им тонко,
интеллектуально отомстил. Написал блестящую, подробную статью, с коллективной
фотографией всех видных библиофилов России. С подписями. И ни одной правильной,
всех перепутал.
Так
вот. В один из дней брел я пьяный по Невскому, от Московского вокзала (я каждый
день туда ходил, пил и плакал, грустя о столице). По дороге устал. Уснул в
милом парчке на лавочке. Проснулся ночью. Холодно, страшно, а вокруг
мистические ужасы. То ли бассейн, то ли озеро. Каменное. Темное угрюмое здание,
все увешанное (другого слова не подберешь) колоннами. А я ж помню, что на
Невском! Иду. Колонн все больше, дом все страшнее.
Заблудился.
Среди
колонн!
Час
или два там бродил, думал, что в аду уже, замерз и теперь муку смертную
принимаю. Как-то – не знаю как! – вышел. Смотрю: Невский. Оглядываюсь: ни
парка, ни страшного дома в колоннах нигде нет. Ну, и хрен с ними, подумал,
пошел буянить в гостиницу Дома ученых.
Прошло
много лет, приехали мы с Листиком в Ленинград. В последний, по-моему, день
уговорил поискать тот парчок. Раза четыре прошли Невский от Московского вокзала
до Дворцовой. Ничего не нашли. Недавно тоже были в Питере. В основном, ходили и
плевали в памятники Достоевскому (особенно понравилось плевать в тот, где он
голый и на коне), немножко подвыпили (кажется). Искали тот парк и страшный дом.
Не нашли.
А
тут идем, Листик прохожих задирает. Г. говорит:
–
Пойдемте, посмотрим на хуй Барклая де Толли. Я знаю памятник, где если с
правильной точки посмотреть, то кажется, что он хуй дрочит.
–
Ладно, – говорю, – хотя в Москве, на улице Герцена, недалеко от небезызвестной
рюмочной еще лучше есть. То ли горельеф, то ли барельеф. Там один большевик
другому большевику дрочит.
Пришли,
короче.
Листик
орет:
–
Казанский собор – мой любимый.
Оказывается,
Барклай именно там стоит. Довольно мрачноватый такой собор, музей религии,
по-моему.
Ну,
ходим, правильную точку ищем, Листик эротическими подробностями интересуется, а
мне что-то не по себе. Иду – осторожно – к Собору и как-то мне уже не до хуя
Барклая де Толли.
Тот.
Самый. Просто с Невского он и в самом деле – Собор. А внутри там и парчок, и
лавочки, и бассейн (фонтан). И Страшный Дом с колоннами.
Сейчас
по ступенькам не пускают, а я по самому Пеклу ходил.
Страшно.
Такова
великая сила искусства.
Карлсон.
Ловко избежал ебли.
Ночь.
Водка кончилась. Листик, вся томная, подбирается к кровати. Г., уже в пьяной блевотине,
мирно храпит в коридоре, под ковром (для тепла, разумно пояснил он). Я тоже в
пьяной блевотине, но сознание работает предельно четко, голова ясная: известное
дело, Листик баба без тормозов, может и эротической любви путем полового акта
захотеть.
Наношу
превентивный термоядерный удар:
–
Эх, приподсовокупимся? Или все-таки спать? Или... (театральная пауза)... пойдем
соседей пугать?
–
Как пугать? (явно заинтересовалась)...
–
Ну, как, залезем в пододеяльники (их нам выдали целых два на троих, потому что
номер был пятиместный с одной кроватью на 7-8 человек), прорежем дырки для глаз
и рук и начнем врываться в номера с криками:
–
Что, безуглявики, приблухавились?
Идею
Листик одобрила, тут же исполнила. Я, пока она всю ночь колобродила, тихо
ворочался в уютной блевотине. Ебли удалось избежать.
Общество чистых
тарелок
Устав
от ночных хулиганств, тем более, что, по ее словам, Листика где-то между
этажами впятером изнасиловали пьяные кухарки и администраторша, решили учинить
что-нибудь полезное. И даже не учинить, а учредить. Ничего в голову не пришло
кроме Общества чистых тарелок. Я возглавил крайне левое жидомасонское крыло,
Геодезист ультраправое антижидомасонское, Листик, со свойственным ей центризмом
взяла на себя бремя руководства фракцией «Цветочки любви, какашек и березовых
брунек» (любимая водка ее такая – на березовых бруньках, ну а какашки любой
любит).
И
вот утро. Спускаемся к завтраку, у каждого талон (у Листика – три, ибо она не
бесплатно же... ну, скажем так, была изнасилована). Еды дают – море. Плюс чай,
тарелку (каждому!) и еще что-то веселое, пусть и ненужное. Сидим, объедаемся, а
Листик почему-то чайный пакетик берет, разрывает и в рваном виде в чашку
кладет. Чаинки начинают плавание, она пакет в панике вынимает, пытается у меня
чай украсть. Я-то пью правильно: пакетик в чашке, сахар высыпал туда же,
ложечка чайная, а кипятка нету (ну, не нашел я где у них кипяток выдают, а
спросить не посмел). Геодезист же сожрал все, не глядя и не разбирая: вместе с
пакетиками и салфетками. Такое вот Общество чистых тарелок. Тарелки, кстати
говоря, Листик разбила. Мы доверили ей отнести на кухню все оставшиеся тарелки
и чашки, она и хряпнулась где-то. Кипятком обварилась и трусы порвала.
Страшная история,
рассказанная утром
Листик
говорит. Спим. Тихо. Геодезист храпит на подоконнике (чтобы удобней было
приподблевнуть в случае чего). Вдруг ты (ну, то есть я, она ж про меня
рассказывает) садишься, начинаешь качаться. Качаешься долго и молча. Как
мусульманин какой. Я спрашиваю: ты чего? Молчание. Что, спрашиваю, хочешь.
Может, в сортир? Ты молчишь, как изваяние. Выталкиваю тебя из кровати, даю
азимут: в сортир. Ты покорно идешь. Заходишь в комнатку, где душ, долго там
недовольно ворчишь что-то бессмысленное (видимо, не найдя унитаз), потом идешь
в туалет, долго с наслаждением ссышь.
Вернувшись,
покорно ложишься на полу, мирно блюешь.
Чахотка.
Половой акт.
После
рейда по Каменноостровским кабакам проснулись без похмелья, но пьяные. В
петроградский драбадан. Лежим, спокойно ебемся, Г. дает ценные советы и
указания (типа: в пизду, в пизду хуй сувай-то!). Листик начинает истово
(неистово) покашливать. Испытываю эротическую радость. Понимаю: потому так
любили русские писатели чахоточных девушек, что при ебле они все время кашляли.
Дверь.
Парадокс.
Геодезист
по ночам к бабе своей все время бегал. Возвращался шумно, гордо застегивая
брюки. Спрашиваю его как-то, входящего в номер:
-
Ты дверь-то закрыл?
-
Конечно.
-
Снаружи или изнутри?
-
Конечно, снаружи.
-
А как же ты тогда вошел?
-
Парадокс.
На улице Гороховой
ажиотаж
Как
– не помню, но угодили на литературный вечер. Купили бутылочку, литровенькую,
воды минеральной. Идем. Видим: кабак. Заходим. Город, на всякий случай,
уточняю: Ленинград. Кого видим? Ф-зов, Данила Д-дов, Ш-таковская. Прочая
московская публика. Короче, ну сами понимаете – как будто и не уезжали.
Заведение – кабак. На Гороховой. В дальней комнатке стихи читают. Сидим на
полу. Пьем водку из горла. Баба выходит – все говорят, что ленинградка. Читает
стихи про Тушино. Хорошая. Красивая. Другая баба. Смешная такая. Хорошая.
Красивая. Сидим на полу. Пьем водку из горла. Мальчик выходит. Хороший.
Красивый. Листик бьет Ш-таковскую бутылкой по голове. В шутку, конечно. Д-дов
спит, блюя. Ф-зов, блюет, спя. Мы пьем водку из горла. Стихи, да. Д-дов
проснулся, орал что-то, прямо на полу лежа. Прямо спя, прямо блюя. Выступил,
короче, молодец. Люблю его. Он тоже хороший и красивый. И Ф-зов хороший и
красивый. Он – тоже лежа, тоже спя и тоже блюя – и Листику дружески руку пожал,
и со мной поцеловался. Молодец.
А
потом мы бухать поехали. В ленинградское Бирюлево. Москва Москвой.
Супермаркеты. Спальный, короче, район. Комнат – штук пять. Все деревянные (у
кого-то из нас там, оказывается, вообще новоселье было). Листика на балконе
ебали, я на полу блевал. Ничего не помню. Понравилось.
Нет.
Одну девочку все же вспомнил. Я ей обещал про вечер написать. В газету. Не
написал.
6. Путешествие из
Петербурга в Москву
Специально
книжку купили. Радищева. Того самого. Едем, читаем, сравниваем. Итак, Александр
Николаевич Радищев: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества
уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел…».
Не
знаю, не знаю. Мы хоть и пьяные отъезжали, да не блевали.
Выезд.
Александр
Николаевич Радищев: «Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку…» Ну,
натурально, нажрался, писателюга.
София.
Александр
Николаевич Радищев: «Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по
обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается,
что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых
песен суть тону мягкого…»
Геодезист
тоже песню орал. Отвратительно, тону не мягкого, зато, конечно, заунывно.
Листик подпевала, подпевала, да бросила. А самой Софии – нет. Переименовали,
что ли, сволочи?
Подвыпили.
Тосно.
Александр
Николаевич Радищев: «Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была
наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя.
Такова она была действительно, но – на малое время. Земля, насыпанная на
дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую
грязь среди лета и сделала ее непроходимою... Обеспокоен дурною дорогою…»
Полноте,
Александр Николаевич. В ваши-то времена дорога на Питер явно была лучше – тогда
ее только построили недавно. А теперь строить некогда, всем приподнаворовать
надо успеть, зато название гордое дали: Федеральная трасса «Россия». Тосно же
мы проехали, не заметив. Плюнули только из кабины, Листик пернула. Геодезист
поругал жидов, масонов и «прочих всяких разных писателешек» (не пил, горемыка,
оттого и сердит был).
Любань.
Александр
Николаевич Радищев: «Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может
быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях,
а возвращаются на телегах…»
А
и в самом деле. Туда пьяный, обратно – тоже. Дождь лил. Подвыпили. Не могу
разобрать свои записи. Уже, видимо, пьяный писал.
Чудово.
То,
что Радищев пьяный ехал я и раньше знал, но что в такой драбадан, только сейчас
понял. Судите сами. Александр Николаевич Радищев: «Ночь была тихая, светлая, и
воздух благорастворенный вливал в чувства особую нежность, которую лучше
ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благость
природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем
восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не
удавалось..»
В
Чудове допили все пиво. Радио перестало принимать. На дороге написано
«Успенское». Чудово, уверял Геодезист, где-то сбоку.
Спасская
полесть.
Александр
Николаевич Радищев: «Лошади были уже впряжены; я уже ногу
занес,
чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. «Беда невелика, – размышлял я, –
закроюсь циновкою и буду сух». Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как
будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и
дождь лил ведром. С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь, дале будешь –
вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе
было темно. Но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя
мокрое платье и…»
Теперь
называется Радищево. Ага. Снял с себя мокрое платье, обсушился. Видимо, он там
хорошенько… остановился.
Подвыпили
за него, шалуна.
Подберезье.
Александр
Николаевич Радищев: «Между тем как я платил почталиону прогонные деньги,
семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упадшее и
не отдал ему. Не обличи меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким
условием, я и тебе сообщу, что я подтибрил...» А. Н. все шалит, клептоманище,
плагиатор.
А
место, между тем, серьезное. Братская могила 2-й ударной армии. Помянули. Три
памятника там. Один советский, где даже названия такого нет: 2-я ударная. Два
новых, нынешних. Там, конечно, указано. Ходили. Где советский. Воевали, в
основном, взрослые мужики. Год рождения: 1901, 1902, 1903... То есть по сорок
лет. Ну, как и нам с Г. Перекрестился, хоть еврей и атеист, постоял по стойке
смирно (к пустой голове руку не прикладывают), хоть и… отбыл 2 года, месяц и
три дня в Советской Армии. Еще помянули. Только протрезвели, конечно.
Новгород.
Александр
Николаевич Радищев: «На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться
зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок
царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея
республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до
основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют,
приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новогородских. Но какое
он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоять
Новгород?»
Да
ладно вам, А. Н. Знали б вы, что нынешние опричники там творят. И что
большевичье выделывало. Лучше на речку глядеть, она мудрее правителей. Вот и
мы. Не доезжая, остановились. Я в магазин заскочил. Продавщица – чистый Лукас.
Лукас, для тех, кто не знает, ленинградка, наша баба. Продавщица – такая же.
Огромная, рыжая, кудрявая, энергичная, орет, хохочет. Ну, вепс. Вам,
спрашивает, какую водку? Я даже не удивился (по роже видно, что за водкой).
Чтоб Листику понравилось, отвечаю. Дает – не поверите! – на бруньках. Откуда
знает? Лукас, чистый Лукас! Колдунья. Божественная. Восхитительная. Нежная и
удивительная. Я про продавщицу. Выпили.
Бронницы.
Александр
Николаевич Радищев: «На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы,
стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте
славного древнего капища построена малая церковь». Не нашли мы Бронницы.
Переименовали, что ли, опять или снова где-то сбоку. Подвыпили.
Зайцово.
Александр
Николаевич Радищев: «Сей день путешествие мое было неудачно; лошади были худы,
выпрягались поминутно; наконец, спускался с небольшой горы, ось у кибитки
переломилась, и я далее ехать не мог. Пешком ходить мне в привычку. Взяв
посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге
не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на гулянье в Летнем
саду…»
А
мы и не заметили никакого Зайцова. Даже не долбанули по капельке. Ну да и ладно
– не в Летнем саду!
Крестцы.
Александр
Николаевич Радищев: «Скажи по истине, отец чадолюбивый, скажи, о истинный
гражданин! Не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в
службу?» Ну, в смысле, лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор? Пожалуй.
Подвыпили. Поглядели на памятник самолету. Порассуждали о лошадях (записи
становятся все неразборчивее). Не знаю, почему записал: «Г.: она пьет, ест и
срет. Л.: и трахается». О лошадях так мы, что ли, говорили? Интересный, судя по
почерку, был разговор.
Яжелбицы.
Александр
Николаевич Радищев: «Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего
на себе власы человека понудил меня остановиться. Приближаясь, увидел я, что
там совершалось погребение. Надлежало уже гроб опускать в могилу, но тот,
которого я издали зрел терзающего на себе власы, повергся на гроб и, ухватясь
за оный весьма крепко, не дозволял оный опускать в землю. С великим трудом
отвлекли его от гроба…»
Ох-хо-хонюшки-хо-хо.
Цитирую
записи, то, что можно прочесть: «С трудом проснулся, еле подвыпил, закуска
кончилась, бухали бензин». Неужели? Ох-хо-хонюш…
Валдай.
Александр
Николаевич Радищев: «Новый сей городок, сказывают, населен при царе Алексее
Михайловиче взятыми в плен поляками…» Да? Кто такие поляки? А то у нас тут уже
все – конец фильма. Сон сморил путешественника. Книга выпала из рук. Далее –
Едрово, Хотилов, Выдропуск, Торжок, Медное, Тверь, Городня, Завидово, Клин,
Пешки и Черная Грязь – пронеслись одним пьяным сном.
Слово
о Ломоносове.
Ах,
да. Чтоб он там про Ломоносова не наплел, я лучше скажу. Старинным русским
анекдотом. Сидит интеллектуал, дрочит на картинку. Заходит другой интеллектуал.
–
На что дрочим?
–
Вот...
–
Так то ж Ломоносов!
А
мне нравится...
Москва! Москва!!!
Согласен,
Александр Николаевич, согласен. Москва, Москва.
7.
Москва. Тушино. Счастье без границ.
Проснулся.
Все еще едем. Г. держится мужественно. Громко ругается. Уже Строгино. Листик
спит. Хрюкает. Моргает. Ковыряется у меня трусах. Спя. Лицо глупое и
счастливое. Молодец девочка. Даже так – девачка. Приехали к ней, сбагрили, едем
в Тушино. Г. надо в Митино, прямо по дороге. Он хочет к дому меня подвезти.
-
Да нет, – говорю, – подальше останови. Хочу погулять. По Тушино погулять.
Иду.
Ночь. Или утро? 4 часа. Ларьки закрыты. А зачем они? Хорошо-то как. И пива
никакого не надо. Любимый город может спать спокойно. Любимый город. Долго
гулял. На мост вышел. Сходня. Канал, прорытый зеками по руслу реки Сходня.
Самая древняя, говорят специалисты, река в мире. Умирает уже. Есть участки, где
настоящая Сходня течет. Совсем ручеек. Но тушинцы купаются. И тарзанка висит.
Любимый город. Река. Хотя и канал. Спускаться к воде не стал, слишком темно. И
так хорошо. Я люблю вас. Всех.
Примечание. Некоторых
описанных заведений уж и нет давно. Точнее, – многих. Но я все равно оставил и
названия их и адреса. Чтобы помнили. И еще: они так стремительно закрываются,
переделываются и пр., что – не уследишь. Не предупредишь любезного читателя: не
ходи, мол, там ничего уже нет. Извините. В Ленинграде я сколько уж лет как не
был – как проверить? А Новгород? А Харьков? В Москве тоже все меняется, ничего
не течет, но меняется. И не в лучшую сторону. Про некоторые я, впрочем,
написал, что они закрыты. Извините еще раз. Не удержался. Конец примечания.
Проза.
Польский юмор. Януш Осенка в переводе Анатолия Шамардина
__________________________________________________________________
Януш
Осенка
Януш
Осенка – один из самых ярких польских писателей-сатириков, принадлежит к той
славной когорте своих коллег, которые в 70 – 80-е годы ХХ века задавали тон
всей общественной жизни Польши и рассказы, репризы и шутки которых служили
основой всех выпусков популярнейшей советской телепередачи – кабачок «13
стульев», возникший и открывшийся на экранах советского телевидения в 1966 году
и закрывшийся (насильственно прикрытый противниками юмора, и особенно сатиры) в
1980 году.
В
1-м выпуске альманаха «Эолова арфа» были напечатаны два рассказа Януша Осенки –
«Школьные годы» (монолог секретарши) и «Часы с кукушкой», в переводе певца и
композитора Анатолия Шамардина, который на досуге любит читать зарубежную
литературу на зарубежных языках.
Во
2-м выпуске альманаха вниманию читателей предлагаются миниатюры Януша Осенки и
его рассказ «Ветеран», опять же в переводе Анатолия Шамардина (с польского
языка через немецкий).
ВЕТЕРАН
Аккурат
к празднованию тысячелетия Польского государства, было решено – для украшения и
во славу округа, чтя давние традиции, избрать достопочтенного старца,
достойного уважения, который бы на торжественных мероприятиях по случаю юбилея
взял бы на себя роль представлять почетные функции долгожителя.
Во
время поисков подходящей кандидатуры на эту роль выяснилось, что в округе в
самом деле проживает солидный пан внушительного возраста, 99-ти лет от роду, но
благодаря своему здоровому образу жизни и весёлому нраву он выглядел слишком
молодым и легкомысленным для этой почтенной роли.
Ему
можно было дать от силы 70 лет, а это, сами понимаете, было просто несерьёзно.
В виду таких форс-мажорных обстоятельств предпочтение решено было отдать другой
кандидатуре – глубокому старику, которому, правда, только что исполнилось
всего-то 75 лет, но который производил впечатление столь дряхлого старика, что,
на первый взгляд, ему можно было дать целых 100 лет, и даже чуть больше. А
потому решено было утвердить его кандидатуру. И его единодушно, в
административном порядке, назначили 105-летним старцем. Он даже успел принять
участие в нескольких праздничных мероприятиях, во время которых восседал в
кресле за столом президиума или же прикреплял орден к знамени. Старик
прямо-таки наслаждался невероятным обожанием и почитанием к нему со стороны
публики. Но какой прок от этого, если в соседнем округе отыскали 115-летнего
старца, вокруг которого в прессе и в разных праздничных мероприятиях тотчас же
возник грандиозный ажиотаж и шум. Этот второй старец представлял серьёзную
конкуренцию первому старцу, и, хотя ему на самом деле было всего-то 80 лет, тем
не менее у него было 5 лет преимущества в возрасте. Возникла необходимость что-то
предпринять с первым стариком, чтобы он не отстал от второго, не стоял позади
него. С этой целью его как-то разговорили и спросили, не принимал ли он
случайно участия в январском восстании 1863 года, что в самом деле могло бы
свидетельствовать о его почтенном возрасте. Старик, которому содовая вода и
легкое вино ударили в голову, радостно подтвердил: разумеется, само собой, он
всё помнит... в то время он действительно командовал отрядом повстанцев.
Однако, когда его стали расспрашивать о подробностях тогдашнего восстания, он
показал себя в знании тех событий как корова на льду, то есть обнаружил полное
незнание этих событий. После чего решено было организовать специальный
образовательный курс, чтобы старик случайно не наплел чего-нибудь лишнего,
одним словом, чтобы он не сел, как говорится, в лужу и не осрамился. Надо
сказать, старик показал себя в учёбе человеком старательным, прилежным и
честолюбивым и делал значительные успехи во время учёбы. Вначале у
руководителей праздника было желание выбрать ещё несколько старых кандидатов,
чтобы, как говорится, иметь смену, пополнение. Но потом всё же, поразмыслив,
они посчитали, что столь мощный поток 120-летних может вызвать подозрение у
публики. Наш старик между тем закончил курс с оценкой «хорошо» и был назначен
125-летним. Теперь он стал украшением всех праздничных торжеств, и на банкетах,
особенно после стаканчика водки, он прямо-таки блистал остроумием и излучал
жизнерадостность.
Однако
же, кто не шагает вперёд, тот отстаёт. Старик хотя и получил свои 125 лет, но в
соседнем округе был найден один старик, который был на целых 2 года старше
125-летнего. Назрела необходимость быстро действовать. Тут же организовали
новый учебный курс, на этот раз для ветеранов ноябрьского восстания 1831 года.
Старик закончил курс с отличным отметками. Он показал себя даже лучше, чем в
январском восстании 1863 года. Тут же было объявлено, что старик поднапряг свою
память и вспомнил былое, вспомнил о пережитом во время Ноябрьского восстания и
что на самом деле ему не 125, а 150 лет. Учитывая, что люди в соседнем округе
со своим ветераном по меньшей мере сделают то же самое, решили уже заранее
организовать исторический курс для участников восстания под руководством
Тадеуша Костюшки. Так называемое Костюшковское восстание 1794 года. Но наш
старик, к сожалению, в этом празднестве уже не принимал участия. Дело это
закончилось ужасным инцидентом.
На
одном из банкетов старик, будучи довольно-таки навеселе, начал бесцеремонно и
навязчиво ухаживать за дамой, и, когда она ему скромно намекнула на его
почтенный возраст, он открыто, при всех объяснил ей, что это всё надувательство
и мошенничество, и что на самом деле ему... и здесь он выдал сам себя самым
бессовестным образом, сказав, что ему всего-то 55 лет, то есть он мужчина во
цвете лет.
Мы
не знаем, удалось ли старику завязать с дамой какие-то отношения, но в данном
случае его разжаловали из достопочтенных старцев и он был, бессрочно,
освобождён от роли 150-летнего участника восстания. Право же, с такими
несерьёзными людьми невозможно продолжать чтить традиции.
Перевёл
с немецкого –
Анатолий
Шамардин
26
июля 2009 г.,
Москва
КУЛЬТУРНЫЕ
ЗАМЕТКИ
***
Большие
ожидания возлагались на польский фильм, снимаемый скрытой камерой, о воровстве метилового
спирта. К сожалению, камеру недостаточно хорошо спрятали, и её украли её вместе
с метиловым спиртом.
***
Шлягерному
певцу Z. удалось заключить контракт с западным рестораном. В
обязанности певца входило: незадолго до наступления т. н. «полицейского часа»
начать своё выступление... чтобы последние засидевшиеся гости побыстрее
покинули зал.
***
Для
публики, которая посещает концерты, чтобы себя показать, Варшавская филармония
организовывает специальный зал с умеренной входной платой и без концертов.
***
Один
из польских артистов, который в последнее время нигде не мог получить
приглашения на работу, откуда-то узнал о несчастном случае одного западного
коллеги, который разбился на своём «Феррари-футура», врезавшись на большой
скорости в дерево. Артист решил последовать его примеру. Но эта попытка свести
счёты с жизнью осталась только попыткой, поскольку его отечественный автомобиль
марки «Сирена» из-за различных дефектов ни разу не мог доехать до дерева.
***
В
связи с непомерно большими постановочными затратами на польский фильм «Оборона
Жестохова» главный бухгалтер приказал сдать город, безо всякой обороны,
врагу.
***
Таксиста,
который нашёл в своём автомобиле забытый кем-то сценарий фильма и не вернул его
на киностудию, просят убедительно обратиться в дирекцию и получить
вознаграждение за невозвращённый сценарий.
***
В
меню ресторана «Небесный ключ – из-за многочисленных жалоб гостей на плохое
качество приготовления блюд – было внесено небольшое дополнение: «Шеф-повар ресторана
рекомендует всем посетить другой ресторан».
КРАТКИЕ
НОВЕЛЛЫ
Краткая
новелла о коррупции
В
маленьком городке Х. коррупция приняла такие размеры, что сам руководитель по
распределению жилой площади – за взятку самому себе – оформил на своё имя ещё
одну квартиру.
Краткая
новелла против алкоголя
Ежегодное
потребление алкоголя в одном маленьком городке поднялось с 8-ми литров на душу
населения до 12-ти литров на душу каждого покойника.
Краткая
новелла об одном автомобилисте
Каждый
раз, когда он шёл в автомагазин, чтобы купить себе автомобиль, выяснялось, что
цены на автомобили опять повысились, и он вынужден был дальше копить деньги. В
результате этого он со временем стал миллионером.
Перевёл
с немецкого –
Анатолий
Шамардин
27
июля 2009 г.,
Москва
_________
Справка
об Анатолии Шамардине.
Анатолий
Шамардин родился на Ставрополье. Окончил Горьковский институт иностранных
языков и музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне – колледж им. А.
Шнитке). Преподавал в вузах немецкий и английский языки. В 70-80-е годы работал
в оркестре Леонида Утесова, солистом-вокалистом, и в разных филармониях страны.
В 90-е годы выступал с концертами в Европе. Филолог, певец, композитор. Автор
статей и рассказов, которые печатались в периодических изданиях, в журналах
«Огонек», «Юность», «Наша улица», в альманахах «Истоки», «Эолова арфа» и т. д.,
в газетах «Сельская жизнь», «Слово». Член Союза профессиональных
литераторов.
Китайские
сокровища мудрых мыслей в переводе Анатолия Шамардина
__________________________________________________________________
ИЗ
КНИГИ
«КИТАЙСКИЕ
СОКРОВИЩА МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
ТРЕХ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»
I-я половина I-го
тысячелетия до н. э.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: у всего на свете есть своё начало, но мало у чего есть
хороший конец.
Герцог
Ай спросил Мастера Кунг Фу-Дзе: что нужно делать, чтобы народ был доволен
своими правителями и слушался их? Мастер ответил: если достойных людей будут
поощрять, а недостойных отстранять от дел, то в этом случае народ будет доволен
своими правителями. Если же недостойных людей будут поощрять, а достойных
отстранять от дел, то народ будет недоволен своими правителями и не будет
слушаться их.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: если люди не знают тебя, это не должно тебя печалить –
наоборот, тебя должно печалить, если ты не знаешь людей.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: не имей друзей, которые хуже, чем ты сам.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: Йо, хочешь я научу тебя тому, что такое – знание?
Признавать знанием то, что ты знаешь, и не признавать знанием то, чего ты не
знаешь, это и есть – знание.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: кто слишком много чего-то кому-то обещает, тот вряд ли
сможет выполнить то, что обещает.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: больно благородному человеку осознавать, что он должен
покинуть этот мир и вместе с ним незаметно погаснет его имя.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: то, что толпа ненавидит, ты должен проверять; то, что толпа
любит, ты должен проверять.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: совершать ошибки и не меняться (то есть не учиться на них и
не исправлять их) – это означает поистине совершать ошибки.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: с людьми, которые стремятся осуществить не те идеи, которые
стремишься осуществить ты, невозможно (нельзя) строить совместные планы.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: только самые умные и самые глупые никогда не меняются (в
том смысле, что умные как были умными, так и остаются ими, а глупые как были
глупыми, так и остаются ими).
Мастер
Кунг Фу-Дзе спросил Дзе Гунга: есть ли такие вещи, которые ты ненавидишь? Дзе
Гунг ответил: я ненавижу, когда люди воруют мысли других людей и выдают их за
свои; я ненавижу, когда люди свою наглость считают смелостью.
Мастер
Кунг Фу-Дзе сказал: с женщинами и маленькими (малозначащими) людьми большому
человеку очень тяжело иметь дело. Если ты подпускаешь их слишком близко к себе,
они становятся назойливыми, надоедливыми; если же ты держишь их подальше от
себя, на расстоянии, они становятся враждебно настроенными по отношению к тебе.
3-е
тысячелетие до н. э.
Мастер
Ванг Чунг сказал: только тот, кто всю жизнь чему-то учится и хочет что-то знать
и спрашивает о чем-то таком, чего он не знает, только тот и будет что-то знать,
а тот, кто не спрашивает о том, чего не знает, он и не будет ничего знать.
Мастер
Тшен Тшоу сказал: нарисованным пирогом ещё никто не утолил свой голод.
Мастер
Шанг Янг сказал: то, что в наше время называется (считается) у нас в стране справедливостью,
означает не что иное, как вводить в жизнь народа то, что народу нравится, и
устранять, отменять, отбрасывать то, что народу не нравится. А
несправедливостью считается, напротив, не что иное, как вводить в жизнь народа
то, что народу не нравится, и устранять, отменять, отбрасывать то, что народу
нравится.
Мастер
Менг Дзе сказал: несчастье людей состоит в том, что они любят поучать других
людей.
Мастер
Менг Дзе сказал: если человек не знает, что он должен делать (в какой-то
ситуации), но знает то, чего он не
должен делать, он всегда и во всём будет поступать правильно.
Мастер
Менг Дзе сказал: большой человек – этот тот человек, который с возрастом не
потерял в самом себе ребёнка (сохранил в себе своё детское сердце).
Менг
Дзе сказал: чьи-то добрые слова о нас трогают нас не так глубоко, как добрые
слова людей с доброй славой (репутацией).
Мастер
Дзо Джуан сказал: если ты видишь, что можно идти вперёд, тогда иди вперёд; если
знаешь, что нельзя идти вперёд, тогда иди назад.
Мастер
Дзо Джуан сказал: доброе имя – это повозка, на которой едет добродетель(ность).
Добродетель(ность) – это фундамент государства. Там, где она - фундамент
государства, государство несокрушимо.
Мастер
Ху сказал: легко разделять радость с человеком, но тяжело вместе терпеть нужду.
Перевёл
с немецкого –
Анатолий
Шамардин
29
июля 2009 г.,
Москва
Презентация
«Эоловой арфы» в ЦДЛ 9 февраля 2009 г. Стенограмма
__________________________________________________________________
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
1-го ВЫПУСКА
АЛЬМАНАХА
«ЭОЛОВА АРФА»,
ЦДЛ,
Малый зал, 9 февраля 2009 г.
В
Малом зале ЦДЛ при большом стечении народа прошла презентация нового
литературного альманаха «Эолова арфа», который возник на почве и «сейсмических
разломах» альманаха «Истоки».
Вела
вечер поэтесса, главный редактор «Эоловой арфы»
Нина
КРАСНОВА.
На
вечере выступили:
главный
редактор журнала «Детское чтение для сердца и разума»
Пётр
КОБЛИКОВ;
поэт
Кирилл КОВАЛЬДЖИ;
поэт
и руководитель трёх литобъединений
Владимир
ГАЛЬПЕРИН;
поэт
и бард Александр АНАНИЧЕВ;
критик,
литературовед, доктор исторических наук, академик РАЕН
Лола
ЗВОНАРЁВА;
писатель
Ваграм КЕВОРКОВ;
поэтесса,
главный редактор «Библиотечки поэзии» СП Москвы
Людмила
ОСОКИНА;
писательница
Елена БОГДАНОВА;
певец
и композитор, солист оркестра Леонида Утёсова
Анатолий
ШАМАРДИН;
поэтесса
из Кинешмы Александра ЦАПКОВСКАЯ (г. Кинешма);
поэтесса
Маргарита ЯНЬШИНА;
прозаик
Игорь ГАМАЗИН;
поэт
Сергей КАРАТОВ;
писатель
Виктор КУЗНЕЦОВ-КАЗАНСКИЙ;
поэт,
глава Рязанского Союза профессиональных литераторов,
директор
издательства «Старт» Алексей БАНДОРИН (г. Рязань);
поэтесса,
главный редактор альманаха «Под небом рязанским»
Людмила
САЛТЫКОВА (г. Рязань);
поэтесса
Лидия ТЕРЁХИНА (г. Рязань);
поэт
Виктор КРЮЧКОВ (г. Рязань);
поэт-бард,
депутат Рязанской городской Думы,
председатель
Комитета по культуре и спорту
Михаил
КРЫЛОВ (г. Рязань);
гость
из Болгарии, литературовед, издатель Ивайло ПЕТРОВ (Болгария);
поэт
Сергей ТЕЛЮК.
Вечер
длился около четырёх часов, без перерыва, до 22.30.
Нина
КРАСНОВА (обращается к присутствующим в
зале):
-
Ну что, господа, товарищи? Мы начинаем наш вечер, презентацию нового
литературного альманаха «Эолова арфа». Народу в зале уже много собралось.
Некоторые участники вечера пока ещё сидят в нижнем кафе, пьют кофе (смех в зале)... но они сейчас подойдут сюда. А мы уже начинаем
наш вечер.
Кирилл
Владимирович, может быть, вы сядете сюда, в президиум, со мной? (Нина Краснова из-за стола, за которым она
сидит, обращается к Кириллу Ковальджи,
который сел в «партере», в третьем ряду.)
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ:
-
Нет, Нина, сегодня твой праздник.
Нина
КРАСНОВА:
-
Это наш общий праздник. У нас сегодня большое историческое событие! Вышел в
свет вот этот альманах (она показывает
залу альманах), который называется «Эолова арфа». Он вышел с большими
муками, но, слава Богу, все же вышел. Я по натуре своей – свободная художница,
и не собиралась создавать никакой альманах и издавать его и становиться главным
редактором, и никогда не мечтала об этом, но сами обстоятельства подвигли меня
на это.
Год
назад новый генеральный директор и он же новый редактор старого альманаха
«Истоки», где я десять лет состояла в редколлегии, попросил меня - через год
после смерти Галины Рой, бессменного в течение сорока лет редактора «Истоков» -
помочь ему и его компаньонкам, не членам
старой редколлегии, как и он, выпустить новый номер альманаха, который они до
этого никак не могли выпустить... я помогла... в мае 2008 года вышел первый
после смерти Галины Рой альманах «Истоки». Я стала помогать им собирать новый
номер, бесплатно, на общественных началах... но увидела, что эти люди почти
ничего не умеют делать из того, что обязаны уметь сотрудники редакции, они даже
на компьютере работать не умеют, они даже корректорских знаков не знают, да и
грамотности им не хватает и они вёрстку путём вычитать и выправить не могут...
и с ними каши не сваришь. И я увидела, что они только мешают мне работать. И
еще требуют, чтобы я собирала с авторов деньги... ладно бы на альманах, но ещё
и на аренду помещения редакции по 15 тысяч рублей в месяц... а сама так и
продолжала бы работать бесплатно, как Павел Корчагин на железной дороге. Римма
Казакова сказала мне: «Зачем тебе это надо? Уходи от них, пока не поздно». А
когда я собрала, скомпоновала и подготовила для макетирования новый номер, они
сказали, что не будут всё это издавать... Тогда я сказала: «А тогда я издам всё
это сама! Без вас!» И тогда я просто отсекла их от себя, и всё. Как
американский прагматик Мерфи, который работал с «помощниками», а потом увидел, что
они только прибавляют ему проблем, один человек прибавляет в два раза больше
проблем, два человека - в три раза больше, три – в четыре раза больше, и отсёк
их всех от себя и стал работать один. Вот и я обрубила все канаты, которые
связывали меня с ними, и поплыла в открытое литературное море на своем корабле
– «Эолова арфа». Я не буду здесь говорить обо всех обстоятельствах, которые
подвигли меня на это, но вот так родился альманах «Эолова арфа». То есть всё
получилось по пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло.
...На
самом деле у меня, разумеется, были помощники, очень хорошие, из числа моих
друзей. Они сидят здесь сегодня в зале. Поэт Алексей Бандорин и поэтесса
Людмила Салтыкова, муж и жена, издатели, мои земляки, они приехали сюда сегодня
из Рязани и привезли с собой группу рязанских поэтов... Сюда сегодня приехала
целая рязанская дружина. Где Алексей Бандорин?..
ГОЛОСА
из зала:
-
Он вышел покурить...
Нина
КРАСНОВА:
-
А где Людмила Салтыкова? Здесь... Вот она... Они вдвоем помогли мне собрать
материалы рязанских авторов, и не только материалы, но и часть средств для
издания альманаха. И очень поддержали меня этим. Здесь ещё сидит главный
редактор журнала «Детское чтение для сердца и разума» Петр Кобликов, который
тоже очень сильно мне помог, он собирал для альманаха материалы авторов
таганской группы... таганской группировки, скажем так...
(Смех в зале.)
ГОЛОС
из зала:
-
...преступной группировки?
(Смех в зале.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Нет, не преступной, а наоборот. Это такая культурологическая группа Театра на
Таганке, зрителей и поклонников этого Театра, завсегдатаи Таганки. Кроме того
мне помогал певец и композитор Анатолий Шамардин. Где он? Тут? Я его не вижу...
А, вот он сидит. Он, так сказать, исполнял роль проректора по хозяйственной
части, он привозил на машине тираж альманаха из типографии, покупал бумагу для
компьютеров, диски, дискеты, файловые папки, картриджи... Вот такая
ответственность на нём лежала... Кроме того здесь сидит стратег, тактик и
куратор альманаха «Эолова арфа» поэт Кирилл Ковальджи, наш классик... С него
надо было начинать перечислять всех помощников (звучат аплодисменты зала)...
Кирилл Ковальджи умеет давать и дает очень мудрые советы, к которым если прислушиваться, то всё
у тебя будет получаться. Кстати сказать, он мне ещё раньше говорил, после того,
как я почти десять лет проработала в одном известном журнале, в «Нашей улице», неофициальным помощником
главного редактора, на общественных началах (смех
в зале) и прошла там... такую... очень суровую, но, как я считаю, полезную
и хорошую для себя школу, после которой я не испугалась браться за это дело,
потому что у меня уже был свой опыт в этом и был живой наглядный пример и
образец, сам главный редактор с очень динамичной фамилией, Кувалдин, который
всё делал один (звучит смех зала)...
так вот... Кирилл Ковальджи говорил мне: тебе пора делать свой журнал. Я
думала: да как же я буду его делать, тем более, что у меня нет денег для этого
и нет спонсоров? Я совершенно не представляла себе, как я буду его делать...
пока «Истоки» не позвали меня на царство (смех
в зале)... И когда я уже втянулась в
это дело и зашла с ним очень далеко, я увидела, что оно у меня получается, что
я, оказывается, всё умею и всё могу делать, даже и без этих... генеральных
директоров и без начальников, про которых Чуковский говорил: «всех мочалок»
командиры... Если у тебя есть сильное стремление и сильное желание сделать
что-то, то это всё получится.
И
вот вы видите этот альманах... Вы видите, какой он красивый, с названием в два
цвета, красными и черными наклонными буквами, с белой обложкой, с красной
декоративной полосочкой (бумажной ленточкой) поперек неё, с графической
картинкой под ней, с фамилиями авторов...
Почему
он называется «Эолова арфа»? Почему у него такое название? Откуда оно взялось?
Кто-то предлагал мне назвать новый альманах – «Новые истоки», кто-то - «Наши
истоки» (по аналогии с «Нашим современником» и с «Нашей улицей»?)... Но что
«Новые истоки», что «Наши истоки» - это все равно всё были бы – «...истоки», то
есть какие-то дубляжи и варианты старых «Истоков». А мне хотелось назвать новый
альманах совсем по-новому. И мне на ум пришло такое название – «Эолова арфа». В
античной литературе, как вы знаете, есть древнегреческий миф об Эоловой арфе,
которую певец повесил на дерево, и она висит там, в ветвях, и звенит и
волнуется и поет от каждого легкого дуновения Эола, бога ветра. Поэтому она и
называется Эолова. Но мне этот миф пришел на ум не сам по себе, не просто так.
А, может быть, потому, что в свое время, когда я окончила школу и работала в
районной газете «Ленинский путь», сотрудники этой газеты называли меня – Эолова
арфа, они говорили мне: «Ты, Нина, такая впечатлительная и такая трепетная, как
Эолова арфа». Я тогда еще не училась в Литературном институте и не знала этого
античного мифа о ней и говорила им: «Вы объясните мне, что это такое - Эолова
арфа». Они объяснили мне, что это художественный символ трепетной,
впечатлительной души, которая тонко реагирует на всё, и что это - символ
творческого человека, творческой натуры...
У
меня было очень много трудностей с этим альманахом, он стоял на грани краха...
К тому же я собрала денег на него раза в два с лишним меньше, чем
требовалось... сейчас цены и расценки на всё вы сами знаете – какие. И уже
приближался кризис, и все пугали меня кризисом и предлагали мне: «Раздай все
деньги (пока они не лопнули) назад авторам, тем, кто дал их тебе, чтобы
поддержать альманах, и поставь на альманахе крест. Но я, как Лара из спектакля
«Доктор Живаго», «все начатое всегда довожу до конца». И не в моей натуре
сдаваться раньше времени. «Муравьи не сдаются!» - так говорил не Заратустра, а
мой любимый детский румынский писатель Андржей Секора. К тому же – раздавать
деньги назад, это такой же труд и такая же морока и такая же трата времени, как
и собирать их (смех в зале).
И
на этом заключительном экстремальном этапе, на котором весь альманах мог
полететь в тартарары, меня поддержал один суровый и строгий товарищ... Когда-то
я читала книгу – «Повесть о суровом друге». И вот меня поддержал такой «суровый
друг»... главный редактор «Нашей улицы» Юрий Кувалдин... Когда никто не брался
сделать мне макет и выпустить альманах на ту сумму, какая у меня была, да к
тому же в самые сжатые сроки, и кто-то брался сделать это за астрономические
суммы, а кто-то говорил, что не сможет сделать всё раньше, чем через месяц или
через несколько месяцев, он сказал мне: давай, присылай мне по электронной
почте всю электронную «колбасу» с материалами альманаха, я сделаю макет за два
дня (смех зала), максимум - за
несколько дней. И сделал, в течение нескольких дней. Вот так работает этот
«один в поле воин» (я потом рассчиталась с ним стенограммами трех вечеров
«Нашей улицы», которые я расшифровала, обработала и отредактировала, по 4 а. л.
каждая стенограмма. – Н. К. )...
А
его сын – художник Александр Трифонов сделал художественное оформление
альманаха. И посмотрите, какое прекрасное, благородное и лаконичное оно
получилось. Обратите внимание на картинку, на ней сидит певец и играет на арфе
(или на лютне)... А фамилии авторов идут под картинкой, в два ряда, как бы по
линии ствола... и каждая фамилия – это ветка на стволе дерева. А вверху дерева
находится картинка с арфой, то есть арфа как бы висит на дереве. То есть
художник Саша Трифонов нашёл очень оригинальное художественное решение для
оформления обложки альманаха и создал не просто дизайн, а внешнее лицо
альманаха. Причём в каждом новом номере «Эоловой арфы» будут не одни и те же
авторы, а разные, а значит и веточки фамилий на дереве тоже будут все время
разными, и по графике, по буквам своим, и по размеру, будут меняться из номера
в номер, и форма, фигура дерева тоже будет все время меняться, это будет живое
дерево...
...Теперь,
чтобы наш вечер не состоял только из моего монолога, чтобы он не был монологом
Нины Красновой (смех зала), я сейчас
пробегусь «галопом» по Европам, по страницам альманаха, и сделаю краткий обзор
материалов этого номера и предоставлю слово авторам «Эоловой арфы».
Начинается
альманах с моего репортажа о юбилейном вечере Андрея Вознесенского, посвященном
75-летию этого поэта, «олигарха стиха». Вечер проходил в театре Петра Фоменко,
куда меня пригласил сам Андрей Вознесенский, и его Зоя-Оза... Дальше идут новые стихи Вознесенского, но его самого
сейчас здесь, в зале нет, потому что он, как вы знаете, болеет...
Пойдем
дальше. Дальше у нас идет таганский раздел. Валерий Золотухин на Некрасовском
празднике в Карабихе, его речь на этом празднике, дальше - его встреча со
студентами из Барнаула в Театре на Таганке... А дальше, в этом таганском
разделе, у нас идет Пётр Кобликов с Водоносами... Он написал прекрасное эссе
«Кеды Водоноса» - о трех и даже больше Водоносах на Таганке, где в 60-е годы
шёл такой спектакль – «Добрый человек из Сезуана». В этом спектакле роль
Водоноса играл Валерий Золотухин, это была тогда его самая главная и самая
любимая роль. Иногда её играли и другие артисты. А теперь её играет молодой
актёр Дмитрий Высоцкий, однофамилец Владимира Высоцкого.
А
Пётр Кобликов видел всех Водоносов на Таганке. Потому что он – зритель этого
Театра с 1966 года, такой почетный, раритетный зритель, театрал высшего класса.
А кроме того он у нас - знаток всех искусств, и автор книги про бабочек, и
главный редактор журнала «Детское чтение для сердца и разума». А я - автор
этого журнала, я иногда пишу и детские стихи, и они появляются в этом журнале,
который выходит в издательстве «УНИСЕРВ». Кстати сказать, здесь, у нас в зале,
как рояль в кустах, сидит директор этого издательства Владимир Фидель! Он скромно
сидит сзади всех, но зато у него оттуда – очень удобный обзор зала. Давайте
поаплодируем Владимиру Фиделю (звучат
аплодисменты зала, Владимир Фидель встает и кланяется залу)! А теперь
поаплодируем Петру Кобликову и попросим его выйти к микрофону и сказать свое
слово.
(Аплодисменты.)
Петр
КОБЛИКОВ (выходит к микрофону, говорит
тихим голосом):
-
Спасибо. Может быть, мне говорить без микрофона?
ГОЛОСА
из зала:
-
С микрофоном!
Петр
КОБЛИКОВ (опробывает микрофон):
-
А, микрофон очень хорошо работает.
...Нина,
прежде всего – с успехом тебя! Мы знаем, как, с каким трудом всё это собиралось
(весь этот альманах). И можно только восхищаться трудолюбием Нины и ее
несгибаемым оптимизмом!
Нина
КРАСНОВА:
-
При поддержке оптимистов...
Петр
КОБЛИКОВ:
-
Можно жаловаться на трудности, на то, что сейчас – кризис, на то, что цена на
бумагу дорогая... и так далее, и так далее. Но иногда что-то вопреки чему-то
получается лучше, чем благодаря. И здесь всё получилось очень хорошо.
Получилось изящнейшее и изысканнейшее издание, которое приятно взять в руки и
пролистать и прочесть. И это очень здорово, что здесь сегодня собрались очень
многие авторы альманаха...
Нина
КРАСНОВА (цитируя какую-то песню):
-
Как здорово, что мы сегодня собрались...
Петр
КОБЛИКОВ:
-
...в том числе и очень издалека приехавшие сюда, буквально на несколько часов,
кто из Рязани, а кто из Кинешмы... До
Рязани сколько километров (Пётр Кобликов
обращается к Нине Красновой)?
Нина
КРАСНОВА:
-
198... Почти 200 километров.
А
до Кинешмы (Нина Краснова обращается к
Александре Цапковской из Кинешмы)?..
Здесь присутствует поэтесса из Кинешмы Александра Цапковская...
Александра
ЦАПКОВСКАЯ:
-
Столько же плюс ещё...
Петр
КОБЛИКОВ:
-
Что касается таганской диаспоры... Да, «таганская группировка» - звучит
довольно странно (смех в зале)...
Значит, как рязанская – так дружина, а как таганская – так группировка (смех в зале)...
Нина
КРАСНОВА:
-
Таганское братство это вообще-то называется...
Петр
КОБЛИКОВ:
-
Братство... да... где нет главных, где нет какого-то предводителя, где люди
собираются в своём любимом театре, чтобы посмотреть спектакли и увидеть друг
друга и любимых артистов...
Нина
КРАСНОВА:
-
...и любимого Золотухина, и «любимого Любимова»...
Петр
КОБЛИКОВ:
-
«Кеды Водоноса» - это сочинение... «сочинение» в кавычках... об истории роли
Водоноса, о том, как разные артисты в разное время были заняты в этой роли, и о
тех кедах, в которых когда-то, давным-давно, выходил на сцену Таганки Валерий
Золотухин... и в которых сейчас выходит на сцену Дмитрий Высоцкий... и о том,
как три года назад автор этого эссе обнаружил у себя, в одной из своих коробок,
в своих туристских запасах, новенькие кеды, пролежавшие там много лет, и
подарил их вот этому нынешнему Водоносу -
артисту Дмитрию Высоцкому. А на днях я подарил ему номер альманаха
«Эолова арфа» со своим эссе... А к Дмитрию в Театр приходила его профессор, она
увидела у него в руках альманах и спросила: что это? И он очень интересно
ответил: «Да так, о ботинках...» (смех в
зале). Мне этот его ответ очень
понравился.
Ну,
это - немножечко об этом сочинении, просто такой комментарий к нему, что это за
сочинение и о чем оно. Валерий Золотухин тоже прочёл его и сказал очень интересные
слова: «Петя, если один артист сыграл (или играет) какую-то роль (в спектакле
или в кино), это не значит, что эту же роль не может сыграть (играть) другой
артист.
Но
вернёмся все-таки к альманаху. Это - действительно событие. – И сказать
это можно не только потому, что здесь
собрались авторы - авторы этого альманаха. А потому, что это – новое качество
того давнишнего начинания «Истоков». Не случайно поэтому мы говорим добрые
слова в память первой издательницы «Истоков» Галины Рой, и эту память мы храним
и хранить будем, но будем смотреть вперед. И - пожелание Нине Красновой! Этим
пожеланием я хочу закончить свое выступление, я немножечко всё-таки
злоупотребил вниманием присутствующих... Пожелание, чтобы был и второй, и
третий выпуск альманаха, и так далее, и так далее, и чтобы этот альманах был
средоточием высокой поэзии и прекрасной прозы! Вот на этом я заканчиваю...
(Горячие аплодисменты
зала.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо большое, Пётр, ты сделал хороший почин своим выступлением. И немножко
ввёл всех в курс дела.
Дальше
в альманахе идёт бардовская песня поэта Юрия Шуникова «Золотухин – наше всё!».
Шуников – член Таганского братства. Стихи этой песни с технической стороны
нельзя сказать, что безупречные, без сучка и задоринки, и нельзя сказать, что
очень профессиональные, но они очень живые, очень искренние, с юмором, с
авторской самоиронией и с нестандартным поворотом темы: кумир и его поклонники,
а главное - эти стихи очень сильные и красивые по своим чувствам к Валерию
Золотухину, о котором Шуников с обожанием, восхищением и любовью говорит от
лица всех его поклонников, от лица всего Таганского братства: «Золотухин – наше
всё!». Эта фраза Шуникова уже стала крылатой! Шуников, к сожалению, не смог
прийти на вечер по «техническим причинам».
Дальше
идёт раздел памяти Риммы Казаковой. Недавно в ЦДЛе, в Доме учёных, в
Булгаковском Доме прошла серия вечеров памяти Риммы Казаковой. Некоторые из вас
были там.
В
разделе памяти Риммы есть её последние стихи – «Гимн русскому языку», которые
стали песней. И, разумеется, есть материалы разных авторов, в стихах и в прозе,
посвящённые Римме. О ней здесь пишет Евгений Евтушенко... Кирилл Ковальджи...
Татьяна Кузовлева... Татьяна Кузовлева... она такие очень трогательные стихи
написала на смерть Риммы. Она написала, что Римма «искала свою высоту», «любима
была, нелюбима, но главное всё же – была». Кирилл Ковальджи написал, что «эта
женщина с Амура нас сумела покорить» и что она «летала над Землёй» и что она,
как Пушкин, может вызвать кого-то «на дуэль». (Смех в зале.) Есть тут и мои стихи и частушки о ней.
Пётр
Кобликов, Владимир Гальперин, Елена Михайленко, которые сидят в этом зале, тоже
написали свои стихи о Римме Казаковой. И Михаил Крылов, рязанец, вот он сидит в
первом ряду. Он дружил с Риммой Казаковой и очень поддерживал её. И выступал с
ней в Рязани. Римма ездила в Рязань год назад... Михаил Крылов – поэт, бард,
замечательный, вы сегодня услышите его здесь. Я сказала вам, что к нам сегодня
сюда приехала рязанская дружина, вот он как раз и приехал с этой дружиной. Я уж
не говорю о том, что он депутат городской думы и председатель Комитета по
культуре... (Смех в зале.) У Михаила
Крылова очень большие титулы, кроме титулов поэта и барда. (Смех в зале.)
В
разделе Риммы Казаковой кто у нас еще есть? Александр Бобров. Он был в очень
хороших отношениях с ней. Я напечатала в альманахе «Эолова арфа» его стихи
«Пушкинский праздник-79», посвященные ей, которые он написал еще в 1979 году,
под впечатлением Пушкинского праздника поэзии в Пскове, куда они ездили с группой
поэтов, и его стихи «Белый пух», которые он написал 10 июня 2008 года. Первое
стихотворение – очень весёлое:
Гуляет
101 поэт
И
Римма Казакова...
А
второе – очень грустное, памяти Риммы, в котором летает белый тополиный пух,
как белый снег, и заметает дорогу жизни...
В
этом же разделе – две статьи Лолы Звонаревой о поэзии Риммы Казаковой. Первая
статья - «Была я деликатная с чужими», у которой такой подзаголовок: «Мировая
культура в зеркале поэзии Риммы Казаковой». А вторая – «Лирический дневник
Риммы Казаковой», о её книге «Ты меня любишь». А кроме того – воспоминания Лолы
о Римме, такие трепетные, добрые и проникновенные.
(Нина Краснова
обращается к Кириллу Ковальджи.) Кирилл Владимирович, может быть, вы сейчас
прочитаете нам свои стихи из «Эоловой арфы» или какие-то другие, может быть,
да?
У
Кирилла Ковальджи есть замечательная фраза, которая может стать девизом для
каждого из сидящих здесь: грош тому цена, кто меня не ценит! Или нет, она
звучит так: кто меня не ценит, грош тому цена! (Смех в зале.) Признавайтесь, Кирилл Владимирович, это вы написали?
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ:
-
Да, я. Но в связи с кризисом эта цена, конечно, возросла и стала выше, чем
грош...
(Смех в зале.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Кирилл Ковальджи выступает в альманахе «Эолова арфа» со стихами, посвященными
Римме Казаковой, и кроме того - с замечательными рассказами, историями о своих
злоключениях за границей. И когда вы (Нина
Краснова обращается к присутствующим
в зале), будете это читать, вы увидите, какие муки он перенёс, когда
ездил по загранице и не мог попасть к себе домой, в Россию, но в конце концов
всё же попал, а иначе его не было бы здесь. И вот он здесь, и слава Богу!
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ:
-
Да, сейчас я говорю об этом с юмором, но тогда мне было не до смеха.
...Но
прежде всего я хочу поздравить Нину и всех вас с этим маленьким чудом, которое
произошло на наших глазах.
Это
очень важное литературное событие - появление нового альманаха! Много лет ему
жизни, как всякому новорождённому! И, конечно, теперь очень важна забота о
пропаганде этого издания, чтобы о нём написала пресса, чтобы вы всé тоже
пропагандировали его своим друзьям и знакомым, потому что издать альманах,
журнал, книгу - это полдела. А вторая часть дела, не менее трудная, чем первая,
это распространить его, чтобы люди знали и читали его.
И
тут нам всем надо стараться помочь Нине. И тут, конечно, надо подумать о том,
чтобы привлекать к альманаху и новых авторов, в том числе не только из
Москвы... Очень хорошо, что в альманахе представлена Рязань. И хорошо будет,
если на его страницах будут выступать и авторы из других городов и областей,
уже со своими средствами, конечно.
Нина
КРАСНОВА:
-
Как рязанка я, конечно, отдаю предпочтение рязанцам, Рязанскому княжеству. Но
если авторы из других областей России захотят попасть в этот альманах, мы их
пустим сюда.
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ:
-
Надо расширять границы Москвы и Московской области, устроить такую поэтическую,
литературную экспансию и в другие края России, распространить ее на всю
Россию.
Нина
КРАСНОВА:
-
А-а, экспансия «Эоловой арфы» на Россию, это хорошо, литературная экспансия –
это хорошо...
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ:
-
Ну что? Прочитать вам стихи?
Нина
КРАСНОВА и весь зал:
-
Да, прочитать это будет очень хорошо!
Кирилл
КОВАЛЬДЖИ (читает свои стихи,
восемь-девять-десять стихотворений; здесь цитируются только некоторые отрывочные слова и строчки
из этих стихов. – Н. К.)
1.
Поликлиника
у ресторана. // Старые московские дворы. // Девочки, сошедшие с экрана, // Наши
параллельные миры...
...В
казино играя... // Верить в справедливость и добро...
2.
...ангел
на игле...
Ты
в числе моих любимых... Уменьшается число...
Убрать
картины и повесить образа...
3.
В
том краю, раю, где тигры и ягнята... // В том краю, раю, где мама с папой... //
Обезьянки им орешки носят... // Хлопушки... Ядерные пушки...
4.
Выступает
знаменитость на сцене за столиком... // Говорит, говорит, говорит... //
Наконец, тишина... // Знаменитость засыпает с открытым ртом...»
Нина
КРАСНОВА (комментирует это стихотворение):
Это
Кирилл Ковальджи про себя написал. (Смех
в зале.)
5.
За
окном воробьи тусуются. // Я вышел на улицу... // А на улице все оказались
младше меня... // И гóры младше...
6.
«Становится
русских всё меньше... // Становятся русских всё меньше... // Даже негры через
два поколения становятся Пушкиным...»
7.
Не
успели увидеть себя... // Мы внутри электронного ящика. //
Виртуального
друга встречай!
Ну,
еще может одно?
(Кирилл Ковальджи
читает ещё два стихотворения.):
8.
Потрясающа
музыка... Хиппи... Все Мерелин Монро. Стриптиз... Каппутчинский коммунизм...
9.
Сорвал
очередной листок календаря... // Я расскажу о неведомой вам старости...
Владимир Владимирович (Маяковский)... Сергей Александрович (Есенин)...
(Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА (указывает присутствующим на
Кирилла Ковальджи, который идет на свое место в третий ряд партера):
-
Вот вы видите классика современной литературы...
...Мы
сейчас еще немножко поговорим, а потом будем слушать песни, которые будут петь
для нас Михаил Крылов и Анатолий Шамардин. Мы доведём публику до кондиции,
замучаем всех речами, а потом у нас пойдут песни и пляски.
(Смех в зале.)
Сейчас
перед вами выступит поэт Владимир Гальперин. Он ещё и бард и прозаик. И он ещё
и руководитель литобъединения...
Владимир
ГАЛЬПЕРИН:
-
Двух литобъединений... и даже трёх.
Нина
КРАСНОВА:
-
И он каждый год выпускает по книжке своих стихов. И даже и сейчас, несмотря на
кризис. У него и для него нет кризиса.
(Смех в зале.)
Владимир
ГАЛЬПЕРИН:
-
Я прочту стихи из своего последнего сборника стихов, который вышел несколько
дней назад.
(Владимир Гальперин
читает свои стихи: «Не хвалите меня в дни рождения // И ругайте побольше
меня... // Вы хвалите меня на поминках // И ругайте меня и хвалите, // Не
услышу я вас все равно...», концовка стихов такая: «Я немножко ещё поскриплю».)
Здесь
Кирилл Ковальджи читал свои стихи. Я тоже хочу прочесть стихи. О своем учителе.
Книг его вы не ищите, вы их не найдёте.
(Владимир Гальперин
читал стихи «Мой друг ушел неслышно, незаметно...»)
Однажды
я попал сюда на один из вечеров и вдруг услышал такое объявление со сцены:
выступает народный поэт Илья Резник... В Дагестане есть народные поэты. А у нас
в России даже великие поэты-классики не провозглашаются народными. Я прочитаю
стихи об этом.
(Владимир Гальперин
читает стихи о том, «что народным не стал Вознесенский, // А тем более Анна
Ахматова...». Аплодисменты.)
Спасибо.
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо. Это выступал Владимир Гальперин...
(В это время с
заднего ряда поднимается с гитарой Александр Ананичев и двигается к двери.)
Саша!
Ананичев! Ты куда?
Александр
АНАНИЧЕВ:
-
Да мне уже уезжать пора, я из Сергиева Посада приехал и уже должен ехать туда,
и уходить отсюда, а то опоздаю на свою электричку.
Нина
КРАСНОВА:
-
Ты сел где-то в заднем ряду. Я тебя, такого большого, не увидела отсюда сквозь
свои очки. Слона-то я и не приметила. Или сюда со своей гитарой. Спой
что-нибудь из своих песен. Там ещё Лола
Звонарёва в зале сидит. Это она привела сюда Александра Ананичева. И ещё она
привела сюда гостя из Болгарии Ивайло Петрова. Они потом тоже выступят здесь. А
сейчас выступает Александр Ананичев, поэт и бард из Сергиева Посада!
Александр
АНАНИЧЕВ:
-
Я очень рад, что вышел альманах «Эолова арфа», - это, действительно, чудо, как
сказал Кирилл Ковальджи. Ну что же, мне хотелось бы поздравить и я поздравляю
Нину Краснову с «Эоловой арфой» и с тем, что работа с Кувалдиным не отбила у
нее охоты заниматься журналом. «Эолова арфа» - это очень интересный журнал
(альманах). Я успел пролистнуть его. Единственно, что жалко, так это то, что
тираж у него всего 500 экземпляров. Но, может быть, со временем он увеличится.
Нина, удачи тебе!
Я
много раз выступал на этих подмостках Малого зала ЦДЛ, с которых многие поэты
начинали свой путь в литературе. И Сергей Телюк, и Анна Гедымин...
И
мне посчастливилось сотрудничать с альманахом «Истоки» и с Галиной Рой. Она
выпустила мою первую книжку и сделала для меня и для всех много хорошего. И дай
Бог, чтобы у неё всё было хорошо на том свете, а у нас всё было хорошо на этом
свете.
Мне
хотелось бы прочитать одно своё стихотворение, ну и, если вы позволите, спеть
одну свою песню.
У
меня недавно вышла книга «Весёлка». Весёлка – это река, которая течёт по
белгородской и по белорусской земле. Само слово Весёлка – такое весёлое, оно
мне приглянулось, и я в честь Весёлки назвал свою книгу. Вот. И мне хотелось бы
всем вам пожелать веселья и, конечно, здоровья и творческих успехов!
(Александр Ананичев
читает свои стихи, а потом поет свою песню «Весёлка», в которой есть такие
слова и строки: «...отраженье луны... и ёлок прибрежных иголки... люди бегут из
волшебной страны... волны Весёлки... Я знаю, когда-нибудь мне повезёт. Меня
обнимала Весёлка...» и т. д. Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА:
–
В 2004 году я была в Польше на конференции... под Варшавой, в Оборах, на
литературной конференции. С Лолой Звонаревой, Александром Щупловым, Андреем
Немзером, Леонидом Бородиным... и вот Саша Ананичев там с нами был. Он нам
песни свои пел, выступал перед нами и перед поляками со своими сольными
концертами. И пользовался у всех большим успехом...
Александр
АНАНИЧЕВ:
-
...Здесь, в зале появился наш болгарский друг, Ивайло Петров, литературовед,
издатель, благодаря которому я 9 лет
назад впервые побывал в Болгарии... Ивайло Петров часто приезжает в Москву,
обычно он приезжает в феврале. И вот опять в феврале приехал и сидит здесь.
(Аплодисменты зала.)
Благодаря
Ивайле я уже несколько раз был в Болгарии, со своими друзьями. Ивайло показывал
нам многие святые сокровенные места Болгарии. И я написал несколько песен,
посвященных этой удивительной стране. Ну и мне сейчас хотелось бы вспомнить и
спеть в честь Ивайлы и в честь Болгарии одну такую песню. Итак, песня о
Болгарии!
(Александр Ананичев
поет свою песню о Болгарии: «Болгария, Болгария, священная страна... Цвети, моя Болгария,
цвети, моя печаль...»
Нина
КРАСНОВА:
-
Саша Ананичев пишет не только стихи и песни, но и статьи и эссе. Я помню, когда
он был в Америке, он потом написал произведение об Америке. Оно было напечатано
в журнале «Наша улица». Саш, ты сейчас уже уезжаешь к себе в Сергиев Посад. Мы
тебе желаем счастливого пути.
А
сейчас перед вами, перед всеми нами выступит Лолочка Звонарева, которая в
«Эоловой арфе» своими статьями о Римме Казаковой и своими мемуарами о ней
завершает раздел памяти Риммы Казаковой. Лола у нас доктор наук, она не простой
критик, она ещё и академик РАЕН... такая молодая, очаровательная
представительница женского пола в литературе и такая умница... Она пишет ясно,
просто, не наукообразно... есть же у нас такие доктора наук и академики,
которые пишут не поймешь что и не поймешь как. Она пишет очень художественно. У
нее такой красивый, гармоничный слог, и при этом у неё в текстах много глубины
и подтекста и чувств. И вот сейчас Лола Звонарева идёт к микрофону и выступает.
Лола
ЗВОНАРЕВА:
-
Спасибо, дорогая Нина! Мне очень приятно слышать такое количество тёплых слов в
свой адрес. Спасибо тебе за них! Я буду пытаться... попытаюсь их отработать...
Я
хочу сказать, что для всех нас в этом зале – презентация «Эоловой арфы» это
огромная радость! Потому что рождение нового альманаха в такое тяжелое время...
оно говорит и утверждает, что слово всё-таки первично, оно может победить в
самые сложные и самые неблагополучные времена и помочь нам доказать нашу
творческую состоятельность... В альманахе «Эолова арфа»... тут столько разных
талантливых и настоящих людей, и каждый из них говорит о том, что им дорого. И,
конечно, я хочу сказать, что вот Нина Краснова – это человек, который всю свою
жизнь бескорыстно и самоотверженно служит литературе... Сколько лет я знаю
Нину? Наверное, уже больше 20-ти лет? И всегда я внутренне на неё ориентируюсь.
Её бескорыстное служение литературе оно должно быть в конце концов, конечно же,
вознаграждено.
Нине
удалось вписать своё имя не только в историю литературы, но и в историю
журналистики и собрать здесь, в альманахе, под одной крышей, своих друзей, тех
авторов, которых она любит и уважает, и ей удалось, мне кажется, доказать
состоятельность нашего среднего поколения, на которое сегодня ложится вся
тяжесть и вся ответственность за репутацию современной русской литературы и за
ситуацию в литературе. У нас, я помню, была такая трагическая ситуация... когда
я узнала о смерти Риммы Федоровны Казаковой, один поэт сказал: Римма умерла, и
литература умерла. А я сказала: нет, Римма завещала нам ответственность за
литературу. И поэтому как Римма служила литературе, так и мы должны служить...
Мы должны сосредоточиться, собраться с силами и служить литературе верой и
правдой и должны быть достойны памяти Риммы Казаковой.
И
мне кажется, что раздел памяти Риммы Казаковой в «Эоловой арфе» - он получился,
и получился прежде всего потому, что он сделан руками любящего человека, руками
Нины. Мне, как это ни удивительно, больше всего понравились здесь стихи Александра
Боброва. Я думаю, что Римма была бы так счастлива, если бы смогла
прочитать их. В них есть такое светлое отношение к Римме, такая искорка любви к
ней. Такие стихи мог написать только большой поэт. Я не буду сейчас читать их
здесь вслух. У кого есть альманах, те сами прочитают эти стихи.
...Я
вспомнила, как несколько лет назад мне позвонила главный редактор альманаха
«Истоки» Галина Вячеславна Рой и попросила меня написать статью о номере
альманаха, посвященном афганской войне. И я не без предубеждения взяла в руки
этот номер и тоже увидела, сколько там интересных имён...
Если
человек влюблён в литературу, он сможет на любую тему составить из талантливых
произведений как бы такой свод литературных текстов, которые отражают
литературную ситуацию в стране. И вот мне
кажется, что вот в твоём, Ниночка, альманахе схвачен какой-то момент
большого литературного процесса.
Здесь
идут рядом и Андрей Вознесенский и его стихи, и репортаж о его юбилейном
вечере, и интереснейшие тексты памяти Риммы Казаковой... и меня совершенно
потряс текст Равиля Бухараева о Юрии Влодове... Я люблю романы Бухараева, его
переводы, его очень любопытные стихи, но вот это его слово о своём поколении
меня потрясло, слово о многих не услышанных поэтах... многие из сидящих здесь,
мне кажется, ещё недостаточно услышаны в большой литературе... и именно слово
Равиля Бухараева, энергичное, яркое, помогло мне совершенно иначе взглянуть на
Юрия Влодова и его поэзию.
И
я думаю, что это очень большая удача Нины как редактора.
И
мне очень дорого ещё и то, что в этом альманахе представлена и рязанская
литературная диаспора. Потому что я уже больше десяти лет руковожу семинаром
юных авторов Рязани. И я вижу, что там подрастает юная литературная поросль.
Там есть очень много литераторов разных поколений, много талантливых, интересных имён, есть свои
альманахи, свои издательства... И вот уже их количество начинает переходить в
качество. И нужно, чтобы их услышала Россия.
Мы
знаем, как часто столичные альманахи страдают пренебрежением и равнодушием к
региональной литературе. Нина - достойный представитель Рязани, никогда не
забывает о своей малой родине и поэтому включила в альманах стихи и прозу своих
земляков.
Кроме
того она не обошла своим вниманием и Европу... Очень часто бывает так, что
держишь в руках какой-то альманах, читаешь, просматриваешь его, и тебе кажется,
что весь мир ограничен рамками России, какими-то её уголками, а Европы нет
вообще. И как приятно, что здесь, в альманахе, есть переводы Анатолия Шамардина
с немецкого, зарубежный юмор, рассказы польского писателя Януша Осенки. Я бы посоветовала Нине увеличить этот зарубежный раздел, потому
что, несмотря на кризис, у нас очень интересные связи со странами Европы. Не
случайно у нас в этом зале присутствует гость из Болгарии Ивайло Петров (аплодисменты зала)... и присутствует
замечательный переводчик с французского поэт Григорий Певцов. У нас
действительно очень много интересных людей, талантливых, сегодня работающих в
литературе и чувствующих внутреннюю связь русской литературы с Европой.
Спасибо
большое, тебе, Ниночка, за альманах, за твой подвиг... это подвиг – выпустить
такой альманах, да ещё в период кризиса...
(Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Только здесь и услышишь – со стороны - неожиданные хорошие слова о себе.
У
Лолы Звонаревой есть ещё одно очень хорошее качество. Она - друг Рязани,
рязанцев. И этим она тоже мне особенно дорога. У неё в Рязани недавно вышла
великолепная книга статей и эссе... в издательстве «Старт», у Алексея Бандорина
и Людмилы Салтыковой, там же, где и моя книга стихов, частушек и поэм «Четыре
стены».
...Что
касается стихов Александра Боброва памяти Риммы Казаковой... у него получился
такой диптих, из двух частей. Первая часть – весёлая, с шуткой, юмором и
эпатажем, называется она – «Пушкинский праздник-1979», на котором была Римма
Казакова:
Гуляет
сто один поэт
И
Римма Казакова...
Эту
первую часть Александр Бобров написал в 1979 году, в Пскове и в селе
Михайловском. А вторая часть диптиха – очень грустная, она называется «Белый
пух». Ее он написал 10 июня 2008 года, в Москве. По моей просьбе, по моему, так
сказать, социальному заказу. Я сказала Саше: «Саш, нет ли у тебя стихов,
посвященных Римме Казаковой?» - А он Римму хорошо знал, у них хорошие были
хорошие, близкие дружеские отношения. И он написал и прислал мне по «эмэйлу»
стихотворение «Белый пух». Я, пожалуй, прочитаю одну часть диптиха... нет,
пожалуй, обе части... Памяти Риммы Казаковой...
(Нина Краснова читает
обе части диптиха Александра Боброва: «Пушкинский праздник-1979» и «Белый пух»,
которое заканчивается очень грустными строчками):
...Пред
нею меркнет грязный слух,
Малахов
замолкает,
И
белый тополиный пух
Дорогу
заметает.
Белый
пух здесь – это не только тополиный пух, но это и пух из молитвенного пожелания
покойному, в данном случае покойной: пусть земля ей будет пухом... пух здесь –
это двойной художественный образ, двойная художественная находка поэта.
...Дальше
мы переходим теперь к чему, чтобы нам не
затягивать программу нашего вечера? Дальше у нас что идёт в альманахе? Кирилл
Ковальджи со своими «Дорожными приключениями». Он идёт у нас уже по второму
кругу. Кирилл Владимирович, вы не прочитаете нам один сюжет ваших «дорожных
приключений»? Нет? Тогда мы, может быть, сейчас послушаем песни Михаила Крылова?
У нас здесь собрались лучшие представители Рязани, лучшие поэты Рязани. Лучшие
к нам приехали. А не худшие. (Смех в
зале.)
И
вот приехал поэт-бард Михаил Крылов. У него недавно вышел диск, на котором
песни Михаила Крылова исполняет певец. Но мне кажется, что сам Михаил Крылов
поет свои песни лучше любого певца. И сейчас мы услышим его. Он был здесь, в
этом зале, в 2008 году, когда здесь была Римма Казакова.
Михаил
КРЫЛОВ:
-
Действительно, я помню этот зал, когда здесь выступала Римма Казакова. И сейчас
я спою для вас свои песни, под гитару.
(Михаил Крылова
поднимается на сцену и, аккомпанируя сам себе на гитаре, поет свои песню про
войну - «Я проклятую судьбу...».)
Я
люблю шутки. И сейчас спою песню шуточного характера.
(Михаил Крылова поет
песню «От тебя до меня...». Аплодисменты!)
Вы
не устали? Тогда я спою песню в народном плане. Я написал эту песню Римме
Казаковой, на одном дыхании.
(Михаил Крылов поет
песню «Чтоб всем идти одной дорогой». Аплодисменты!)
Спасибо!
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо!
Миш,
а потом ты, может быть, споёшь ещё одну свою фольклорную песню, которую ты пел
в Ходынине, в Доме культуры, и в Рязани, в Доме Салтыкова-Щедрина, на
презентации альманаха «Под небом рязанским»? Так мне эта песня нравится...
...Сейчас
мы пойдем дальше. У нас сегодня такое путешествие по альманаху. И дальше у нас идёт поэт Евгений Лесин... со
своими стихами. Где он? Нет его здесь, в зале? Нет. Значит, он сейчас сидит
работает у себя в редакции, в «Независимой газете», новую статью пишет или
новые стихи.
В
альманахе «Эолова арфа» у Жени Лесина напечатана подборка стихов. И смотрите, с
какого стихотворения, с какой строки она начинается: «У каждого Петрарки есть
Лаура...» Не слабо сказано! Уже по одной этой строке, которая, я думаю, станет
крылатой, можно полюбить этого поэта. А если прочитать все его стихи, то и
подавно...
...Дальше
у нас идёт Валерий Дударев. Валер, ты тут? Ау! Нет, Дударева тут нет. Значит он
тоже сидит у себя в редакции и пишет новые стихи или занимается журналом
«Юность»...
Анатолий
Шамардин, может быть, что-то споет нам? Или нет. Потом.
...Так.
А Игорь Михайлов здесь? Критик и прозаик? В «Эоловой арфе» у него напечатаны
миниатюры о Новелле Матвеевой. О том, как он с товарищем ставил ей забор на
даче... Игоря в зале нет? В общем вся «Юность» отсутствует, никого от «Юности»
на презентации «Эоловой арфы» нет. Один Генрих Палуян присутствует...
Представитель от журнала «Юность», писатель-юморист и водитель машины.
Ладно,
поедем дальше. Дальше у нас тут идёт Сергей Михайлин-Плавский, почивший,
писатель-деревенщик, который тянулся к высокой литературе и к высокой
культуре... Всю жизнь писал стихи. А потом перешёл на прозу. И написал за три
года три книги отличной прозы. В «Эоловой арфе» напечатаны его рассказ «Олеся».
Вы его прочитаете.
...Вот
здесь Ваграм Кеворков сидит. Это замечательный автор, писатель, который много
лет работал артистом, конферансье, диктором телевидения, вел передачу «Спокойной ночи, малыши!»...
Он, так сказать, писатель позднего созревания. Он всю жизнь собирал материалы
для своих книг. И вот теперь выпустил несколько очень интересных книг прозы. И
очень ярко и сильно проявился как писатель. У него есть эссе о телевидении
советского времени, есть эссе об известных людях, с которыми он встречался на
своём пути, о поэтах, писателях, артистах, есть эссе о Театре на Таганке... о
Юрии Любимове, о Владимире Высоцком, о Валерии Золотухине... У Ваграма
Кеворкова «орлиное» художественное зрение, «тигриный» художественный слух и
южный темперамент, и всё это помогает ему в его творчестве.
И
сейчас я предоставляю слово Ваграму Кеворкову. В «Эоловой арфе» напечатан его
рассказ «Я живу возле Кремля».
Ваграм
Кеворков – как он сам себя называет, «русский сын армянского народа»!
Ваграм
КЕВОРКОВ:
-
«Эолова арфа»... это звучание для меня – не отвлеченное, а совершенно
конкретное. Потому что я родился в Пятигорске. Там есть гора, и на этой горе
стоит беседка, которую поставили там когда-то очень давно, в VIII
веке. И вот в этой беседке была укреплена арфа Эолова, которую ласкали щедрые
кавказские ветерки... Это место памятно для меня, потому что там я в двенадцать лет целовал девочку очень
красивую, тоже двенадцатилетнюю.
Как
роза, утренний рассвет.
........................................................
Без
вас прожить мне невозможно.
.........................................................
Я
вас люблю, как только можно,
Как
можно в первый раз любить.
И
я так порадовался вот этой «Эоловой арфе». Я как раз только что вышел из
больницы и прямо помолодел благодаря вот этому альманаху, благодаря Нине
Красновой и благодаря всем вам. Я желаю вам всем хороших, крепких авторских
крыльев, мощных творческих потоков и всяческих удач! Дай вам Бог всего этого!
Спасибо!
(Аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
А мы желаем Ваграму Кеворкову не болеть! Мы желаем ему здоровья и сил «на дела
хорошие», на новые книги!
...Дальше
у нас идёт в альманахе Александр Логинов. Это коренной москвич, писатель,
который живёт в Женеве. Приехать сюда, на презентацию он не мог, но здесь
присутствует его друг, его, так сказать, личный представитель... его названый
брат... Владимир... сейчас вы все будете смеяться... потому что его фамилия...
Кувалдин... как и у главного редактора известного вам журнала...
(Смех в зале.)
Володя,
встань, покажись залу! Александр Логинов и Владимир Кувалдин - они такие
друзья, не разлей-вода. Александр живёт в Женеве, но у него здесь такой друг
хороший... который связывает его и с Москвой и с нами.
И
здесь, в альманахе «Эолова арфа», напечатан рассказ Александра Логинова,
который так и называется – «Рассказ».
Читать
его здесь я вам не буду, вы сами прочитаете его.
У
Александра Логинова очень интеллигентная манера письма, прекрасный язык,
лёгкий, органичный, с художественно-поэтичной игрой слов... очень много тонких
и ценных наблюдений, и шутки, и юмора, и иронии... У него тут и профессор
Литинститута, и тут же зоопарк... и тут же зав. лабораторией, который учит
главного героя держать змею в руках, и тут же и обезьянка, «рыжая мартышка»,
которая сидит в вольере под самым потолком и держит в руке, в серенькой лапке
кусок чёрного хлеба с аппетитной золотистой корочкой... Тут много смешного,
весёлого, и в то же время это очень серьёзная проза... и в ней есть... такой
классический блеск, или, как кто-то говорил про прозу Тургенева, «отблеск
(отсвет) пушкинской прозы», и такой европейский налёт. Писатель Александр
Логинов живёт в Европе, в Женеве, и у его прозы есть такой хороший европейский
налёт. И мы пожелаем Александру Логинову, чтобы он не чувствовал себя вдали от
России отчужденным, чтобы он знал, что мы здесь с удовольствием читаем его
прозу и передаём ему привет... Володь! Через тебя! Передай ему от нас большой
привет!
Нина
КРАСНОВА:
-
Дальше у нас идёт раздел рязанцев... Он идёт в конце.
Тут
на презентацию «Эоловой арфы» рязанская дружина наша приехала, рязанские поэты,
стихи которых напечатаны в этом альманахе.
И
ещё в этом альманахе напечатаны стихи опального рязанского поэта Евгения
Маркина, в разделе, посвящённом его 70-летию и его памяти. Евгений Маркин - это
особая фигура в рязанской литературе. Он учился в Москве, в Литературном
институте, на очном отделении, в 60-е годы, вместе с Евгением Евтушенко и
Беллой Ахмадулиной, он младший их товарищ, занимался с ними в одном и том же
семинаре у Евгения Долматовского, у которого, кстати сказать, потом, спустя
годы, занималась и я, у нас у всех - один литературный учитель. И, кстати
сказать, у Евгения Долматовского занимался и Кирилл Ковальджи, и мой
однокурсник Сергей Каратов, которые сегодня присутствуют и будут выступать на
этом вечере. Так что здесь много поэтов
из семинара Долматовского. А в той аудитории, где Долматовский проводил
семинары, там сейчас проводит семинары со своими студентами Евгений Рейн.
Евгений
Маркин был удачливый поэт. Он как-то так сразу вышел на большую литературную
арену, стал заметным в Москве, выступал с Евтушенко, Ахмадулиной и Олжасом
Сулейменовым на литературных вечерах, а потом поскандалил в ЦДЛе с кем-то из
литературных «тузов», с кем-то их литературных чиновников, и вернулся в Рязань.
А там в это время жил Александр Солженицын и работал в школе математиком и
физиком, и они дружили друг с другом. А потом, когда Солженицына исключили из
Союза писателей, Евгений Маркин оказался единственным из рязанских поэтов,
который написал стихи, посвященные Солженицыну, и напечатал их в журнале «Новый
мир» в 1971 году, не побоялся. И в этих стихах у него была такая строка:
«Салют, Исаич!» Вот Маркин послал со страниц «Нового мира» свой салют Исаичу и
с треском вылетел из Союза писателей, то есть его тут же исключили оттуда, как
и Солженицына... А потом упекли в антиалкогольную скопинскую лечебницу... он
пьющий был, а остальные рязанские поэты у нас все непьющие были...
(Смех в зале.)
Они
пили не даже и больше, чем он, но их никто в лечебницу не ссылал. Роберт
Рождественский как говорил про поэтов, которые пьют:
Мы
все умеем пить, как Есенин.
Ещё
б теперь писать, как Есенин...
Пьющие
рязанские поэты, ровесники Маркина, потом лет на тридцать-сорок пережили его,
хотя пили даже больше, чем он. А он вернулся из лечебницы уже совершенно
больной, и вскоре умер в возрасте 41-го года, как Высоцкий и как Блок... 41 год
– это прямо какой-то роковой возраст для поэтов.
Но
сейчас вот в Рязани уже 20 лет проходят литературные праздники, посвященные
Евгению Маркину... У нас всегда так получается, как в фильме про Чапаева...
сначала «наши» ребята гибнут, а потом другие «наши», размахивая шашками и
саблями, скачут на конях спасать их и приходят всегда с опозданием, но всё же
приходят. И поют им славу. И в конце концов «наши» всё равно побеждают. Так и в
истории с Евгением Маркиным...
Я
когда-то, девочкой, занималась у него в литобъединении «Рязанские родники».
Евгений Маркин - это мой первый (рязанский) литературный учитель, у которого я
много чему научилась, много чего набралась, только пить не научилась...
(Смех в зале.)
ГОЛОС
из зала:
-
«У нас любить умеют только мертвых»...
Нина
КРАСНОВА:
-
Это точно... да и то не всех (даже и мёртвых у нас умеют любить и ценить, а
только тех, кому повезёт). Евгению Маркину «повезло». Его посмертная жизнь
складывается хорошо, скажем так. (Смех в
зале.)
И
здесь, в альманахе «Эолова арфа» напечатаны стихи Евгения Маркина, и не только
его стихи, но и... такая... очень глубокая статья о нём, которую написал его
сын Роман Маркин. Статья не статья... я даже не знаю, как это назвать... Сын
Евгения Маркина Рома когда-то, ещё в 1970 году, был на Есенинском празднике в
Константинове, тогда он был такой маленький мальчик. И вот сейчас он стал
кандидатом искусствоведения и директором музея Евгения Маркина в деревне
Клетино под Касимовом. Рома очень хорошо, лаконично и в то же время ёмко
написал о своем отце, всего на трёх страницах сумел показать всю его жизнь и
все главные этапы его жизни. Молодец!
Публикация
стихов Евгения Маркина в московском альманахе – это большое событие и для
самого Евгения Маркина, и для рязанцев, и для Рязани. Рязанцы знают и помнят
Евгения Маркина. А в Москве уже почти никто не знает и не помнит его... Может
быть, только Евтушенко и Ахмадулина... Евтушенко вставил в свои «Строфы века»
стихи Евгения Маркина. Из рязанцев он вставил туда только Есенина и
Маркина.
...А
сейчас у нас идёт по программе поэтесса Людмила Осокина. Людмила, где ты там?
Людмила
ОСОКИНА:
-
Я здесь (направляется из партера к
микрофону).
Нина
КРАСНОВА:
-
Людмила Осокина у нас – энтузиастка такая. Она сейчас стала главным редактором
«Библиотечки поэзии» Союза писателей Москвы.
Полгода
назад Людмиле в голову вдруг ни с того ни с сего пришла мысль о том, что почему
это у Союза писателей Москвы нет своей библиотечки поэзии... И вслед за этой
мыслью Людмиле в голову пришла идея выпускать «Библиотечку поэзии» Союза
писателей Москвы. И Людмила стала осуществлять свою идею. Сама разработала
дизайн этой серии и начала её... с меня. (Смех
в зале.) И выпустила экспериментальный – нулевой - номер, книжечку моих
стихов в 30 страниц, и сама составила и сама смакетировала, сверстала её. А
теперь вот уже выпустила ещё несколько книжечек «Библиотечки...», в
«Профиздате», где она работает, стихи Александра Ревича, Евгения Бунимовича,
Елены Лапшиной... И собирается и дальше
выпускать «Библиотечку поэзии».
У
Людмилы Осокиной и у самой очень оригинальные стихи, такие утончённые,
нежно-акварельные...
Но
здесь, в альманахе «Эолова арфа» напечатаны не её стихи, а отрывок из её романа
«Козёл отпущения»... Это очень ироническая, мистическая проза, написанная с
большим воображением, с большой фантазией... Там действуют «поднебовцы»,
«поднебесы» или просто «бесы». И такой чёртик – Чертоша, очень смешной,
чумазый, как чёртик, он вызывает к себе большую симпатию.
Люда,
что ты будешь сейчас читать? Кусочек из своего романа, да? Чтобы не только
стихи звучали на вечере...
Людмила
ОСОКИНА:
-
Да. ...И ещё я скажу два слова про свой проект «Библиотечки поэзии»... Но начну
я с «Истоков», которые у Нины превратились в «Эолову арфу», в новый альманах. Я
хотела помочь Нине сверстать его, но мне было как-то странно, что это уже
какой-то другой альманах. Мне хотелось, чтобы он оставался «Истоками». Потому
что мы уже привыкли к ним. Всё же я взялась сверстать его. Но сказала, что
раньше, чем через месяц, я его не сделаю, потому что он очень большой по
объёму, 444 страницы. Я начала верстать его после маленьких книжечек из серии
«Библиотечки поэзии», в 30 страниц, но я не привыкла работать с такими большими
объёмами, и мне показалось, что это что-то ужасное... и что я с этим никогда не
справлюсь.
Нина
КРАСНОВА:
-
Объём громадный, конечно...
Людмила
ОСОКИНА:
-
Да, громадный объём, и я не потянула его. Я сказала Нине: «Я умру, если буду
делать его... Умру прямо за компьютером...»
(Смех в зале.)
И
Нина не стала рисковать моей жизнью, требовать от меня такой жертвы и забрала у
меня все материалы альманаха. И всё-таки сделала его! И всё у неё получилось
замечательно! Я так обрадовалась этому, тому, что у неё всё получилось, и
получилось замечательно! Я, честно говоря, сомневалась, что у неё что-то
получится, думала, что вот зачем Нина придумала какой-то другой альманах, что
вот если бы она делала «Истоки», альманах со старинным брэндом, к которому все
привыкли, это было бы всё-таки лучше... Но у неё получилось всё просто
замечательно... И просто, и замечательно. А чем проще, тем это и лучше. И вот у
Нины получился альманах, а у меня получилась «Библиотечка поэзии».
И
Нина Краснова, то есть её книжечка стихов вышла в этой серии самая первая, в
разных вариантах, с разными обложками, в четырёх вариантах... Вы видите у меня
в руках один вариант, я взяла с собой из дома только одну эту книжечку, а их
всех – четыре. Я не знала, какой лучше, и сделала несколько вариантов. И вот с
Нины Красновой и началась серия «Библиотечки поэзии» Союза писателей Москвы.
Потом я выпустила Александра Ревича... А сейчас в этой серии идут Елена Лапшина
и Евгений Бунимович. А на очереди – Юрий Влодов, мой супруг, следующая книга
будет Юрия Влодова, моего супруга.
В
альманахе «Эолова арфа» я иду как прозаик, с отрывком из своего романа «Козёл
отпущения». Я когда-то, в 1996 году, пыталась напечатать его в журнале
«Юность», но почему-то главный редактор Липатов не захотел меня печатать. И в
итоге роман лежал, лежал и долежался-таки... Вот я сейчас немножечко почитаю
вам его, несколько страничек, чтобы как-то привлечь к нему ваше внимание.
(Людмила Осокина
читает несколько страниц из своего
романа «Козёл отпущения». Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Насчет Юрия Влодова я хотела сказать, что это поэт такой, который всю жизнь
просидел в тени, (почти) никем не знаемый и никем не узнанный. Его знают только
в узких литературных кругах, а широкой известности у него нет. А поэт он -
удивительный и такой... уникальный.
Если
даже брать только одни его рифмы... уже по ним мы можем судить, какой это поэт.
Он виртуозно владеет искусством рифмы. У нас почти все поэты в основном очень
примитивно рифмуют, пользуются старыми, чужими (и как бы общими) затасканными,
затёртыми, банальными рифмами, изобретениями своих предшественников, то есть,
если говорить словами моего учителя Евгения Долматовского, используют в своих
стихах «арсенал отработанной поэтики», а своих новых рифм у них нет. А у
Влодова очень много новых, ярких, красивых рифм: «жужжит – жид», «бугром –
гром», «гад – наугад», «сила – заколесила», «алость – малость» и т. д.
Кроме
того у него форма стихов очень сжатая, как правило, всего одна-две строфы... Но
столько смысла он вкладывает в эту форму, столько философии... И у него
какое-то такое видение мира... как будто он откуда-то с неба, откуда-то сверху
наблюдает за людьми...
У
Влодова есть такая строка:
Не
дай нам небо земных наград...
Вот
он сказал это... И не получил никаких «земных наград» с неба (смех в зале)... Но зато он...
Людмила
ОСОКИНА (Нине Красновой):
-
Знаешь, эта строчка отлетела от одного его стихотворения...
Нина
КРАСНОВА:
-
Но она может существовать и сама по себе, как однострочие Владимира
Вишневского... (Смех в зале.)
...Я
хочу сказать о Людмиле Осокиной. Она – поэтесса и жена поэта Юрия Влодова. Она
посвятила свою жизнь не самой себе, а ему, «наступая на горло собственной
песне», как сказал бы Маяковский. А что это значит – посвятить свою жизнь
поэту, да ещё такому, как Юрий Влодов?..
Поэты – народ трудный, а Влодов один всех стоит. Людмила - очень сильная
личность, и просто-напросто героическая женщина. И она сейчас скажет нам
что-нибудь про Влодова (который не смог
прийти на вечер, потому что он тяжело болен и уже давно не выходит из дома).
Людмила
ОСОКИНА:
-
Мы с ним целую жизнь прожили...
Кстати,
насчет статьи Бухараева. Эта не просто статья, это - предисловие к новой книге
Влодова, которая уже ушла в типографию, но выйдет она или нет, я не знаю, это
пока вилами на воде писано.
Я
не знаю, что делать. Гонорар за книгу я получила, а книги пока нет. Она уже
давно должна была выйти в свет от правительства Москвы, но застряла в
типографии и лежит там где-то с августа месяца, с 2008 года.
Я
прочитаю, наверное, несколько стихотворений Юрия Влодова, очень коротеньких,
как говорится.
(Пока я готовила
новый номер альманаха «Эолова арфа», книга Юрия Влодова вышла в свет. – Прим.
Н. К.)
(Людмила Осокина,
открыв тоненькую книжечку Юрия Влодова,
но не глядя в неё, читает наизусть его стихотворение «Я заглянул в зерцало
Бытия...» и другие стихи.)
...Мне
хочется прочитать стихотворение, которого здесь, в книжечке, нет... Я, пожалуй, пойду на сцену, там
акустика такая хорошая, я пойду туда и буду читать стихи Влодова оттуда, со
сцены.
Нина
КРАСНОВА:
-
Люда Осокина позавидовала Михаилу Крылову (который пел со сцены)... у него
голос оттуда звучал громко и красиво...
(Смех в зале.)
Людмила
ОСОКИНА (поднялась на сцену, встала у
микрофона):
-
Замечательно...
(Смех в зале. Людмила
Осокина с большой экспрессией, целых
двадцать минут читала наизусть стихотворение Юрия Влодова, в котором есть
строка «А разве можно вымысел предать?..»)
Нина
КРАСНОВА:
-
Сейчас все туда, на сцену полезут, все туда заберутся и будут выступать только
оттуда...
(Смех в зале.)
(Нина Краснова
обращается к Людмиле Осокиной.)
Влодов
должен бы вручить тебе гонорар за такое чтение его стихов, и за пропаганду его
творчества. Сам он не умеет читать так.
(Смех. Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА (обращается к залу):
-
Так. Может быть, мы сейчас немножко прибавим темпа? Чтобы не затягивать наш
вечер? Как вы думаете?
Может
быть, Анатолий Шамардин сейчас выступит? Или... нет.
Елена
Богданова! Она здесь? Здесь. У нее в «Эоловой арфе» напечатан материал, который
очень связан с «Эоловой арфой», с музыкой... Материал о выдающемся пианисте
мирового класса Глене Гульде. О нём не все у нас знают, к сожалению.
Елена
Богданова такое прекрасное эссе написала о Глене Гульде. Это был пианист, гений
в своей музыкальной области, но при том, что он был человек публичной
профессии, он не любил тусоваться, любил жить в одиночестве и вот так и жил в
одиночестве. Очень неординарная фигура. Обычно люди публичных профессий,
артисты, любят тусоваться, любят выходить на люди. Светиться везде, перед
кинокамерами, на экране телевизора... А он был одинокий гений и любил жить и
работать в полном одиночестве. У него была своя студия, и он записывал там свои
выступления не перед публикой, а в пустых четырех стенах.
Лен,
может быть, ты что-то скажешь? Почему тебе захотелось о нём написать, о Глене
Гульде?
Елена
БОГДАНОВА:
-
Во-первых, потому что Глен Гульд заслуживает того, чтобы о нём написали.
Нина
КРАСНОВА:
-
Без сомнения, заслуживает...
Елена
БОГДАНОВА:
-
Кроме того, он стал такой последней моей фигурой, которой я увлеклась. И я ещё
не всё до конца о нём написала и пишу и напишу ещё что-то такое...
Я
не буду читать здесь свое эссе о нём. Я просто советую всем вам прочесть его,
потому что пересказывать всё это – просто бессмысленно.
Что
я хотела бы сказать? Я скажу буквально пару слов. Я очень рада, что я оказалась
вот в этом первом выпуске нового альманаха, что я попала туда, несмотря на то,
что я не имею к Рязани никакого отношения... (Смех в зале.) Тем более мне
было это приятно – попасть в этот альманах. И я хочу сказать за это слова
благодарности Нине Красновой... Я очень долго ждала этого выпуска. Я впадала в
сомнения и просто в отчаяние оттого, что он очень долго не выходит... Я думала:
а может быть, он и не выйдет? И звонила Нине и спрашивала её об этом. Но слава
Богу, благодарение Богу, что всё так хорошо закончилось, несмотря на то, что я
этого альманаха ещё в глаза не видела и в руках не держала. Я хочу, конечно,
сказать слова благодарности Нине за её замечательный характер,
целеустремленный, оптимистичный, и за её способность к организационным всяким делам.
Честь и хвала Нине, честь и хвала!
(Нина Краснова
подходит к Елене Богдановой и преподносит ей альманах «Эолова арфа».)
Нина
КРАСНОВА (Елене Богдановой):
-
Елена, держи альманах!
(Аплодисменты.)
-
Я просто ещё хочу в самом конце прочесть вам своё маленькое стхотворение. Оно
назывется «Февраль». Сейчас у нас на дворе февраль. Поэтому я хочу прочесть вам
это стихортворение.
(Елена Богданова
читает свое стихотворение.)
Этот
ветер весенний
Бездельник
и враль,
Мне
твердит целый день,
Будто
умер февраль,
Захворал,
загрустил
Да
и дух испустил...
(Елена Богданова
читает стихотворение до конца. Аплодисменты!)
Спасибо!
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо, Елена! Петр Кобликов дарит цветок Елене Богдановой, как рыцарь
прекрасного образа.
А
Ивайло Петров нам ничего не скажет, наш дорогой гость из Болгарии? Куда вы
уходите, Ивайло?
Ивайло
ПЕТРОВ:
Я
сейчас приду.
Нина
КРАСНОВА:
-
Тогда сейчас мы запускаем на сцену... Анатолия Шамардина. Чтобы у нас после
раздела о музыке пошла музыка. Анатолий споёт нам... он споёт нам что?
Анатолий! На сцену!
Представитель
русского бельканто,
Знающий
и Бебеля, и Канта,
Анатолий
Шамардин -
Это
просто шарм один!
(Смех и аплодисменты.
Анатолий Шамардин в вишневых вельветовых брюках и в вишневой вельветовой куртке
выходит на сцену.)
Вот
это он и есть! Солист оркестра Леонида Утёсова Анатолий Шамардин! Когда он
давал интервью одной корреспондентке радио и сказал, что он солист оркестра
Утёсова, она с удивлением спросила у него: «Да сколько же вам лет?!» Как в спектакле
«Театральный роман» героиня спрашивает: «Да сколько же лет Аристарху
Платоновичу, если он знал Чехова и Гоголя, который читал ему свои «Мертвые
души»?!
(Смех в зале.)
Она
думала, что он поёт в оркестре Утесова с 20-х годов. А он на самом деле работал
в оркестре Утесова в 70-е годы. А Утёсов плохих певцов не брал в свой оркестр,
он не брал даже хороших и очень хороших (смех
в зале)... Он брал только исключительно хороших, выдающихся артистов.
(Анатолию Шамардину,
который настраивает аппаратуру.) Анатолий, там все готово?
Анатолий
ШАМАРДИН:
-
Да.
Нина
КРАСНОВА:
-
Только чтобы не слишком громко всё звучало, чтобы не оглушать зал.
Анатолий
ШАМАРДИН (залу):
-
Ну, наверное, нужно начать с песен на стихи Нины Красновой. Я спою романс на её
стихи «Если хотите».
(Анатолий Шамардин
поёт романс на стихи Нины Красновой «Если хотите».)
ЕСЛИ
ХОТИТЕ...
Музыка
Анатолия Шамардина
Стихи
Нины Красновой
Давайте
фужеры вином наполню.
Вы
не торопитесь никуда?
Если
хотите, я не напомню
Вам
о любви моей никогда.
Не
буду, капризам её потакая,
Идти
за нею на поводу.
Но,
если помощь нужна какая,
Вы
имейте меня в виду.
Не
буду дежурить у Ваших окон,
Не
позовете, к Вам не приду.
Но,
если будет Вам одиноко,
Вы
имейте меня в виду.
Если
предложите, буду рада
С
Вами вместе гореть в аду.
И
(я) умру за Вас, если надо.
Просто
имейте это в виду.
(Крики «Браво!» и
аплодисменты.)
Следующая
песня на стихи Нины Красновой называется «Сон под пятницу». В своё время мы
записали её с гениальным гитаристом Сергеем Ореховым. Он, к сожалению, умер лет
пять назад. Сейчас в Политехническом музее проводятся вечера его памяти.
Недавно в Большом зале Политехнического музея был концерт, посвящённый памяти
этого великого гитариста, аранжировщика и интерпретатора русских народных и
цыганских песен. Он был виртуоз, играл всё! И его можно сравнить с Пако де
Люсия. Был такой испанский гитарист. А у нас был Сергей Орехов. При жизни, ему,
к сожалению, не уделяли должного внимания. Но Сергей Орехов - это было
действительно такое русское чудо. Он не любил записываться в студиях. И не
любил репетировать, всегда импровизировал. И всё, что мы с ним записали, в том
числе песни на стихи Нины Красновой, мы не репетировали. Он говорил мне: «Толя,
репетировать не будем. Ты скажешь мне тональность, и я просто сымпровизирую
тебе». И вот мы приехали с ним в институт культуры, в студию. Он сел там с
гитарой. И я просто сказал ему: «Сережа! ре-мажор!» И мы с ним на одном дыхании
записали восемь песен на стихи Нины. Я пел, а он играл, и я, как мог,
аккомпанировал ему вот на этой гитаре, которая у меня в руках. А он играл... И
я сейчас спою песню Нины Красновой «Сон под пятницу» под фонограмму, на которой
мне аккомпанирует Сергей Орехов. А петь я буду живьём. Можно подпевать эту
песню... Я буду петь, а вы подпевайте мне.
Нина
КРАСНОВА:
-
Можно водить под неё хоровод.
(Анатолий Шамардин
поет песню на стихи Нины Красновой «Сон под пятницу».)
СОН
ПОД ПЯТНИЦУ
Музыка
Анатолия Шамардина
Стихи
Нины Красновой
Мне
приснился сон под пятницу:
Я
надела белу платьицу
С
вышивкой по рукавам
И
пошла на вечер к Вам.
Я
пойду на вечер в пятницу,
Вместо
брюк надену платьицу
С
вышивкой по рукавам,
Чтобы
стать милее Вам.
Ля-ля-ля,
ля-ля, ля-ля, ля-ля,
Ля-ля-ля,
ля-ля, ля-ля, ля-ля,
Ля-ля-ля,
ля-ля-а-а, ля-ля-а-а-а,
Ля-ля-ля,
ля-ля, ля-ля...
Я
пойду на вечер в пятницу,
Вместо
брюк надену платьицу
С
вышивкой по рукавам,
Чтобы
стать милее Вам.
(Аплодисменты, крики
«Браво!» Тексты песен Анатолия Шамардина и Нина Красновой приводятся здесь
полностью по просьбе зрителей. – Н. К.)
Я
мечтаю дать большой концерт с песнями на стихи Нины Красновой.
Русские
песни я впитал в себя с детства. Потому что жил в греческом селе Хасаут на Ставрополье,
где жили и греки, и казаки, и русские. И моя тетя очень здорово пела русские
народные песни. И я все это в себя впитал. И поэтому, когда я пою русские
песни, то я, естественно, - русский, и пою их в русской манере, с русскими
интонациями. И меня так воспринимали в Германии, как русского певца, когда я
поехал в Германию и выступал там с двухчасовой программой, пел русские народные
песни и романсы, пел я их в прекрасных акустичных залах, пел без микрофона. И
там висела такая афиша, она у меня сохранилась, немцы в Штутгарте вывесили
такую афишу, на которой было написано: впервые в Европе эстрадный певец поет
без микрофона!
(Смех в зале.
Аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
Немецкая пресса называла Анатолия Шамардина «русским соловьем» и «волшебником
из Москвы».
Анатолий
ШАМАРДИН:
-
Недавно мы были на праздновании Русского Слова в Армении, от «Литературной
газеты» и от журнала «Юность». Там была целая большая делегация: поэты,
писатели, юмористы... Трушкин, Инин, Андрей Дементьев, Юрий Поляков, Валерий
Дударев, Нина Краснова, и было много людей. И выступали мы там в разных
помещениях - в университетах, на телевидении и так далее. И когда ректор
гуманитарного вуза услышал меня, а я пел разные песни, русские и итальянские и
греческие, он удивился и сказал такую фразу: «В тебе, Анатолий, живут два
человека, и даже не два, а три и больше, и русский, и грек, и итальянец». Я
тоже замечал это за собой. Потому что, когда я пою песни на русском языке, я –
один человек, а когда пою на своем родном языке греческом языке, на языке своей
мамы, то я - другой человек, а когда я пою песню на итальянском, я тоже -
другой человек, и когда на немецком – тоже... И если я пою на немецком, я как
бы обязан быть немцем и петь без акцента. И прежде чем петь песни на немецком,
я десять лет преподавал в вузах немецкий язык, после того, как окончил ин.яз. И
я как бы обязан знать его не хуже, а даже лучше, чем немец...
Я
пою с детства. И к своей профессии певца отношусь как к хобби. Лучше всего
работать в той профессии, которую ты любишь не только как профессию, но еще и
как свое хобби. И лучше всего заниматься тем, что ты любишь. Я сейчас я хочу
спеть хотя бы парочку песен на итальянском и греческом языках.
Вот
как звучит песня «Веселые крестьянки» на итальянском языке.
(Анатолий Шамардин
поет песню на итальянском языке «Веселые крестьянки, а один куплет – на русском
языке.)
Шагал
забавный ослик рядом,
Цок-цоко-цоко,
дили-дон,
С
большой корзиной винограда
Шагал
на рынок важно он,
Цоко-цоко-цоко-цок,
Цоко-цоко-цоко-цок,
Цоко-цоко-цоко-цок-цоко-цок...
(Аплодисменты, крики
«Браво!»)
Это
была песня на итальянском языке «Веселые крестьянки». Следующая песня будет на
моем родном греческом языке.
В
Армении в одной местности есть древний храм, который находится в скале. Там музыкант
играл нам на старинном инструменте армянскую музыку. А экскурсовод сказал нам,
что в этой местности жили не только армяне, но и древние греки. Я сейчас спою
греческую песню на греческом языке «Люблю тебя такую». Мне кажется, что в этой
песне собраны греческие и армянские мелодические интонации... Посмотрите,
послушайте, как она звучит. «Люблю тебя такую»!
Танцуем
под нее! Опа!
(Анатолий Шамардин
поет греческую песню «Люблю тебя такую» и танцует сиртаки. Аплодисменты, крики
«Браво!»)
Спасибо!
Спасибо!
Нина
КРАСНОВА:
-
В альманах «Эолова арфа» Анатолий Шамардин представил юмористические рассказы
польского писателя Януша Осенки, которые он перевел с немецкого языка. Сейчас
он через немецкий язык переводит китайцев.
(Смех в зале.)
Так
что немецкий язык, который он преподавал когда-то в вузах, ему пригодился ему
не только для исполнения иностранных песен, но и для литературных переводов.
Сейчас
у нас здесь по программе идет таганская группа, зрители, поклонники,
завсегдатаи Таганки. Петр Кобликов уже выступал здесь. Петр! Покажитесь залу!
Петр уже показывался залу, выступал здесь. А сейчас у нас выступит его ученица,
молодая поэтесса Александра Цапковская. Она приехала из Кинешмы. Она окончила
здесь, в Москве гуманитарный институт. И сейчас живет в Кинешме, откуда и
приехала сюда, на этот вечер.
В
альманахе «Эолова арфа» напечатана подборочка ее стихов. Это такие печальные
лирические стихи с такой тоскливой любовью к Москве. Не хочется Саше Цапковской
жить в Кинешме, а хочется жить в Москве и ходить в Театр на Таганке, на все
спектакли.
Вот
она пишет: «А мне б сейчас на Чистые пруды... // Идти бы мне сейчас по
Моховой...» Или вот еще: От названий московских улиц сердцу как-то светло и
грустно. Ах, зачем я с утра проснулась // В этом городе, где так пусто?» Это в
Кинешме, значит. «Мне сегодня нельзя, конечно, // На Таганской к театру
выйти...»
Александра
ЦАПКОВСКАЯ (выходит к микрофону):
-
Я окончила Московский гуманитарный институт. Петр Александрович Кобликов одно
время был у меня преподавателем...
Петр
КОБЛИКОВ (подсказывает ей):
-
...и проректором...
Александра
ЦАПКОВСКАЯ:
-
...и проректором. Он меня воспитал. Сейчас я живу в Кинешме. Работаю там на
радио. Я взяла сюда с собой диктофон и записываю наш вечер на диктофон. Я
сейчас не буду читать те стихи, которые напечатаны в альманахе, вы сами
прочитаете их там. Я вам прочитаю немножко другое, если можно. О том, что меня связывает с
Таганкой...
Двенадцатый
ряд, шестое место.
Как
больно, как странно, мы снова вместе,
Как
будто бы не было расставанья...
Как
больно, как странно, как всё серьезно...
Как
больно, как странно, мы снова вместе.
Двенадцатый
ряд, шестое место.
И
еще одно... Или ещё не одно... я немножко запуталась в цифрах.
...Я
писала диплом... Были совершенно разные темы для диплома. Я не знала, какую мне
выбрать. И тут меня, как говорится, стукнуло! Я вспомнила о Владимире
Семеновиче Высоцком и написала диплом о его произведениях.
Вопрос
стоял для меня так: докажи, что его произведения являются поэзией. Я долго
мучилась, не знала, как доказать эту аксиому, и написала вот такое
стихотворение:
...это
поэзия...
Люди,
вслушайтесь, это не песни,
Он
не песни пел, не стихи читал...
Он
плакал навзрыд...
(Аплодисменты.)
И
ещё одно стихотворение, напоследок... Вот несколько строк, относящихся к
данному альманаху:
Друзьям,
которых не ищу,
............. коих не жалею,
Стихам,
которых не пишу,
Мечтам,
которых не лелею.
Нина
КРАСНОВА:
-
Саша Цапковская специально приехала к нам из Кинешмы. Саш, сколько километров
от Кинешмы до Москвы?
Александра
ЦАПКОВСКАЯ:
-
Сколько километров, я не знаю. Я знаю, что ехать от Кинешмы до Москвы 10 часов
на поезде.
Нина
КРАСНОВА:
-
Саша приехала к нам прямо с поезда, прямо с корабля на бал. Она совершила
героический поступок... И сейчас, после вечера, поедет назад в Кинешму.
...Тут
еще есть авторы из таганской группы. Шелли Барим... она не смогла прийти,
болеет. Юрий Шуников... о нем мы уже говорили. У него тут кроме бардовской
песни о Валерии Золотухине, строка из которой «Золотухин – наше всё!» станет и
уже стала крылатой, есть стихи о любви, книга в альманахе. Кто тут у нас еще?
Алексей Хованский. Он тоже не смог прийти на вечер, он руку сломал... бедный,
писал-писал стихи авторучкой, от руки, и руку сломал, очень много работал. (Смех в зале.) Перо у него, наверное,
слишком тяжелое было.
Татьяна
Николина еще тут, в альманахе есть. Ее тоже нет на вечере. Но здесь есть ее
личный представитель... Кто у нас представитель от Татьяны Николиной? Юрий
Дмитриев. Он здесь. Татьяна очень далеко живет, в Вашингтоне. Но она нам звонит
оттуда постоянно, и постоянно она в курсе наших дел. К тому же она регулярно
читает мой Живой Журнал, который я веду уже два месяца...
Юрий,
вы скажете что-нибудь о Татьяне? (Юрий
Дмитриев передает Нине Красновой
стихи Татьяны Николиной, посвященные Нине Красновой.) О, стихи Татьяны Николиной, посвященные Нине Красновой.
Называются «На рязанской земле». Это она вам их по электронной почте прислала?
О, сколько стихов! Здорово! Это у нас тут у меня уже своя литературная «Ниниана» собирается...
(Смех в зале.)
Тут
стихи Нине Красновой. А в «Эоловой арфе» у Татьяны Николиной напечатаны ее
детские стихи, для детей. Она вообще в основном детские стихи пишет, она разные
стихи пишет, но в том числе и детские. В «Эоловой арфе» напечатаны ее стихи
«Деревенька Семеренька» и «Песнь самовара». Стихи Татьяны Николиной были
напечатаны в журнале Петра Кобликова «Детское чтение для сердца и разума». Она
пишет стихи недавно. Но от стихотворения к стихотворению совершенствуется и
пишет всё лучше и лучше. Она написала книгу стихов «Поле притяжения Таганки» -
о спектаклях и артистах Таганки и о режиссере Юрии Любимове. Она не зря ходила
на спектакли, на Таганку. Ходила-ходила и писала стихи о каждом спектакле и
написала целую книгу. Когда она подарила ее Юрию Любимову он написал ей
автограф: вы вложили много труда в этот проект, и результат получился
прекрасный. А когда Валерий Золотухин встречался на Таганке со студентами
Молодежного театра из Барнаула, он там создает свой театр, то все студенты
получили от Татьяны ее книжку о Таганке. Татьяне от нас привет, из Москвы в
Вашингтон! Татьянин день мы недавно отмечали.
...Дальше
у нас идет по программе Маргарита Яньшина! Она мне записку из зала прислала.
Здесь Маргарита или уже ушла?
ГОЛОСА
из зала:
-
Здесь!
Нина
КРАСНОВА:
-
Идите сюда, Маргарита, идите сюда. У Маргариты Яньшиной в «Эоловой арфе»
большая подборка стихов. Стихи у нее совершенно удивительные, и по своей
стилистике, и по своему оригинальному подходу к теме любви и ко всем другим
темам, и по своему синтаксису и пунктуации. У нее совершенно необычный – свой -
синтаксис и совершенно необычная – своя - пунктуация. И сейчас Маргарита нам
что-нибудь прочитает из своих стихов.
Маргарита
ЯНЬШИНА:
-
Спасибо. Я не настолько ужасна, чтобы мучить вас своими стихами в больших
количествах, но некоторые свои стихи я прочитаю.
Нина
КРАСНОВА:
-
Маргарита, подойдите к микрофону.
Маргарита
ЯНЬШИНА:
-
Я хотела бы сказать большое спасибо Нине Красновой и всем, кто пришел сюда. Я -
первый раз в Доме литераторов. И у меня от него такое впечатление, как от
юрского периода. Я никогда не была здесь, в этом месте. Здесь какой-то
совершенно особенный колорит. Я приведу, процитирую вам короткий диалог двух
литераторов, который я подслушала в буфете, когда пила там кофе.
Они
разговаривали между собой. И один говорит другому: вы знаете, я только сейчас
начал понимать суть литературы, творчества... А тот отвечает ему: ты стакан-то
наливай... (Без стакана как говорить на высокие темы?)
(Смех в зале.)
Наверное,
есть какая-то метафизическая суть литературы. Спасибо вам большое за то, что я
попала в альманах и в Дом литераторов! Я сейчас прочитаю несколько своих
стихотворений.
(Маргарита Яньшина
читает свои стихи.)
Овцой
овацию венчая, (Овцу овацией венчая?)
Прославим
нынче час овечий!..
И
т. д.
Так...
Что бы такое мне ещё прочитать?..
Нина
КРАСНОВА (присутствующим):
-
Вы заметили, у Маргариты «овцу» с «овацией»? Это называется аллитерацией, или «магнитной
рифмой» - по Вознесенскому, когда рассыпанные в строке звуки совпадают друг с
другом и притягиваются друг к другу... Я называю это «рассыпанной рифмой».
Маргарита
ЯНЬШИНА:
-
«Овация» - как раз имеется в виду принесение «овцы» в жертву. Это было когда-то
в римской традиции.
...Первый
слушатель – значит многое...
...Ступай,
поверженный герой,
А
Элизиум, бесплотный...
Я
не ждала. А всё-таки ждала...
......................................................
О,
нимфа Эхо! Ты не умерла...
......................................................
...В
душе молясь,
О
том, что скоро, скоро, скоро -
Всё
сбудется...
Сказала
равнодушно: Проходи.
Мы
говорить не будем о любви...
Спасибо,
не буду больше вас мучить своими стихами.
(Смех в зале.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Сегодня - дебют Маргариты Яньшиной в ЦДЛе!
...Дальше
у нас что? Дальше у нас кто выступает?
Здесь
у нас выступал певец и композитор... А сейчас мы, может быть, предоставим слово
художнику? Здесь у нас сидит художник Джавид... Джавид Агамирзаев! Это друг
Валерия Золотухина. Когда Золотухин выступает на вечерах, он говорит: у меня в
жизни было два лучших друга – Высоцкий и Джавид! (Гул изумления в зале: о-о-о-о!)
(Нина Краснова берёт
со стола свою розовую книгу «Четыре стены» и показывает её всему залу.)
...Джавид
нарисовал мой портрет. (Гул изумления в
зале: а-а-а-а!) Вот на обложке этой моей книги – мой портрет... Это -
работа художника Джавида...
Людмила
САЛТЫКОВА:
-
Нина, скажи, где вышла эта твоя книга...
Нина
КРАСНОВА:
-
В Рязани! Книга эта, которая называется «Четыре стены», вышла, между прочим, в
Рязани, в издательстве Алексея Бандорина и Людмилы Салтыковой «Старт». (Я в своём творчестве уже ближе к своему
финишу, чем к своему старту, а книга
«Четыре стены» вышла у меня в издательстве «Старт». – Н. К.)
Здесь,
в зале сидит Алексей Бандорин, поэт из Рязани, директор издательства «Старт»...
Лёша, ты сейчас выступишь или потом?
Алексей
БАНДОРИН:
-
Рязанцы – потом выступят.
Нина
КРАСНОВА:
-
«Четыре стены» - это моя первая книга, которую я за всю свою жизнь смогла
издать в Рязани, в моём родном городе. До этого все книги выходили у меня
только в Москве. Причём «Четыре стены» - это самая толстая из всех моих книг (444
страницы, со стихами в подбор.).
И
она - с портретом Джавида на обложке, то есть с моим портретом работы Джавида.
...Джавид нарисовал не просто меня, он нарисовал мои «тонкие энергии»...
Джавид,
скажи, пожалуйста, два слова об этом... Скажи что-нибудь...
Джавид
АГАМИРЗАЕВ:
-
Я не ожидал, что мне придётся выступать...
(Пока Джавид идёт к
микрофону, Нина Краснова рассказывает зрителям о Джавиде.)
Джавид
очень любит античную литературу. Когда он меня рисовал в своей мастерской, то
очень много я от него наслушалась об античных философах, больше, чем в
Литературном институте на лекциях по античной литературе. Джавид любит
Аристотеля, Платона, Сенеку... кого ещё, Джавид?..
Джавид
АГАМИРЗАЕВ:
-
...Диогена.
Нина
КРАСНОВА:
-
Диогена он любит больше всех. Он сам по своему образу жизни – Диоген. Он –
человек, который не любит тусоваться... Он любит сидеть в своей мастерской, как
Диоген в бочке, и работать в полном одиночестве, пребывать в своём творческом
мире. Мастерская у Джавида маленькая и, кстати сказать, похожа на бочку... Она
у него такая вот – вытянутая (Нина
Краснова показывает руками форму бочки.) ...И в этой бочке он и живет и
спит на досках, как Рахметов Чернышевского из романа «Что делать». (Смех в зале.) Джавид спит на досках,
как Рахметов, только что не на гвоздях. (Смех
в зале.) Джавид – большой труженик и исключительный, выдающийся, великий
художник нашего времени. Народный художник Дагестана, лауреат Государственной
премии, который живёт в Москве.
Джавид!
Джавид
АГАМИРЗАЕВ:
-
Я очень признателен Нине Красновой за то, что она пригласила меня на этот
чудесный вечер.
...Я
вообще очень люблю, обожаю поэтов, писателей. И вот мне посчастливилось
познакомиться с Ниной Красновой в Театре на Таганке. И вот мне захотелось
написать её портрет.
Но,
честно говоря, потом я как-то струсил... Потому что, когда я познакомился с
Ниной, я сначала хотел написать её стилизованный портрет, в русском народном
духе... в виде Матрёшки...
А
когда она приехала ко мне в мастерскую и стала позировать мне, и мы стали
разговаривать с ней, она оказалась фигурой намного более сложной, чем я
представлял себе это раньше... И я прочитал её книгу, её стихи и прозу, и всё
это помогло мне войти в её внутренний мир, который оказался намного более богатым,
чем я себе это представлял.
И
я сделал несколько сеансов и написал портрет Нины Красновой. И я признателен
Нине за то, что она согласилась позировать мне, не пожалела своего времени. Она
- идеальная модель для художника... (Смех
в зале.) И она очень хорошо позирует. И если пришла на сеанс, то никуда не
спешит, не торопится и не торопит художника, сидит и позирует столько времени,
сколько надо.
(Смех в зале.)
И
она такая... очень добрая к людям. И поэтому получился такой чудесный портрет.
И главное – он и ей самой очень понравился. Обычно художники боятся
демонстрировать свои картины, свой мир... боятся, что всё это кому-то не
понравится. Но портрет Нины я никому не боюсь показывать. Он всем нравится. И я
даже поместил его в свой альбом, который хочу показать вам. (Джавид открывает свой альбом на странице с
портретом Нины Красновой и показывает его всему залу.)
У
каждого художника свой творческий почерк. И у меня свой почерк. Я не пишу
смешанными красками, не смешиваю краски. Я люблю чистые цвета: чтобы красный
цвет был красным, зелёный – зелёным, жёлтый – жёлтым, чтобы каждый цвет был
отдельным. И я не старался написать реалистический портрет Нины Красновой, но в
то же время старался показать её образ, образ поэтессы с добрым сердцем, с богатым
внутренним миром, с тонкими энергиями.
...Когда
я узнал, что Нина выпустила альманах «Эолова арфа», я был потрясён этим... тем,
что она смогла, да притом за такое короткое время, всего за несколько месяцев,
собрать, составить и издать чудесный альманах, что она умеет не только писать
стихи и прозу, но ещё и вот это умеет. Я поздравляю с альманахом всех вас, и
поздравляю и Нину, конечно, в первую очередь... Я думаю, что ещё один портрет
Нины – за мной... и даже ещё не один...
(Я хочу написать серию портретов Нины - «Ниниану»...)
Так
что я вас поздравляю... И хочу сказать, что я очень благодарен Нине. Нина!
Спасибо тебе большое!
(Аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо тебе, Джавид!
Джавид
- очень своеобразный и разнообразный художник. Он работает в разных манерах, но
при этом у него – совершенно свой стиль в живописи. О чём вы можете судить по
портрету «Поэтесса Нина Краснова», который он написал и который вы видите на
моей книге «Четыре стены».
К
тому же Джавид пишет прекрасную прозу... Он написал повесть «Карамельки»,
которая говорит о том, что если человек талантлив, то он талантлив во всём.
Джавид прожил сложнейшую, тяжелейшую жизнь... И вышел из неё победителем... И
не сломался и не спился и не испортился... И ничто грязное к нему не пристало.
Он - такая чистая натура, и у него душа чистая... И он написал повесть о своём
детстве и о своей юности... И я хочу напечатать её в следующем номере альманаха
«Эолова арфа». Потому что она очень интересна, и люди должны читать её... У
Джавида его проза так же импрессионистична, как и его живопись.
Очень
хорошо, что Джавид пришёл сюда, на вечер «Эоловой арфы». Валерий Золотухин не
смог прийти, его сейчас нет в Москве. Но вот зато пришёл его личный
представитель, его друг... У нас сегодня вместо некоторых авторов альманаха
пришли сюда их личные представители... (Смех
в зале.)
...Теперь
у нас дальше по программе идет что, то есть кто?..
Игорь
Гамазин. Он сидит скромно в первом ряду, на видном месте. (Смех в зале.) Игорь,
скажешь нам два слова?
В
альманахе «Эолова арфа» напечатан очень трогательный его рассказ – «Тварь
словесная». Про собачку. Игорь Гамазин в этом рассказе очень хорошо передал
психологию собачки... таким... сленговым и кое-где почти ненормативным языком,
но, так сказать, в рамках нормы, в пределах нормы. Собачка у него получилась
очень эмоциональная, очень живая... И это не художественная копия Каштанки
Чехова, а совсем другая собачка, собачка Игоря Гамазина...
Игорь
Гамазин – не только очень перспективный автор, но он ещё и фотограф-любитель,
он запечатлевает на свой фотоаппарат и на видеокамеру литературные вечера... в
том числе и этот наш вечер...
Слово
– Игорю Гамазину!
Игорь
ГАМАЗИН:
-
Я - так называемый начинающий автор... Так что говорить особо не буду.
Я
просто пожелаю долгих лет альманаху и скажу большое спасибо Нине Красновой за
то, что она согласилась напечатать в своём альманахе мою скромную миниатюру.
(Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Здесь же, в альманахе «Эолова арфа», напечатана повесть художницы Надежды
Мухиной «Проникновение». Надежда Мухина не смогла прийти сегодня на вечер
альманаха. Она сломала ногу... У нас авторы такие... кто руку сломал, кто
ногу... (Смех в зале.) Надя посвятила
свою повесть своему мужу Герману, который умер 4 года назад, и выразила свою
любовь к нему через эту повесть. У Нади очень образная, очень такая...
живописная проза... очень такая вся... удивительная, необычная... Надя -
дебютант в литературе, она раньше никогда не писала прозу, но беда заставила её
взяться за перо. Как говорится, ей помогло её несчастье...
...Дальше
в альманахе идёт Борис Васильев-Пальм со своей поэмой «Глядя в сторону России
из Крыма». Борис Васильев-Пальм - художник и поэт из Керчи. Он - потомок
дворянина-петрашевца по фамилии Пальм, который когда-то вместе с Достоевским
стоял на эшафоте и ждал своей смертной казни...
Борис Васильев-Пальм переживает о том, что после распада Советского
Союза Крым, как и Украина, в которую он входит, стал для России заграницей, и
таким образом Борис Васильев-Пальм, гражданин России, который живёт в Крыму,
оказался за границей, никуда не уезжая из России, как и Борис Чичибабин... И
вот по этому поводу Борис Васильев-Пальм переживает очень сильно и об этом
написал целую поэму.
Кстати
сказать, он тоже когда-то, в 1996 году, нарисовал меня, когда я забежала в редакцию журнала «Юность», а он
как раз тоже приехал туда и сидел там с Натаном Злотниковым и Николаем
Новиковым, и они сказали ему: «Нарисуй Нину Краснову...» И он нарисовал
цветными карандашами мой портрет, который я потом вставила в книгу своих
авторских частушек «Залёточка». Весёлый такой портрет, где я сижу в мантии
Принцессы поэзии «Московского комсомольца».
...Дальше
в альманахе идут мои мемуары об Александре Щуплове, поэте моего поколения,
которое называют «потерянным»... Они не только о Щуплове, а вообще о
литературном поколении поэтов семидесятников-восьмидесятников, с которыми я
вместе входила в литературу в 70 – 80-е годы, и об атмосфере тех лет, и о тех
моих товарищах по перу, которые помогали мне и поддерживали меня на моём
литературном пути и в числе которых был и Александр Щуплов... Свои мемуары о
нём я здесь, естественно, читать не буду.
(Смех в зале.) Вы сами
прочитаете их.
Кстати
сказать, Лола Звонарева - председатель комиссии по наследию Александра Щуплова.
А я – член этой комиссии и собираю материалы для коллективной книги о нем. Мы
обе собираем эти материалы, и уже много чего собрали. Саша Лолу очень любил. И
несколько лет назад мы с Лолой и с Сашей и с группой поэтов, прозаиков, критиков
ездили в Польшу, на литературную конференцию, а теперь его не стало... как и
некоторых других поэтов семидесятников-восьмидесятников...
...Сейчас
перед вами выступит Сергей Каратов... Серёж, где ты там? Ты не ушёл?
Сергей
КАРАТОВ:
-
Здесь я!
Нина
КРАСНОВА:
-
Сергей Каратов – поэт и прозаик в одном лице. У него такая замечательная проза
поэта, лирическая... И стихи у него замечательные... И такие рифмы, которым
позавидуют все наши авангардисты... У Сергея Каратова есть книга стихов «За
дам-с». Её всю растащили на цитаты... Эта книга - своеобразное практическое
пособие по искусству писания стихов.
Сергей
Каратов - мой однокурсник. Мы с ним вместе учились в Литературном институте,
занимались в семинаре Евгения Ароновича Долматовского. Получается, что в
альманахе «Эолова арфа» и на вечере альманаха собрались - «в основном» -
«семинаристы» из семинара Долматовского – долматовковцы... долматовцы... (Смех в зале.) Кирилл Ковальджи, Сергей
Каратов... Нина Краснова...
Сергей
КАРАТОВ:
-
Долматинцы...
(Смех в зале.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Долматинцы собрались в альманахе и на вечере альманаха.
В
«Эоловой арфе» напечатано эссе Сергея Каратова о провинциальном писателе
Лаптеве, который жил в родном городе Сергея Каратова Миассе и работал в газете
и вёл литературное объединение. Конечно, здесь из всех присутствующих вряд ли
кто-то знает этого Лаптева. Но ценность эссе Сергея Каратова в том и состоит,
что Сергей написал там не о каком-то раскрученном и «повсеместно оэкраненном»
писателе, из тех, которых все знают, а о своём литературном учителе, которого
почти никто не знает.
Боков
когда-то смеялся над одним литературоведом, который написал о Гоголе труд в
тысячу страниц, и не сказал там о Гоголе ничего нового, ничего своего, а
сказал, повторил только то, что говорили до него и все другие литературоведы:
что Гоголь был великий писатель. Ну что писать о тех, о ком все знают и о ком
все пишут, и доказывать на тысячах страницах то, чего уже не нужно доказывать,
потому что это уже доказали за тебя другие?
А
вот написать о своем литературном учителе, о писателе, которого мало кто знает,
но который оказал большое влияние на твою поэзию и на поэзию окружающих тебя
поэтов... это дорогого стоит. Сергей пишет о том, как среда, семейный быт,
рутинная работа в газете, вся эта подёнщина засасывает творческого человека, не
даёт ему подняться и вырваться из этого болота, в котором он увяз по уши...
Сергей пишет, как Лаптев стремился и не смог вырваться в Москву... как он пил,
гулял, изменял своей жене... и не смог реализовать себя в литературе
полностью... В этом – драма и трагедия творческого человека. Но всё же он
остался в истории своего города и главное - остался в эссе Сергея Каратова и
теперь вместе с ним попадет в вечность.
Так...
а теперь выступает Сергей Каратов!
Сергей
КАРАТОВ:
-
Дело в том, что Лаптев когда-то закончил Литературный институт имени Горького.
И, как я недавно узнал по случаю 75-летия Литинститута, он учился с Александром
Эбаноидзе, с Борисом Ряховским... ну и так далее. Много интересных имён было, с которыми он
учился.
И,
конечно мне было приятно, что Нина,
работая над альманахом «Эолова арфа», взяла туда мой материал о Лаптеве,
материал, который мне сложно было пробить куда-то в печать... Мало написать
что-то... надо ещё пробить это в печать, а это очень сложно. И вот этот
материал я никак никуда не мог пробить.
Я
пишу и по возможности публикую свои вещи в «Независимой газете», еще где-то... в «Литературной России», в
«Литературной газете»... но я так пишу... стараюсь писать о поэтах, которых я
знаю... Но они не входят в какие-то раскрученные обоймы... И поэтому очень
сложно бывает опубликовать в газетах или журналах какие-то статьи или эссе о
них. Здесь, в этом зале, наверное, далеко не все из присутствующих в курсе того,
как это всё происходит. И я сейчас прочту одно стихотворение... оно отчасти как
бы отражает ту тенденцию, которая
господствует у нас в литературе, когда мощные такие литературные кланы
отторгают всё, что ты пишешь, всё, что не входит в их планы. Вот так.
Я
прочту одно стихотворение... то есть не одно, а несколько. Поскольку я очень
редко выступаю в ЦДЛе, и вообще редко выступаю. И уже не помню, когда последний
раз выступал здесь. И благодаря Нине опять оказался в этом зале.
(Сергей Каратов
читает свои стихи «Герой» («На Парнас я не взбирался в связке...»), «На
праздничную к небе кононаду // Лечу к тебе, как бабочка в Канаду...», «Золушка»
.)
...На
Парнас я не взбирался в связке;
К
жизни обретая интерес,
Всюду,
как герой народной сказки,
Шёл
один, с копьем наперевес...
И
т. д.
(Аплодисменты.)
На
праздничную в небе кононаду
Лечу
к тебе, как бабочка в Канаду....
И
ласточки сидят на проводах...
Запах
сандала, словно в буддийском храме...
(Аплодисменты.)
ЗОЛУШКА
Я
на балу далёком, дивном, школьном
С
ней танцевал изящно и легко
И
всё потом ходил путём окольным,
Боясь
шепнуть два слова на ушко.
Люблю
тебя – несложно, по-немецки,
«Ich libe Dich»
- луну смущал во тьме.
Там
после бала подал мне дворецкий
Надежду,
не завещанную мне.
И
лишь на первый взгляд она простая.
Её
воспели флейта и смычок.
Она
сбежит, в моей душе оставив
Поэзии
хрустальный башмачок.
Спасибо
за внимание.
(Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Сергей, спасибо, пиши дальше, в таком же духе.
...У
тебя в стихотворении про Золушку упоминается дворецкий. А в Рязани есть поэт с
такой фамилией - Сергей Дворецкий, он
здесь тоже напечатан в альманахе «Эолова арфа».
...Сейчас
у нас выступит Виктор Кузнецов-Казанский. Он выступать, говорить не любит, а
любит писать и пишет очень интересные рассказы, статьи... И печатается во
многих журналах и газетах. В «Независимой газете», в «Информпространстве», в
альманахе «Московский Парнас», в журнале «Новое время», и в «Нашей улице»...
Виктор
КУЗНЕЦОВ-КАЗАНСКИЙ (подсказывает Нине Красновой):
-
...И даже в «Знамени»...
Нина
КРАСНОВА:
-
И даже в «Знамени»...
...Он
стал известен своим замечательным эссе о писателях, которые были врачами, вышли
из врачей, начиная с Чехова, Вересаева... вернее начиная с античных
писателей... Это огромнейшее исследование, в котором он собрал всех
писателей-врачей с древнейших времен до наших дней...
В
альманахе «Эолова арфа» Вы сможете прочитать его новые рассказы.
Вот
смотрите, как начинается его рассказ «По России с сумой»:
«...в
1962 году, выбивая жилплощадь для своего талантливого ученика, П. Л. Капица
писал Н. С. Хрущеву: «Лет через 10 – 15 жилищный кризис пройдет, и тогда вся
эта ситуация будет казаться нам нелепой...» (Смех
в зале.) Патриарх отечественной науки, как мы знаем, просчитался: жилищная
проблема жива у нас и поныне...» Она не только жива, но стала еще больше и еще
больнее. Как говорил Булгаков, квартирный вопрос всех испортил. Виктор
Кузнецов-Казанский в своём рассказе приглашает и ведёт нас всех в старинный
особняк, который до сих пор заселен, как муравейник... И этот муравейник у нас
не один. Странно, что в нашей такой большой стране людям негде жить... В
маленьких и тесных европейских странах всем есть где жить, и люди живут в
просторных домах и квартирах, и никакого квартирного вопроса там не существует,
а в нашей «широкой... стране» люди живут в стесненных условиях, в страшной
тесноте, и многие не имеют своего угла, своей комнаты, своих четырех стен,
своего эмоционального пространства... И нигде в мире нет таких дорогих цен на
квартиры, как у нас... в стране, где столько строительных материалов и столько
свободных территорий.
В
«Эоловой арфе» я напечатала также рассказ Виктора Кузнецова-Казанского «Большие
люди». Кого он называет большими людьми? Геологов из стратиграфического отряда,
которые ходят по тайге в сапогах 45-го размера, как дяди Степы, и ищут полезные
ископаемые – уголь, нефть, золото... Старый оленевод, эвен, спросил у них: « -
Спирт есть?» - Они ответили: «Нету. Мы не пьем. Спирт – это... лишний груз...»
Они ходят по тайге, с лошадьми, и носят с собой образцы каменных пород,
продукты, спальные мешки, палатки, печку-«буржуйку», и, когда у них образуется
много лишнего груза и они думают, от какого груза им избавиться, чтобы не
таскать его с собой, они выкидывают спирт, бутылки со спиртом, не выпивают его,
а выкидывают, это для них лишний груз. А кто-то, наверное, что-то другое выкинул бы, а спирт оставил бы,
или просто выпил бы, и всё, чтобы не таскать его с собой (смех в зале).
Рассказ
этот насыщен таежным колоритом, экзотическими топонимами, названиями разных
местностей, поселков, долин, рек, здесь и предгорья Верхоянья, и поселки
Батагай, Хандыга, и река Томпо, и река Менкюль, и долина Алдан, и грейдерная
дорога, которую после войны строили «зеки», на своих костях, но не
достроили...
...О
Викторе Кузнецове-Казанском я хочу сказать, что он – не только замечательный
автор, но и очень хороший человек. Он помогает «Эоловой арфе», чем только
может. И вообще он - альтруист по натуре, любит делать людям добрые дела,
просто так, бескорыстно, а не только сидеть и работать на самого себя.
Виктор
КУЗНЕЦОВ-КАЗАНСКИЙ:
-
Ниночка так подробно обо мне сказала, пусть не все точно и пусть все не совсем
так, но мне к этому добавить нечего.
Мне
у Ниночки нравится все, что она пишет. И, кстати, очень нравится одно
стихотворение – «Я попала в стан обманных русских...»
(Виктор
Кузнецов-Казанский читает наизусть стихотворение Нины Красновой «Я попала в
стан обманных русских, // Будто провалилась я в тартар. // Я не вижу русских среди русских, // Вижу смесь монголов и татар... // Все они
«ненаших» презирают, // Стакáнами водку пьют до дна, //
Русских в бой последний призывают, // Ну
а русских – только я одна...»)
Нина
Краснова - вот настоящая русская женщина, на 100 процентов! И она останется
лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи!
Нина
КРАСНОВА:
-
Все теперь будут думать здесь про меня: Нина Краснова специально подговорила
Виктора Кузнецова-Казанского, чтобы он вышел к микрофону и сделал ей рекламу.
(Смех в зале!
Аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо, Виктор! Виктор Кузнецов-Казанский.
Дальше
кто там у нас идет по программе? А дальше у нас идет Эдуард Клыгуль. Мы
мало-помалу движемся с вами к финалу... Как в спектакле на Таганке «Маркиз де
Сад»: «Мало-помалу мы приближаемся с вами к финалу»... Петр (Кобликов)! Как там
точно – процитируй...
Петр
КОБЛИКОВ:
-
«Сквозь сумятицу времени мало-помалу // Мы приближаемся с вами к финалу».
Нина
КРАСНОВА:
-
К финалу, мы сейчас приближаемся к финалу... У нас здесь сидит в зале, во
втором ряду Татьяна Клыгуль...
ГОЛОСА
из второго ряда:
-
Воронина!
Нина
КРАСНОВА:
-
Как – Воронина? Для меня она – Татьяна Клыгуль, жена Эдуарда Клыгуля, вдова, урожденная Воронина. Она у нас – ученый
со степенями. А Эдуард Клыгуль – замечательный писатель. Он ушел от нас в
сентябре 2008 года. И вот в «Эоловой арфе» напечатана некрологическая статья о
нем за подписями его друзей... Там есть подписи Виктора Кузнецова-Казанского,
Сергея Каратова, Ваграма Кеворкова, Анатолия Шамардина, которые выступали здесь
перед вами. Это всё – авторы журнала «Наша улица». И подпись главного редактора
Юрия Кувалдина там есть, и художника Александра Трифонова, и, естественно,
моя...
И
здесь напечатаны два последних рассказа Эдуарда Клыгуля. Они до того
трогательные. Один из них называется «Костюм отца». Это рассказ о том, как
герой рассказа по фамилии Плотников когда-то мечтал купить своему отцу костюм.
Но был такой бедный, что не мог собрать денег на это. А потом отец умер, и сын
так и не купил ему костюм. И вот как кончается рассказ:
«Сейчас
Плотников уже сам в возрасте отца. И смог бы купить ему новый костюм. Их много
появилось в продаже. И деньги пенсионные у него есть. Отца уже нет».
Очень
трогательная у Эдуарда Клыгуля проза. И главное – она написана хорошо. Эдуард
Клыгуль – по образованию технарь. Но в нем сидит и физик, и лирик. И у него в
прозе получается совершенно удивительное сочетание научно-технократической,
специфической лексики и лиризма, совершенно удивительный такой сплав... В «Эоловой арфе» идет и еще один рассказ
Эдуарда Клыгуля – «Фамильная ценность», который тоже очень грустно
заканчивается. У героя умерла жена, и он, выброшенный новым временем из своей
научной среды, уволенный из НИИ по сокращению штатов, уходит на пенсионные
хлеба и живет теперь только тем, что все время вспоминает свою с женой семейную
жизнь... И, чтобы отвлечься от этого и от тоски по жене, решает развеяться и
съездить в Турцию, в Анталию... и сдает в комиссионку фамильную ценность –
брошь своей жены, и покупает билет в Анталию... Рассказ заканчивается тем, что
герой умирает в самолете...
То
есть Эдуард Клыгуль много думал о жизни и смерти, и, если судить по его
рассказам, у него были предчувствия того, что его собственная жизнь и его
литературный путь заканчивается...
Мы
все любим Эдуарда Клыгуля и будем и дальше его печатать его... У него остались
в столе и в компьютере рассказы... В последнее время, в последние месяцы своей
жизни он работал над сценариями большого
телесериала, написал сценарии к восьми сериям, но не успел дописать всё...
Может быть, этот телесериал выйдет. Тогда мы увидим его...
Танечка,
может быть, ты что-то скажешь об Эдуарде? Два слова? (Татьяна улыбается грустно и качает головой отрицательно: мол, я не
буду говорить о нем, не могу.)
Татьяне трудно говорить. Она потеряла самого дорогого человека, а не просто
писателя. У нее в душе рана больная, незаживающая. Татьяна пришла на вечер альманаха со своей
группой моральной поддержки, здесь сидит сестра Татьяны Ольга, двоюродная
сестра Эдуарда Татьяна, здесь сидят их родные и близкие, целый отряд Клыгулей,
так сказать. Я обобщаю их всех фамилией Эдуарда Клыгуля. И, между прочим, они
все любят Эдуарда Клыгуля не только как родного человека, но и как писателя, и
все они читают его книги, его прозу, и журналы и альманахи, в которых он
печатается. (Нина Краснова обращается к
Клыгулям.) Спасибо, что вы пришли сюда. Я думаю, что Эдуард доволен. Я думаю, он сейчас слышит нас (все утвердительно кивают головами и улыбаются),
я думаю, он знает, что мы говорим о нем,
и главное, что мы его печатаем, печатаем и читаем его прозу и таким
образом продлеваем его жизнь. Потому что у настоящего писателя настоящего жизнь
начинается только после смерти, к сожалению. Но и к радости и к утешению –
тоже.
Нина
КРАСНОВА:
-
...А теперь у нас из авторов «Эоловой арфы» остались в программе одни рязанцы.
Может быть, мы попросим Михаила Крылова спеть нам хотя бы еще одну песню? А за
ним уже на сцену пойдет вся рязанская дружина, весь засадный полк?
Михаил
КРЫЛОВ:
-
К сожалению, из всех моих недостатков мои песни это не самый большой мой
недостаток...
(Смех в зале.)
(Михаил Крылов поет
самую любимую из всех его песен песню Нины Красновой «Я смотрю на Русь. Что с
ней станется?». Бурные аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
Ну вот, это уже наша рязанская дружина пошла... Михаил Крылов спел нам свои
песню на свои стихи. А сейчас мы начнем выпускать на сцену других наших
рязанских гостей? С кого мы начнем?
Может
быть, мы начнем с Алексея Бандорина? Он не только поэт и не только издатель,
как я уже говорила, но и глава Рязанского отделения Союза профессиональных
писателей. И он помог мне собрать для «Эоловой арфы» стихи и прозу рязанских
авторов, очень много сил и труда положил на это. Людмила Салтыкова смотрит на
меня с укором... Потому что не только Леша Бандорин помогал мне, но и она
вместе с ним. Спасибо, Люда! И спасибо,
Леша!
У
меня в моей книге «Четыре стены» есть стихотворение, посвященное Алексею
Бандорину. (Нина Краснова обращается к
Алексею Бандорину.) Мне прочитать его или не надо?
Алексей
БАНДОРИН:
-
Прочитай! Че ты!
Нина
КРАСНОВА:
-
Потом или прямо сейчас?
Алексей
БАНДОРИН:
-
Прямо сейчас!
Нина
КРАСНОВА:
-
Алексей Бандорин издал мне мою книгу «Четыре стены», вот эту (Нина Краснова опять показывает всем книгу «Четыре стены»). И я прочитаю
из неё свое стихотворение, посвященное ему, которое есть в этой книге.
(Нина Краснова читает
свое стихотворение «Леша из Рязани».)
Нина
Краснова
ЛЕША
ИЗ РЯЗАНИ
В
Москву приплыл Бандорин Леша спозаранку,
Все
обошел литературные места.
И
там случайно поэтессу спас, рязанку. -
Она
уже хотела броситься с моста.
Ее
надул в Москве один московский фраер,
Святую
дурочку словами обольщал,
Но
оказался этот фраер просто враер:
Ей
книгу не издал, а обещал.
Бандорин
Леша снял рязанку с парапета,
Сказал
рязанке: «Что такое? Was ist das?»
Да
успокойтесь, да забудьте вы про это.
Зато
Бандорин Леша вас издаст!
(Смех, оживление в
зале, аплодисменты.)
Вот
это и есть тот самый Бандорин Леша, герой моего стихотворения!
(Смех. Аплодисменты!)
Алексей
БАНДОРИН:
-
...И самое главное - мы с Ниной Красновой из одного города. Но она меня старше
на 1 день... Мы мартовские коты и кошки... Нинка – поэт! Мы с Людкой... Людмилой
Салтыковой приехали как-то в Москву, на вечер в библиотеке Вересаева, и Нина
там оказалась... Мы в это время как раз книжку Лоле Звонаревой издавали в
Рязани. А Нина сказала нам: «У меня за всю мою жизнь ни одной книги в Рязани не
вышло...» И мы с Людмилой издали Нине книгу «Четыре стены». Нин, ну правда, я
говорю?
Нина
КРАСНОВА:
-
Правда.
Алексей
БАНДОРИН:
-
Ну во-о-от.
Еще
классик у нас в Рязани есть - Женя Маркин, но он умер тридцать лет назад. В
«Эоловой арфе» есть раздел его памяти.
Я
не хочу отнимать у вас ваше время. Я прочитаю свои стихи из «Эоловой арфы». У
меня недавно была напечатана еще большая подборка в «Московском вестнике», в
третьем номере за 2008 год. Там у меня напечатаны стихи в основном с
патриотическим, гражданским уклоном, ну а здесь, в «Эоловой арфе» - в основном
любовная лирика, хотя есть там вкрапления гражданских стихов.
Нина
КРАСНОВА:
-
Алексей Бандорин – лауреат разных премий, поэт со званиями и регалиями...
Алексей
БАНДОРИН:
-
Если когда я прочитаю вам свои стихи и вы послушаете их и скажете: «Нормально!»
- и скажете, что я поэт, и если скажете, что я хороший поэт, я буду счастлив...
А все эти там мои лауреатства, звания, регалии, которых у меня много, это всё –
неважно.
...Ну
вот стихотворение, оно коротенькое такое...
(Алексей Бандорин
читает стихотворение «Золото мое самоварное... // Улыбнись отчаянно, // Словно
отчаливая, // Случайно...» и «Пять минут до начала лета, // Пять минут до конца
весны...». Потом читает «Золотистых волос завитушки»...)
Ты
глаза широко открыла,
Ты
за шею меня обняла.
Как
давно это, милая, было!
А
всего-то лишь вечность прошла.
(Аплодисменты!
Алексей Бандорин продолжает читать стихи из «Эоловой арфы»)
Смутная,
смутная, нежная, нежная,
В
памяти реешь моей.
.................................................................
Ближе
бы надо, да ближе уж некуда
Надо
б окликнуть, да голоса нет...
.................................................................
Имя
твоё на устах моих крутится.
Имя
твоё, как взведенный курок.
(Аплодисменты!)
...Здесь,
в ЦДЛе, я уже достаточно много раз выступал, на вечерах Союза писателей России,
и на других вечерах, других союзов писателей. Я вообще давно забыл про все эти союзы,
про раскол писателей на лагеря, про распри и разборки между ними. Для меня не
существуют разделения писателей на союзы писателей. Я знаю только вот, что есть
Лола Звонарева, Нина Краснова... еще кое-кто... и есть литература, вот и всё. А
кто в каком Союзе писателей состоит, это меня совершенно не касается и не
волнует, это мне совершенно не важно. Кто-то, может быть, и ни в каком не
состоит.
(Например, рязанский
поэт Евгений Маркин, друг Солженицына, был исключен из Союза писателей СССР. Ну
и что? Он из-за этого перестал быть поэтом, что ли? А Виктор Петрович Астафьев
сам ушел из всех союзов, и из Союза писателей СССР и РСФСР, и из Союза
российских писателей. Ну и что? – Н. К.)
Щас
я прочитаю еще одно стихотворение, из «Эоловой арфы»
(Алексей Бандорин
читает стихотворение: «... В стране Забвения, в долине Миражей...»):
...Знак
бесконечности –
Упавшая
восьмерка,
Как
я упал,
Разбился
без тебя...
Вновь
занавес
Открыт
И
на манеже клоун.
Стремительный
разбег,
Сальто-мортале...
А
сейчас я хотел бы передать микрофон
молодой поэтессе Евгении Бандориной (дочери
Алексея Бандорина. – Н. К.), да простит меня моя любимая Людмила Федоровна (жена Алексея Бандорина).
...Евгения
Алексеевна Бандорина! Естественно, я пожелаю ей успеха! Похлопайте ей, она этого
заслуживает.
Евгения
БАНДОРИНА:
-
Я поздравляю вас с рождением замечательного альманаха, и, конечно же, всех, кто
к этому чуду причастен. И отца своего (Алексея Бандорина) – тоже.
Я
сейчас прочитаю одно маленькое стихотворение, которое напечатано в этом
альманахе, чему я очень рада. Оно
посвящено одному маленькому человечку,
моему крестнику, и, конечно, самой себе...
(Женя Бандорина
читает стихтворение про Ленечку с бабушкой: «Для маленького Ленечки / Вокруг
все удивительно... Вот птичка пролетела, / А вот ползет жучок!..»
..............................................
И
всё вокруг волшебное,
И
все вокруг красивое:
И
эта кошка серая,
И
это небо синее...
……………………………..
(Аплодисменты.)
Алексей
БАНДОРИН:
-
Прочитай еще стихотворение...
Евгения
БАНДОРИНА (читает стихотворение про
бабочку с крылышками):
-
Я очень благодарна вам за то, что вы напечатали мои стихи в «Эоловой арфе»... И
еще я очень благодарна Людмиле Федоровне (Салтыковой, жене Алексея Бандорина),
которая тоже очень много для меня сделала и делает, она очень замечательный
человек.
Людмила
САЛТЫКОВА:
-
Когда год назад Жене Бандориной вручали в этом зале приз «Эврика», здесь была
Римма Казакова...
Нина
КРАСНОВА:
-
Она тогда похвалила Женю за ее стихи, за ее лиризм... И я тогда хотела
сфотографировать с Риммой Казаковой нашу рязанскую группу: лауреатку «Эврики»
Женю Бандорину, ее отца Алексея Бандорина и Людмилу Салтыкову. Я сказала: «Леш,
Люд, Жень, давайте я сфотографирую вас с Риммой...» А Леша сказал: «Да ладно,
потом успеется...» И я тогда сфотографировала с Риммой одну только Женю. И вот
получилось, что ее я успела сфотографировать, а тебя, Леша, и тебя, Люда,
нет... Вот тебе и «успеется». Все надо делать вовремя и ничего не откладывать
на потом. А Женю я сфотографировала с Риммой Казаковой. (Нина Краснова показывает на Женю) Вот такие вот у нас в Рязани
девочки красивые и талантливые, такие рязаночки. Не все, конечно. Но вот Женя
Бандорина такая.
Людмила
САЛТЫКОВА:
-
Она в Москве живет. Замуж за москвича вышла.
Нина
КРАСНОВА:
-
Да, она и в Рязани и в Москве живет.
Людмила
САЛТЫКОВА:
-
Вы с ней в один день родились, 15 марта.
Нина
КРАСНОВА:
-
Да. Здесь сегодня одни Рыбы собрались, между прочим. Я – Рыба, родилась 15
марта. Женя Бандорина – тоже Рыба, родилась тоже 15 марта. Леша Бандорин – тоже
Рыба, родился 16 марта, он на один день младше меня. А Кирилл Ковальджи – тоже
Рыба, он родился 14 марта, он на один день младше меня, по европейскому
гороскопу. А Надежда Мухина – тоже Рыба... И Пётр Кобликов – тоже Рыба...
(Смех в зале.)
У
нас мало времени осталось до конца вечера. Поэтому давайте используем это время
максимально...
Людмила
САЛТЫКОВА:
-
Недавно Нина Краснова была у нас в Рязани, на презентации альманаха «Под небом
рязанским», в котором напечатаны ее стихи. Я вела этот вечер, поскольку я
являюсь составителем этого альманаха, и я тоже дала выступить Нине не в начале
вечера, в конце... А теперь вот и она дала мне выступить в конце. Так... Ну да
ладно. Это я так, к слову говорю. Я сейчас прочитаю свои стихи.
(Людмила Салтыкова
читает свои стихи: «Наваждение... Жизнь моя стекает в бездну...», «Тишина...
Над планетой молчит тишина... Над Рязанью, на Грозным застыла луна...», и
стихотворение о весне.)
...Скоро
весна... И поэтому я решила прочитать еще и стихотворение о весне, с интересной
звукописью... Весна еще не наступила, но скоро наступит. А теперь я прочитаю
детские стихи, поскольку я пишу не только взрослые стихи, но и детские. И я
думаю, что в «Эоловой арфе» будет раздельчик детских стихов, как в альманахе
«Под небом рязанским».
(Людмила Салтыкова
читает стихотворение «Кошка Брыська у Ванюшки // разбросала все игрушки...».
Аплодисменты.)
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо, Людмила.
Так,
дальше у нас кто идет? Лидия Терехова... то есть Терехина... А почему я сказала
– Терехова? Почему оговорилась? Потому что у нас есть артистка Терехова. А
Лидия Терехина – она тоже артистка. Она не только читает свои стихи, но и поет
их.
Лидия
ТЕРЕХИНА:
-
Для меня большое счастье - выступать в Доме литераторов города Москвы. Это какое-то очень большое счастье для меня.
Я автор поэтического сборника «Шепот любви» и сборника сказок для детей
«Розовая страна» и сборника прозы «Крыло Серафима».
А
сейчас я прочитаю вам одно из своих стихотворений, которое вошло в альманах
«Эолова арфа».
(Лидия Терехина
читает стихвоторение «Сердечный разговор»: «Ноет сердце в тоске, невозможно
уснуть... «У меня все нормально», - ему говорю, //Но в ответ четко слышу: «Не
ве-е-е-рю...». А потом – еще одно стихотворение с концовкой: «Для чего и почему
здесь живу я на земле?»
А
сейчас я спою вам акапельно свою песню на свои стихи. Эти стихи я написала по
заявке, по заказу одной моей приятельницы. Она сказала мне: «Я люблю человека,
и у нас с ним будет свидание. И я хочу, чтобы ты написала о нашем свидании
стихотворение». И вот я написала стихи и назвала их «Свидание». А потом у меня
появилась к ним музыка.
(Лидия Терехина поет свою
песню «Свидание», в которой есть такие трогательные строчки: «Солнце мне не светит, / Если нет тебя...». Аплодисменты!)
Лидия
ТЕРЕХИНА:
-
Я вам очень благодарна!
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо, Лида!
А
вообще спасибо всем авторам, которые не пришли на вечер. А то представляете,
как бы затянулся наш вечер? Мы бы и до 12-ти часов ночи не закончили его.
(Смех в зале.)
Так.
Теперь выступает Виктор Крючков, сильный и смелый рязанский поэт, который
сейчас прочитает вам свои стихи из альманаха «Эолова арфа», из книги в
альманахе. Член Союза российских писателей и Союза профессиональных
литераторов! Рязанский Гамлет поэзии!
Виктор
КРЮЧКОВ (читает свои стихи) :
-
«Доктор Живаго - // трагедия века, // прошлого века, // этого века. // Как
одиноко // в эпохах поэтам...// крест свой нести // и молиться Всевышнему... //
молча взойти // на подмостки театра // в новое завтра...». Стихи предваряются
эпиграфом: «Трагедия Гамлета есть трагедия познания... зла».
Потом
они читает стихи «Одиночество. // Двери закрыты. // Одиночество... творчество
рядом...» и «День изо дня из ночи в ночь... Я сам из этих плотских мук, я сам
душой с тобой раздетый».
(Аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо, Виктор!
Вот
теперь, кажется, все участники вечера выступили. А теперь мы попросим выступить
Ивайло Петрова, нашего дорогого гостя из Болгарии, сказать свое заключительное
слово. Ивайло Петров! Писатель, литературовед, издатель! Вот он... такой большой красавец, символ
Болгарии! А какая у него выдержка, какое
терпенье! Он сидел весь вечер и слушал нас...
(Смех в зале.)
Ивайло
ПЕТРОВ:
-
Я хочу два слова сказать... Я теперь представляю, что представляет собой
основательница альманаха Нина Краснова. Я Нину Краснову поздравляю! Потому что я понял, что Нина Краснова – это
наше всё!
(Смех зала.)
Я
хочу пожелать Нине немножко поднять художественный уровень альманаха... Когда
человек сам, один составляет альманах, он иногда может ошибаться в чем-то. Но,
как говорят, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я хочу пожелать
Нине, чтобы она создала свой редколлегию, в которую включила бы опытных людей,
чтобы они помогали ей делать более тщательный подбор текстов. Надо придумать
наилучший способ, чтобы альманах продолжал существовать. И надо помочь Нине.
Иначе... один человек - в поле воин, но и не воин. И неизвестно, что будет в
дальнейшем, если Нина будет работать одна. Я верю, что Нине ее тяжелый груз
будут помогать нести атланты и кариатиды. Я сегодня выступал по радио и уже
рекламировал там Ниночку с альманахом «Эолова арфа», говорил об этом альманахе
в радиопередаче, разбирал его. И высказал свое мнение о нем и сказал, что мне
как литературоведу не хватает там раздела критики. Желаю Нине и альманаху и
всем вам удачи!
И,
может быть, мы будем обмениваться авторами. Я сделаю все, чтобы в альманахе
«Эолова арфа» присутствовали болгарские авторы.
От
себя хочу еще сказать, добавить, что я очень люблю частушки Нины Красновой, она
недавно пела их в Булгаковском доме! Я хочу пожелать Нине не забрасывать
частушки!
Да
здравствует Нина Краснова! Гигант литературы, крылатый ангел! Нина Краснова –
это целый коллектив! Нина – все мы!
(Аплодисменты!)
Нина
КРАСНОВА:
-
Спасибо, Ивайло! Спасибо, другар!
...Теперь
мы уже заканчиваем наш вечер. Дежурная делает нам знаки, дает понять, что нам
пора выметаться, уходить отсюда. Мы уйдем с песней, с песнями!
Кто
сейчас будет петь? Михаил Крылов? Анатолий Шамардин?
(На сцену выходит
Михаил Крылов с гитарой.)
Михаил
КРЫЛОВ:
-
Не так часто депутаты поют на вечерах. Пользуясь случаем, я спою песню «Падай,
падай снег».
(Михаил Крылов поет
эту песню. Звучат аплодисменты, крики «Браво!». Он на «бис» поет еще одну песню
- «Свадебка заладилась». Звучат аплодисменты, крики «Браво!».)
(Сменяя Михаила
Крылова, на ковер выходит Анатолий Шамардин.)
Анатолий
ШАМАРДИН (обращается к гостям и
участникам вечера):
-
Что вам спеть?
(Все просят песню «Я
не пью и не курю». Анатолий Шамардин по заявке слушателей поет песню на стихи
Нины Красновой «Я не пью и не курю». Звучат аплодисменты, крики «Браво!»)
Нина
КРАСНОВА:
-
Ребята! Я совершила большую ошибку и сделала большой промах в программе вечера!
Здесь, в зале сидит поэт Сергей Телюк, коренной «истоковец», со своей женой,
художницей Ириной Телюк. Сергей много лет был членом редколлегии альманаха
«Истоки», правой рукой Галины Рой, принял на себя неподъемную ношу «Истоков» в
очень трудную для этого альманаха пору и посвятил «Истокам» очень много своих
сил...
Сереж,
иди сюда, к микрофону, выступи под занавес...
Когда
я говорила здесь об Андрее Вознесенском, я не сказала, что в «Эоловой арфе»
есть не только его стихи и не только мой репортаж о его вечере в театре
Фоменко, но и материал Сергея Телюка «Вознесенский переулок не переименовать»,
как-то проскочила мимо него... Это материал о том, как в 1998 году Андрей
Вознесенский обратился к властям через газету «Московский комсомолец» с идеей
назвать одну из улиц Москвы именем «всенародного Володи» Высоцкого. А Сергей
Телюк тогда же создал инициативную группу, которая хлопотала перед мэрией о
том, чтобы переименовать улицу Шверника,
где когда-то жил Высоцкий, в улицу Высоцкого. Я тоже входила в эту группу, и мы
в день смерти Высоцкого собирали на Ваганьковском кладбище и собрали несколько
листов с подписями людей в поддержку этой идеи и этой акции... В конце
концов... улицу Шверника... так и не переименовали в улицу Высоцкого, но
Вознесенский тогда написал и дал для «Истоков» стихи «Вознесенский переулок не
переименовать»... Сереж, расскажи об этом...
Сергей
Телюк весь вечер сидел в этом зале, слушал всех, кто выступал здесь, а сам не
выступил. Видите, какой он большой, но какой скромный...
Сергей
ТЕЛЮК:
-
Ниночка, ну, в принципе ты все уже сама сказала... и все всё уже
сказали...
Единственное,
что я могу, это поделиться своим впечатлением об этом вечере, которое у меня
сложилось, когда я сидел в зале и слушал всех, кто выступает. Оно у меня было
такое... точно такое же, как на первых вечерах альманаха «Истоки», когда там
была и Римма Федоровна Казакова... Впечатление, аналогичное тому впечатлению...
и ощущения, аналогичные тем ощущениям... И мне поэтому хотелось бы, чтобы
история с «Эоловой арфой» продолжалась и продолжалась и развивалась и не
заканчивалась и чтобы она не закончилась тем, чем закончилась история с
«Истоками»... (Бурные аплодисменты!)
Я
тебя поздравляю, Ниночка, с альманахом «Эолова арфа»!
Нина
КРАСНОВА:
-
А я поздравляю с ним тебя и всех, кто там есть, всех «эолоарфовцев»! Хорошо, что мы там все – вместе! И хорошо,
чтобы мы всегда были вместе! Спасибо всем! А закончим мы этот вечер песней...
Какой песней мы закончим его? (Нина
Краснова обращается к Анатолию Шамардину, который уже собирается убирать
микрофон)?..
Анатолий
ШАМАРДИН:
-
...итальянской...
Нина
КРАСНОВА:
-
И потом будем выпроваживать отсюда друг друга...
ГОЛОСА
из зала:
-
...в Рязань...
Нина
КРАСНОВА:
-
...в Рязань...
ГОЛОС
из зала:
-
...и в Кинешму...
(Анатолий Шамардин
поет итальянскую песню из своего репертуара «Гитара романа». Звучат
аплодисменты!)
ГОЛОС
из зала:
-
В мире есть такой один –
Анатолий
Шамардин!
Нина
КРАСНОВА:
-
На этом вечер «Эоловой арфы» мы заканчиваем! Первый, но не последний вечер! Но,
прежде чем разойтись, давайте сфотографируемся на память, для истории!
(Участники вечера фотографируются
около стола, на фоне сцены. Потом Нина Краснова раздает всем альманах «Эолова
арфа», вытаскивая его из бумажных упаковок, и складывает бумажные упаковки в
большие целлофановые мешки, чтобы не оставлять за собой в зале мусор после
праздника и чтобы соблюсти чистоту и порядок в ЦДЛе, в клубе писателей, в этой
святая святых.)
Стенограмму
подготовила
поэтесса
Нина КРАСНОВА,
главный
редактор альманаха «Эолова арфа»
12
– 14 мая, 20 – 21, 23 - 24 мая 2009 г.,
11
– 12 июля 2009 г.,
Москва
-
- - - - - - - - - - - - - - Новая страница - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Пресса
об «Эоловой арфе»
__________________________________________________________________
Пресса
об "Эоловой арфе"
“НЕЗАВИСИМАЯ
ГАЗЕТА”, Ex Libris, 12 февраля 2009 г., четверг
ПЯТЬ
КНИГ НЕДЕЛИ
Эолова
арфа: Литературный альманах. - М.: Издание Нины Красновой, 2009. - 448 с. ISBN
5-85676-122-7
Как
пишет в предисловии главный редактор Нина Краснова, название альманаха
"пришло из античной литературы и из баллады Василия Жуковского, где росло
дерево с Эоловой арфой, спрятанной в его ветвях, которая трепетала и звенела от
самого легкого дуновения… и символизировала… впечатлительную душу творческого
человека". В альманахе есть страница памяти Галины Рой, раздел
воспоминаний о Римме Казаковой, стихи Кирилла Ковальджи и его рассказы о
поездках за границу, мемуары Нины Красновой о поэте Александре Щуплове, новые
стихи Андрея Вознесенского. Среди авторов - и "старые" имена (Валерий
Дударев, Игорь Михайлов, Юрий Влодов, Лола Звонарева), и новые.
Стихиру
авторы
/ произведения / рецензии / поиск / кабинет / ваша страница / о сервере
сделать стартовой / добавить в закладки
Эолова
арфа
Сергей
Каратов: литературный дневник
Так
назван литературный альманах, который составила поэтесса Нина Краснова. Наряду
с многими интересными и даже культовыми именами современной литературы: Андрей
Вознесенский, Кирилл Ковальджи, Евгений Лесин, Татьяна Кузовлева, Евгений
Евтушенко, Равиль Бухараев, Алексей Бандорин, Валерий Золотухин и др. В сборник
попал и мой материал о Михаиле Лаптеве "Достоин песни и весны". Эссе
о творчестве писателя и моего учителя, до срока ушедшего от нас и оставившего
много прекрасных произведений в поэзии и прозе. Презентация состоялась в Доме
литераторов 9 февраля 2009 года. Мне было позволено ведущей - Ниной Красновой -
выступить, сказать об учителе и о судьбах других писателей, которых судьба не
баловала признанием; а заодно прочесть новые стихи.
©
Copyright: Сергей Каратов, 2009.
"ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА", 11 - 12 февраля 2009 г., № 6
Вечер
памяти Риммы Казаковой и презентация её последней книги "Пора" прошёл
и в Булгаковском доме-музее на Большой Садовой. Нина Краснова представила новый
литературный альманах "
Эолова арфа ", где есть раздел,
посвящённый Р. Казаковой.
Интернет.
Про Лито "НаШе" (дневник)
Визит
в "Юность"
21
апреля студийцы ЛИТО "НаШе" во главе со своим руководителем поэтом
Борисом Лукиным были приглашены в гости редколлегией журнала
"Юность". На встрече за чашкой чая с главным редактором, поэтом
Валерием Дударевым студийцы познакомились с поэтессой Ниной Красновой,
рассказавшей им о своём новом проекте - альманахе "Эолова арфа",
наследнике "Истоков".
В
завершении встречи "НаШи" пригласили "Юность" в гости к
нам, в библиотеку.
"НЕЗАВИСИМАЯ
ГАЗЕТА", Ex Libris, 14 мая 2009 г.
Репетиция
юбилея
Нина
Краснова в Рязани пела частушки и читала стихи про Есенина
2009-05-14
/ Виктор Малеев
В
Рязани в зале филиала областной библиотеки им. Горького (дом Салтыкова-Щедрина)
прошла презентация книги стихов, частушек и поэм Нины Красновой "Четыре
стены" и альманаха "Эолова арфа". Открыла вечер поэтесса Людмила
Салтыкова, она говорила о детстве виновницы торжества, о ее частушках, о том,
как Москва перетянула Краснову к себе из Рязани. Поэт и издатель Алексей
Бандорин обратился к альманаху "Эолова арфа", который выпускает
Краснова и в котором она напечатала стихи не только московских, но и рязанских
авторов, многие из которых пришли в "Щедринку" на вечер.
Далее
выступала сама Краснова: "У меня никогда в жизни не было своего
творческого вечера в Рязани. Этот - первый за всю мою жизнь... это - моя
репетиция перед юбилейным вечером, который я хотела бы провести здесь в 2010
году". Она рассказала о своих литературных учителях, старших товарищах,
которые поддерживали ее, о Владимире Солоухине, о Евгении Долматовском, об
Андрее Дементьеве, о Николае Старшинове, о Сергее Поликарпове, о Викторе
Бокове, о Викторе Астафьеве, об Андрее Вознесенском, о пародисте Александре
Иванове, о Кирилле Ковальджи, о Евгении Рейне, о Римме Казаковой, о Валерии
Золотухине и т.д. Исполняла свои частушки. Прочитала стихи, посвященные своей
маме, уроженке села Солотча, которое находится в рязанской Мещере, стихи о
старшей сестре, про Есенина: "Мне сестра читать Есенина/ Запрещала, не со
зла,/ Говорила: до Есенина/ Я еще не доросла./ Я брала его украдкою/ И -
действительно, мала -/ В сенцах пряталась за кадкою/ И читала, как могла,/ И
писала под Есенина,/ Стиль стараясь обрести,/ Понимая: до Есенина/ Мне еще
расти, расти..."
Газета
"СЛОВО" № 16 - 17, 8 - 21 мая 2009 года
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
"ЧЕТЫРЕХ СТЕН" И "ЭОЛОВОЙ АРФЫ" В РЯЗАНИ
В
2008 году у Нины Красновой, автора более десяти книг стихов и прозы, которые
вышли у нее в Москве, в "Советском писателе", в "Молодой гвардии",
в "Современнике", в РИФ "РОЙ", в "Книжном саде",
наконец-то вышла и первая за всю ее жизнь книга в Рязани, на родине поэтессы, в
издательстве Алексея Бандорина "Старт". Книга стихов, частушек и поэм
"Четыре стены" (444 страницы), которая по рейтингу НГ-Exlibris попала
в число "лучших пяти книг недели" и в число пятидесяти лучших книг
2008 года. А на днях в Рязани состоялась презентация этой книги в самой
престижной культурной точке Рязани - в филиале областной библиотеки им.
Горького, в отреставрированном доме Салтыкова-Щедрина, в "Щедринке",
в рамках клуба "Олимп", директором которого вот уже много лет
является Лариса Кукина и многие члены которого стали членами разных союзов
писателей. Заодно состоялась и презентация альманаха "Эолова арфа",
первый номер которого Нина Краснова, основательница и главный редактор этого
альманаха, выпустила в 2009 году и который опять же по рейтингу НГ-Ехlibris
попал в число "пяти лучших книг недели".
...Открыла
вечер редактор "Четырех стен" поэтесса Людмила Салтыкова, член Союза
писателей России и Союза профессиональных литераторов. Она сказала:
-
Я сделаю небольшой символический мостик от себя к Нине Красновой. Нина - наша
землячка, рязанка. В детстве я приезжала к своей бабушке на улицу Краснорядскую
и ходила в общежитие пединститута. А Нина жила недалеко оттуда, на площади
Ленина, на углу улицы Кольцова и Революции, в тесном полуподвальчике, в
атмосфере полуподвала, с мамой, братьями и сестрой. У Нины очень талантливая
семья. Мама сочиняла великолепные частушки. Сестра Татьяна была рязанская
поэтесса, которая, к сожалению, уже ушла из жизни. Нина - самая младшая в своей
семье. И все ее творчество пронизано рязанскими корнями и духом рязанской
земли. А после окончания Литературного института Нина все это преобразила своим
искусством и преподнесла нам в обновленных формах, в обогащенном виде. Этому
способствовало ее общение с известными поэтами, писателями, художниками,
артистами. После Литературного института она какое-то время жила в Рязани,
целых четырнадцать лет. Потом Москва все же перетянула ее к себе. Потому что
провинция... она, конечно, питает творчество поэта, но что поделаешь, если в
Москве, в этом центре мировой культуры, поэт может развиться и проявить себя
лучше. Но Нина не порывает со своей родиной. И в преддверии своего кругленького
юбилея она наконец-то выпустила у себя на родине, в Рязани, книгу стихов, поэм,
частушек "Четыре стены", толстенькую, с двумя портретами на обложках
- со своим фотопортретом и с портретом, который нарисовал дагестанский художник
Джавид, лауреат Государственной премии. Нина до этого выпустила в Москве много
книг, печаталась в разных наших центральных газетах и журналах, и в зарубежных.
И вот сегодня у нас здесь - презентация ее книги, которую она выпустила в
Рязани.
Прежде
чем предоставить слово Нине Красновой, Людмила Салтыкова предоставила слово
депутату Рязанской городской Думы, председателю комитета по культуре, спорту и
туризму Михаилу Крылову, поэту, барду и члену Союза писателей Москвы, поскольку
он человек очень занятый и спешил в свой комитет на заседание. Он вышел к
микрофону в цивильном костюме и в очень неофициальном красно-вишневом - с
черно-белыми косыми полосками - галстуке и сказал:
-
С Ниной Красновой мы познакомились через Римму Казакову, в Москве, в
Центральном доме литераторов, на одном из вечеров. И вот уже несколько лет
дружим. И не просто обмениваемся своими стихами, своим творчеством, но дружим
как люди, которые любят жизнь и имеют общие взгляды на жизнь и на какие-то
нематериальные ценности, которые нас объединяют. У Нины прекрасное чувство
юмора, оно нас с ней тоже объединяет. Я люблю юмор. Мое депутатство меня не
испортило, я вам это прямо говорю. Когда человек уходит во власть, он
становится серьезнее. Я ушел во власть и стал серьезнее, но чувство юмора не покинуло
меня и помогает мне во всем. Я сейчас, чтобы не говорить никаких речей, спою
для Нины и для всех, кто пришел сюда, свои веселые, мажорные песни, которые, я
думаю, настроят всех на веселый лад. У нас сейчас кризис, вы, наверное, слышали
об этом... (Смех в зале. Нина Краснова: "Где такое у кого-то какой-то
кризис...") Одна моя песня называется "Когда в кармане денег
нет", она в стиле блюза... И она про кризис. Я как-то пришел к себе домой,
стукнул себя по карману, а он не звенит... как у Рубцова, который писал:
"Стукну по карману - не звенит. Стукну по другому - не слыхать..." И
я взял и написал эту песню.
Потом
Михаил Крылов спел свою фольклорную песню, специально для Нины Красновой.
Затем
выступил издатель книги "Четыре стены" поэт Алексей Бандорин, член
Союза писателей России и председатель Союза профессиональных литераторов
(Рязанского отделения). Он похвалил Нину не только за ее творчество, но и за
альманах "Эолова Арфа", который она выпустила недавно и в котором напечатала
стихи не только московских, но и рязанских авторов, многие из которых пришли в
"Щедринку" на вечер Нины Красновой, Виктор Крючков, Сергей Дворецкий,
Лидия Терехина, и Алексей Бандорин, и Людмила Салтыкова т.д.
А
потом бразды вечера взяла в свои руки сама поэтесса Нина Краснова. Она сказала:
-
У меня никогда в жизни не было своего творческого вечера в Рязани. Этот -
первый за всю мою жизнь... это - моя репетиция перед юбилейным вечером, который
я хотела бы провести здесь в 2010 году.
Нина
рассказала присутствующим о своем пути в литературу, о главных этапах и
отрезках этого пути, о камнях и терниях, которыми он был усыпан, об огне, воде
и медных трубах, через которые ей пришлось пройти, о своих литературных
учителях, старших товарищах, которые поддерживали ее, о Владимире Солоухине, о
Евгении Долматовском, о Николае Старшинове, об Андрее Дементьеве, о Сергее
Поликарпове, о Викторе Бокове, о Викторе Астафьеве, об Андрее Вознесенском, о
Короле пародии Александре Иванове, о Евгении Рейне, о Кирилле Ковальджи, о Римме
Казаковой, о Валерии Золотухине и т. д. И проиллюстрировала все это своими
стихами из разных книг. Прочитала и свои стихи, посвященные своей маме,
уроженке села Солотча, которое находится в рязанской Мещёре, и своей сестре
Татьяне. И стихи "Мне сестра читать Есенина / Запрещала, не со
зла...", о своем первом любимом поэте Сергее Есенине, которого она читала
в детстве украдкою от своей старшей сестры, которая говорила ей, что она еще
мала читать его:
Мне
сестра читать Есенина
Запрещала,
не со зла,
Говорила:
до Есенина
Я
еще не доросла.
Я
брала его украдкою
И
- действительно - мала
В
сенцах пряталась за кадкою
И
читала, как могла,
И
писала под Есенина,
Стиль
стараясь обрести,
Понимая:
до Есенина
Мне
еще расти, расти...
И,
разумеется, Нина Краснова спела свои частушки:
В
индийском городе Мадрасе
Меня
катали на матрасе.
Как
увижу я матрас,
Вспоминаю
я Мадрас.
Презентация
книги Нины Красновой "Четыре стены" проходила на фоне витрины с
книгами Нины Красновой разных лет, и с журналами "Наша улица",
"Студенческий меридиан", "Юность" и с альманахом
"Эолова арфа" и с другими альманахами, и с газетами, в которых есть
публикации Нины Красновой, ее стихи, ее эссе, ее беседы... Нина Краснова
сделала краткий обзор этой витрины, краткий экскурс в историю своей литературной
жизни.
С
Ниной Красновой приехал их Москвы в Рязань и ее друг, певец и композитор
Анатолий Шамардин, солист оркестра Леонида Утесова, автор песен на стихи Нины
Красновой, которые он и спел для публики, какие - под гитару, а какие под
фонограммное музыкальное сопровождение, но не под "фанеру", а живьем.
Среди них были давно полюбившиеся рязанцам песни - плавная хороводная "Сон
под пятницу", веселая, убойная, ритмичная "Я не пью и не курю",
раёшниковая "Заявление красной девицы доброму молодцу", лиричная
"Селезень и уточка", романсы на стихи Нины Красновой "Если
хотите", "Сотворение мига", "Затворница" и т. д.,
разные "на вкус, на цвет", которые понравились всем без исключения
слушателям и всех сделали на этом вечере товарищами и "на вкус", и
"на цвет". Спел Анатолий и песню на стихи учителя Нины Красновой
Николая Старшинова "Лодочка", и любимые Ниной иностранные песни на
итальянском и греческом языках (а греческий для Анатолия - это язык его
матери).
Среди
поэтов, которые пришли на презентацию Нины Красновой, были и те ее собратья по
перу, с которыми она когда-то начинала свой путь в литературу и с которыми
вместе ходила в литобъединение опального рязанского поэта Евгения Маркина
"Рязанские родники", в 1971 году исключенного из Союза писателей СССР
за стихи, посвященные своему старшему товарищу Александру Солженицыну,
напечатанные в "Новом мире". Один из рязанских
"родниковцев", ныне член Союза писателей России, Евгений Артамонов
прочитал свои стихи из своей книги "Чужбина", посвященные Нине Красновой,
которую он ставит в один ряд с двумя самыми большими и самыми яркими звездами
нашей отечественной поэзии, "которым равных нет" и среди которых она
всегда будет для него "самою любимой" из всех:
Есть
три звезды. Они в одном ряду -
Ахматова,
Цветаева, Краснова.
Поэт
и прозаик из города Тума Рязанской области, из Мещёры, Сергей Дворецкий тоже
прочитал свои стихи, посвященные Нине Красновой, - автограф на своей новой
книге "Жили-были", подаренный ей автором. Судя по этим стихам, он
когда-то поклонялся одной звезде поэзии - Белле Ахмадулиной, и "вслух ее
читал" и - "в экстазе" - писал ее имя ножом на стволе берёзы, а
теперь поклоняется другой звезде, своей землячке Нине Красновой, в чем и
признается в своих стихах при всем честном народе:
Прошли
года, и ныне
Я
рад звезде другой,
Пишу
я в книге: "Нине..."
И
рядом - "...дорогой!"
Поэт
Александр Потапов, член Союза писателей России, который когда-то работал в
газете "Рязанский комсомолец" и печатал там стихи Нины Красновой и
свои отзывы о ее книгах, сказал:
-
Хотя Нина Краснова и уехала из Рязани в Москву и ушла из нашего рязанского
Союза писателей в альтернативный Союз российских писателей и в Союз писателей
Москвы, я не стал относиться к ней хуже, а отношусь к ней так же хорошо, как и
раньше.
Классик
современной рязанской литературы, автор многих книг прозы и книги "Олег
Рязанский" (которая стала бестселлером на историческую тему), член Союза
писателей России, директор издательства "Русское слово" Алексей
Хлуденёв, тоже сказал своё русское рязанское слово о Нине Красновой.
-
Нина Краснова вся идёт от рязанских корней, от рязанского фольклора. Но у нее в
ее творчестве есть и влияние авангардной, постмодернистской поэзии, что придает
ее стихам какую-то особую пикантность. Анатолий Шамардин пишет прекрасные песни
на стихи Нины. Мелодии этих песен и само их исполнение певцом и композитором
углубляют ее стихи, помогают нам увидеть скрытую суть этих стихов, которую при
поверхностном взгляде на них не каждый может увидеть и разглядеть. Нина
Краснова - гордость Рязани!
...По
окончании вечера Нина Краснова устроила в библиотеке фотосессию и
сфотографировалась на память с участниками и гостями праздника. И раздарила им
все свои книги, которые привезла с собой.
В
Интернете много упоминаний об альманахе "Эолова арфа". См. сайты:
клуб "Литературная кухня" при библиотеке им. М. Волошина, курируемый
журналом "Студенческий меридиан", альманах "Гусь-бука",
журнал "Наша улица" и т.д.
- - - - - - - - - - - - Конец страницы - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Информационная поддержка альманаха «Эолова арфа»:
«Независимая газета»
«Литературная газета»
газета «Слово»
журнал «Студенческий меридиан»
журнал «Юность»
журнал «Детское чтение для сердца и разума»
«Эолова арфа» приносит свою благодарность за участие
в сборе материалов для альманаха и за поддержку:
членам редсовета рязанцам Алексею Бандорину и
Людмиле Салтыковой.
«Эолова арфа» приносит свою благодарность за участие
в сборе материала и за поддержку:
члену редсовета, редактору-консультанту Петру
Кобликову.
«Эолова арфа» приносит свою благодарность за помощь
в издании альманаха:
писателю Юрию Кувалдину и художнику Александру
Трифонову.
- - - - - - - - - Конец страницы и начало новой
сьтраницы - - - - - - - - - - - - - - -
Реклама
__________________________________________________________________
БИБЛИОТЕЧКА ПОЭЗИИ
Союза писателей Москвы
«Что
делать нам с бессмертными стихами?» – воскликнул Гумилёв по совершенно другому
поводу, но сегодня это звучит – увы! – слишком конкретно. Как быть поэзии в
жестоких условиях рынка, как ей быть в попсовом телевизионном пространстве, в
бездонном, слишком доступном для графоманов Интернете?
Это
факт: поэзия с каждым годом богаче, а читателей всё меньше.
Вот
мы и решили внести свой, пусть небольшой вклад в дело преодоления такой болевой
ситуации. Решили выпускать недорогие книжечки избранных стихотворений
современных поэтов – членов Союза писателей Москвы. Эти книжечки – своеобразные
визитные карточки для представления данных авторов-профессионалов широкому
кругу читателей.
Идея
библиотечки давно носилась в воздухе. Но Союз писателей Москвы смог приступить
к ее осуществлению только сейчас.
К
сожалению, массовый читатель знаком только с немногими ключевыми фигурами
современной поэзии. Но есть много поэтов, заслуживающих внимания, но не
удостоившихся по разным причинам всенародной известности. Их знают, в основном,
только профессионалы, коллеги по литературному цеху. Но так хотелось бы, чтобы их имена стали известны
многим.
Поэтому
для тех, кто заинтересуется тем или иным автором, мы даем его краткую
библиографию.
Будем
надеяться, что число помощников и спонсоров библиотечки со временем увеличится, тогда и периодичность издания, и
тиражи возрастут, а уж за поэтами дело не станет!
Библиотечка
поэзии СПМ начала выходить в августе 2008 года.
Идею
библиотечки предложила поэтесса Людмила Осокина. В первом, точнее, в
нулевом, так называемом,
экспериментальном выпуске, вышла книжка Нины Красновой. В конце 2008 года вышла
еще одна книжка Александра Ревича, правда, уже в совсем другом оформлении. В
2009 году вышли книги Евгения Бунимовича, Елены Лапшиной, Юрия Влодова, Людмилы
Осокиной.
Главным
редактором библиотечки является Людмила Осокина.
Редколлегия
состоит из Елены Исаевой, Елены Лапшиной, Кирилла Ковальджи, Алексея
Караковского, Нины Красновой, Татьяны Кузовлевой, Галины Нерпиной, Александра
Тимофеевского.
Книжки
библиотечки продаются в Книжной лавке Литинститута (Тверской бульвар, 25),
книжном магазине «Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер, д. 12., ст. м.
«Пушкинская»)
Не
так давно у Библиотечки поэзии СПМ
появился свой сайт по адресу:http://poezia55.ucoz.ru.
На сайте представлены электронные версии вышедших книг.
Редколлегия
-
- - - - - - - - Конец предпосл. страницы и начало посл. страницы - - -
«Эолова
арфа
литературный
альманах
выпуск
2
Москва
2009
Редактор
Нина Краснова
Художник
Александр Трифонов
Сдано
в набор 15.06.09. Подписано к печати 17.08.09. Формат 60х90 1/16.
Бумага
офсетная. Гарнитура “NewtonC”. Печать офсетная.
35,15
уч.-изд. л. (авторских листов). 42 п.л.
(печатных листов). Тираж 700 экз.
Издание
Нины Красновой
при
поддержке издательства “Книжный сад”
www.krasninar.narod.ru
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - На последней внутренней обложке
альманаха высказывания Гоголя о жаргоне
в языке - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
Г.
В. Гоголю – 200 лет!
__________________________________________________________________
Николай
Гоголь
О
«языковом жаргоне» в литературном языке
...Виноват!
Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж
делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово с улицы попало в
книгу, не писатель виноват, виноваты читатели и прежде всего читатели высшего
общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а
французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве,
что и не захочешь... А вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма
выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего
сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем
какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым
строгим, очищенным и благородным, словом, хотят, чтобы русский язык сам собою
опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на
язык...
1842. Мертвые души.
...дамы
города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною
осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я
высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос, я
обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот
стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что
бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан не хорошо ведет
себя» или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык,
половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто
было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое
дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых.
1842. Мертвые души.